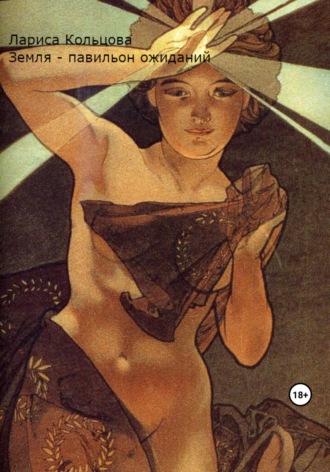
Лариса Кольцова
Земля – павильон ожиданий
Карина – мать Рудольфа
Когда счастья много, им хочется поделиться со всеми
Она забыла закапать капли в глаза, и Рудольф попытался напялить на неё свои солнечные очки. Они сваливались на самый кончик её носа, и Нэя хохотала от глупейшей игры, ловя их. Наконец Рудольфу надоело, они зашли в узкую старинную улочку, где и обнаружили первый попавшийся старомодный магазинчик самообслуживания, и уже там подобрали очки по её размеру.
– Ну и безвкусица! – заявил он, вертя легчайшую безделицу, – Сойдёт, чтобы пройти всего несколько сот метров без устрашающих последствий, как напугал тебя доктор. Лично я ему не верю, он перестраховщик, как и все врачи. Хорошо ещё, что это сувенирный городок, и тут подобной ерунды навалом. В горы без очков лучше не соваться, если кому припрёт желание карабкаться повыше, к леднику поближе.
На улице он держал её за руку. Она очень старалась выглядеть красивой не для других, для него. Внимание других должно только подчеркнуть для него её привлекательность. Так она думала. Изящным жестом, подсмотренным где-то в одном из ознакомительных фильмов о Земле, Нэя как подлинная земная модница поправила белые дужки сверкающих на солнце очков. Он заметил её жесты и одёрнул за руку, не сильно, но с обидной грубостью, как поступают иногда родители с неуместно заигравшимися детьми, – Уймись! Для кого тут стараться? Не видишь, что ли, здесь кругом равнодушные биороботы.
– В каком смысле? Мыслящие машины?
– Вроде того. Двуногие ходячие программы, занятые лишь собой. Даже будь ты с двумя лицами по обе стороны головы, они не обратят на тебя внимание никогда.
– Они мне улыбаются…
– Не тебе, а сквозь тебя. К сожалению, ты не на моей настоящей Родине, а только в той географической точке, где я по чистой случайности родился, но никогда не жил. И уж тут благодари Франка, что засунул тебя сюда.
– А там, где ты жил, другие и настоящие земляне?
– Для кого как. Для меня – да.
– Разве на Земле нет единства всех землян?
– Нет. Не было никогда. И не будет, хотя кому-то мечталось и мечтается. Правда, и мечты у мечтателей весьма разные. Деградация, доставшаяся всем нам в наследство от Эпохи глобальных войн, оказалась слишком уж глубокой и не во всём обратимой по сию пору. На Земле существуют лишь отдельные кластеры высокого развития и более-менее мирное и благополучное прочее большинство. Очень далёкое от звёздных устремлений вообще.
– Ни ты, ни доктор, да и никто, никогда о том не говорили прежде.
– А зачем? Будь иначе, в чём был бы смысл дальнейшего развития? Сыгранная игра была бы давно свёрнута, а сам стол очищен для новой игры.
– Непонятно…
– И не надо. Думаешь, я всё постиг и всё прозрел? – спросил он.
– А там, где ты жил прежде, все земляне такие же различные по облику, по цвету кожи, волос и глаз? – спросила она.
– Более – менее разные, – тема его явно не увлекала. – Слушай, я устал от прежней своей болтливости. Я хочу пожить хоть немного молчаливо. Более-менее…
– Такое чувство, что тебя подменили…
– Опровергать не могу. Может, тот человек, с кем ты столько ночей спала рядом в своей Паралее, действительно, там и остался. А теперь рядом тот, кого тебе только предстоит узнать по-настоящему.
– Намёк на то, что зря я тут оказалась? – спросила она, не понимая, в чём смысл его странной игры. Поверить в серьёзность его слов ей не хотелось.
– Нет никакого намёка. Я и сам того не знаю. Может, я и сам жалею, что не остался в Паралее навсегда…
– Но как же…
– Земля отчего-то кажется мне потускневшей, будто подменённой, если не пустой. Будто мы вернулись куда-то не туда…
– Давай вернёмся? – и она улыбнулась вроде как сквозь него, если принять его же обозначение фальшивой улыбки.
– Не получится. Поскольку я не уверен, что и Паралея была в действительности, – он не улыбался, хотя и смотрел сквозь неё. Но не пусто или безразлично, а печально. Даже морщинки у глаз вдруг обозначились, возможно, от того, что он резко похудел. Со стороны гор дул ветер, рождая образы скрытых где-то холодных озёр, лесов и лыжных трасс высокогорья. Дышалось глубоко, душисто от альпийских пространств, расположенных где-то выше, от цветников и кустарниковых зарослей вблизи. Городок был пуст и сонно тих. Он, действительно, походил на красочный и почти необитаемый сувенир. Какие-то безразличные и малоприметные люди сновали иногда, не обращая ни малейшего внимания на неё, ни на что вообще.
– Где все? – спросила она, – люди?
– Городок в табакерке, – усмехнулся Рудольф. – Люди – вечные заведённые колокольчики работают, учатся, отдыхают. Здесь не слоняются по улицам, как у вас.
– Колокольчики? Это как? Как цветы или потому, что они звенят? Но я не увидела ни одного заметно-красивого лица.
– Если бы доктор посели тебя в Москве, ты увидела бы там множество фантастически красивых лиц.
– Он почему-то решил, что ты обрадуешься, что он сумел обрести нам с тобой жилье именно тут.
Рудольф даже остановился от изумления, – Почему он мне-то ничего не сказал? Почему не обсудил, где именно я буду жить? Чего ради я буду тут торчать?
– Я не знаю, – растерялась Нэя, ощущая личную вину за промах доктора. – Он сказал, что не один лишь климат там контрастно-континентальный. Устроиться там это очень большие затраты, а он использовал тот счёт, который ему и выделили соответствующие структуры, где он и работает.
– Он? Он разве твой муж? Почему проявил такую активность ради твоего обустройства, будто меня это и не касается? А я сам в его мнении ничего уже не стою?
– Он сказал, что устроиться в Москве непросто и для тебя. По закону тебе полагался комфортный номер в каком-нибудь отеле до времени, когда тебе выделили бы то жильё, которое тебе и соответствовало бы по твоим заслугам. До этого момента многие живут у родственников, если хотят. В доме твоего отца долго никто не жил, и доктор не посмел проявить самостоятельность в том, чтобы организовать там ремонт помещения. К тому же в любой день может вернуться сам хозяин. А если бы ты не захотел жить со своим отцом?
– Конечно, не захотел бы. Ещё чего! А он нуждается разве во мне? Разве я бродяга какой, чтобы ютиться в чужой конуре, пусть и временно.
– Франк не знал, где ещё тебе нравилось жить до твоего отлёта. Он сказал, что ты сам потом разберёшься, где тебе жить. Главное было устроить меня. Если честно, на твоей Родине не было проблем для устроения, но он думал, что ты привязан к этим местам. Потом мы сможем выбрать себе любое место. Как только ты войдёшь в привычную колею, так сказал доктор.
– Какая тут Родина? Чья? Я всю сознательную жизнь прожил в пределах России. А тут только гостевал, да и то никого не радовал. Вообще-то мне положено жильё в одном из жилых комплексов в космическом секторе Москвы, в центре, а не на окраине захудалого альпийского городка, где я никого даже не знаю лично, кроме собственной матери. Франк чего-то намудрил. Он точно хотел, чтобы ты была ближе к нему. Поскольку сам он живёт где-то в Альпах. А мужчин симпатичных ты не приметила здесь?
– На мужчин я не смотрю. Зачем они мне? Вдруг бы они что-то не то подумали? А на чём тут перемещаются, если надо куда-то далеко?
– Перемещаются на воздушном и на подземном транспорте, скоростном. Потому что воздушные машины – дорогое удовольствие, а личные, они есть далеко не у каждого. Их ещё и заработать надо. Я двадцать лет задыхался в трольских подземельях, чтобы заработать на свой личный аэролёт. А ты думала, что у нас тут всеобщее благоденствие? За просто так? За так – дешёвый тесный семейный отель, или ещё теснее – для одиночек.
– Значит, не рай?
– Нет, конечно, – тут он решил её утешить, для чего прижал к стене дома и стал целовать. Какая-то особа непонятного пола, то ли худой смуглый парень, то ли сильно загорелая и коротко остриженная девушка зачем-то приостановилась рядом с ними. Рудольф её не заметил, а Нэя увидела. У существа на лице сияла белозубая улыбка, а глаза были скрыты козырьком от солнца, тогда как макушка была не закрыта. Нэя прижала Рудольфа к себе ещё крепче, чтобы он не увидел это любопытное существо и не рассвирепел. Сцена чужого поцелуя, похоже, вызвала у прохожего или прохожей очевидную радость, поскольку он или она даже захлопала в ладоши. Сами руки показались всё же женскими, слишком уж маленькими и ухоженными были ладони. Наверное, у бедняги никогда не было своего парня, так подумала Нэя. И она не знала, что такое поцелуй?
– Ты моя сувенирная куколка, – сказал он.
– То есть? – спросила она обиженно и серьёзно, – Никчемность?
– Я всего лишь ласкаю твой слух , – ответил он. – Ты мой инопланетный сувенир, моя драгоценная никчемность и обременительная роскошь. Но если ты думаешь, что кто-то будет тобою здесь восхищаться, то разочарую тебя. Недоступная роскошь не восхищает, а только раздражает тех, кому она не нужна. И озлобляет жаждущих недоступного. Так что тебе следовало бы оставить на Паралее свою привычку очаровывать тех, кто для тебя лишь посторонние. Здесь слишком занятые собой, своими ничтожными делами или большими достижениями, люди. Можешь тоже обозвать меня в отместку.
– Ты захватчик, ты неисправимый угнетатель, беспутный гуляка и грубый насмешник.
– Космический пират, необузданный поработитель женских душ, – добавил он, – жадный накопитель всяческого барахла, закабаливший в том числе и себя самого.
– Когда я освоюсь в незнакомых этих ландшафтах, я опять убегу от тебя. Я устала от тебя уже и сейчас…
– Ты серьёзно? – он вглядывался в её глаза, не находя поддержки своей игре.
– А ты? Выходит, я тоже подмена, если ты жалеешь о Паралее? Ведь ты никогда не любил Паралею, но меня ты там любил. Сам же говорил, что я единственная ценность, которую ты и украл у Паралеи, чтобы уже не вспоминать о ней никогда…
Вместо ответа он повторно впился в её губы. И как ни задевали его дурацкие игры, она не могла ему не отвечать, жалея только об одном. Слишком рано они вышли из дома…
Наконец странная и тонконогая девушка ушла. Вокруг в узком переулке, похожем на коридор, уже не было ни одного человека. Да и сами дома вокруг не напоминали те, где могут жить люди. Чисто природная, а не городская, тишина удивляла и ощутимо ласкала кожу одновременно с нереально ласковым прикосновением самой земной атмосферы, вернее, лёгкого тёплого ветерка. Температура окружающего воздуха была настолько комфортной, будто они находились в помещении с идеально отрегулированным климат – контролем. Это был реально сувенирный городок в нереальном мире. Как могла такая красота, тишина и ощущаемая даже порами кожи безопасность окружающего мира раздражать его? Никакая Паралея уже не тревожила память Нэи и, казалось, не потревожит и впредь.
Рудольф, заметно опьянев после запойного поцелуя, сказал, – Я же пошутил. Тебя-то уж точно не подменили. А что ты думаешь в отношении меня?
– Никакой подмены я не обнаружила, если судить по тому, что было у нас в нашем земном доме… только причёска твоя меня и удивляет, а ещё твоя придирчивость…
– Моя? Разве не наоборот?
– Согласись, что мы взаимно придираемся друг к другу. Ну, ладно, не соглашайся. Пусть уж я буду в чём-то немножечко виновата. Даже в том, что твоя же родная Земля тебе не глянулась отчего-то…
– Вечером я покажу тебе любопытное местечко. Ничуть не похоже на ту скучную забегаловку, куда притащил тебя Франк. Боялся растратиться. Он жаден, как все старики. Не скажу, что там весело, поскольку тут разучились по-настоящему веселиться, а это качество, если его утратить, не возвращается уже никогда. Но в том месте, о котором я говорю, прежде был роскошный интерьер, созданный по проекту дизайнера, рождённого в удивительной по красоте космической колонии. От этого у людей с детства развивались необычайные художественные способности. Вот как у тебя в твоей фантастической Паралее. Пусть Паралея и была социально порочна, но природа-то её уникальна и неповторима. Как будто её кто-то настроил на самое благое существование человека там. Ни климатических перекосов, ни свирепых хищников, исключая глухие и безлюдные места, ни геофизических катастроф. Болезни и те минимальные, поскольку вычищены сами природные резервуары, где их было бы логично ожидать. Я уверен, что Паралея была искусственным миром.
– Я не хочу говорить о Паралее. Расскажи о том месте, куда мы скоро пойдём.
– Само помещение в том ресторанчике похоже на пульсирующую галактику, вспышки звёзд, но всё, понятно, имитация. Там всегда много людей, все веселятся и танцуют. Это когда звучит музыка, и можно прижиматься друг к другу у всех на глазах. Я тебя научу. Там ты явишь любой из самых экстравагантных своих тряпичных шедевров. Даже если за двадцать лет всё изменилось, и того местечка уже нет, мы найдём что-либо похожее. Ты быстро всему научишься. Нашим танцам, языку. Ты же бывшая актриса, имитаторша любого действия.
– Но только не любви. Её имитировать нельзя. Невозможно.
Руки, протянутые из прошлого
Проходя мимо цветника, он сорвал алый цветок и, осмотрев его внимательно на наличие замаскированных в листьях колючек, аккуратно вдел его в причёску Нэи, зацепив за диадему – украшение, наследие её мира. Кто делал ей там такие виртуозные штучки, он не знал, но камни были те, что дарил ей он, -синтетические, правда, но красивые. Кажется, это был тот несчастный Реги-Мон. Насколько ярко она помнила о нём, о художнике, о несчастном актёре, сыгравшем свою последнюю роль – роль её мужа? Следом в воспоминания из чулана подсознания притащился человек-ящер…
Он расплатился за преступление, которого не совершал, хотя за всё прочее и неотмщённое он точно заслуживал предельной кары. Высунулся и Олег со своей Колибри…
Однажды Рудольф вошёл в служебный отсек доктора, когда тот вправлял голову жалкому вояке с силами тьмы. Поскольку в результате такой вот битвы Олег и провалился в пограничное состояние на грани душевного расстройства. Врачуя Олега, Франк сказал ему, – Разум – это нравственный ум и созвучие с Промыслом, а неправедный рассудок всегда безумие, наносящее урон окружающему, тяжкую рану собственному духу.
Олег махал руками, возражал, – Нет никакого Промысла! Есть только чей-то произвол, бросивший нас в чёрную яму Космоса, где мы обречены гибели, обречены гнить, сгнить окончательно без всякого объяснения смысла всему! Мы сами, всё человечество – выкидыш чего-то недоразвившегося, отринутого, и ничем не лучше тех, кого именуем свысока троллями.
– Почему произвол чей-то? Если он твой. Ты сам и посадил себя в яму беспросветности, но почему-то присвоил себе право быть всем звёздным человечеством. Ты не человечество. Ты преступник, хотя и оправдываешь себя чужой неправедностью. И отныне вместо того, чтобы жить полноценно, ты будешь долго, очень долго, может быть и всю свою жизнь выпрямлять порушенный вектор – вертикаль своего духа. Иначе тебе не удастся подключить своё сознание на космические смыслы, утраченные тобою. Ты обесточен. Я, конечно, могу вернуть тебе психологическое равновесие, даже обязан сделать это. Но как человек ты теперь ноль, и тебе придётся начинать строить себя с этого ноля. И ты сам обнулил всю свою предыдущую жизнь. Счастье твоё, что ты очень молод, и у тебя впереди есть милостивое время…
Рудольф сел на край ветхого, но любовно сохранённого городского фонтана. В центре самого водоёма на скале сидела каменная девушка и смотрела вниз на лилии из белого, полупрозрачного полимера, откуда также били водяные тугие струи, как и с боков ограждения. Изваяние, преломляясь через их множество, их ажурный подвижный переплёт, казалось живым, только что искупавшимся милым созданием.
И Рудольф замер, увидев в ней, но правильнее в себе, девочку, моющую ноги в каменном бассейне маленького фантастического сада на планете Паралея. Девочка не сумела его простить и полюбить. Он влез в фонтан и побрёл по пояс в воде к её подножию, к скале. И подойдя, обнял каменные скульптурные ножки, как делал с Нэей перед выходом. Он утешал её в том, в чём нельзя было утешить. В том, что не подлежало возврату, чего не существовало уже нигде, но осталось в нём. В её обидах, которые она оставила, сбросила ему, уйдя навсегда.
Камень не откликнулся, ледяной и скользкий. Это был миг безумия, или же миг вздрогнувшей совести, и незримый шип вызвал физически ощутимый укол. Совесть была в шипах, и чтобы не дать её стрежню вращаться, надо было тихо-тихо уговорить, умолить, замереть, и она опять заползёт в свою окаменелую ракушку в живой плоти души.
Нэя замерла, но в расширенных глазах билась паника. Редкие прохожие притормаживали своё ускорение, а кое-кто и менял свою траекторию движения, чтобы уяснить, для чего странный тип залез в одежде купаться в городской фонтан.
– Руд! – она опустилась коленями на край обрамления фонтана, на его каменные и замшелые листья, обрамляющие весь бассейн – чашу. Они холодили её через ткань платья. Боясь упасть, даже в такую минуту помня о платье и о неизвестной строгой маме, что будет её пристрастно оценивать, она не знала, что ей делать. Но Рудольф уже выбрался, мокрый, с залитыми водой волосами, невозмутимый, глядя на прохожих со смехом. Он всегда умел скрыть то, что хотел.
– Я только недавно прибыл оттуда, – и он указал вверх в голубое небесное пространство. – Двадцать лет без Земли. – Язык, который он использовал был не русский, который она немножечко уже понимала.
Люди с пониманием улыбались ему, жали руки, у одной девушки выступили слёзы на глазах от сочувствия. Они поняли его, как потерявшего самоконтроль от радостной встречи с Родиной. И счастливо улыбались, что-то наперебой говорили на языке, которого не понимала Нэя. И только она знала не радостную причину, толкнувшую его на нелепый поступок. Но Нэя думала, что он принял скульптуру за Гелию, а не за дочь Гелии. По длинным волосам каменной девушки стекали капли воды, она смотрела в бассейн, не видя Рудольфа. Она тянула каменную руку к лилиям, а не к нему. В её каменной застывшей структуре не было чувства к человеку, просящему у неё прощения за неведомые ей грехи. Вечное дитя давно забытого творца – скульптора, она жила в другом времени, и сейчас у неё не было ни радости, ни слёз, ни счастья, ни несчастья, а только неподвижность мгновения, как печать ушедшей её жизни. Игра воды и света давали ей иллюзию жизни, но не саму жизнь.
– На каком языке ты с ними общался? – спросила она.
– На том, на каком они тут и говорят.
– Если бы ты заговорил на русском, они не поняли бы тебя?
– Может, и поняли, но уверяю тебя, так не лыбились бы как бы от души. Они не любят русских. А я не люблю их, – из этого следовало, что благого мира и гармонии тут не существовало. Зачем доктор Франк поселил её здесь, зная, что Рудольфу ни эти места, ни населяющие их люди, не милы? Или же… он хотел их разделения?
Они вернулись в дом, где Рудольф переоделся. Хорошо ещё, что они отошли совсем недалеко, и ему не пришлось мокрому идти через весь город. Но в холле дома у лифта редкие встречные смотрели удивленно, хотя и деликатно молчали, взирая на водяного и не зная, как это расценить. Как шутку или некое несчастье, случившееся с человеком? Рудольф сиял улыбкой, и это всех успокаивало. Ему ответно улыбались, подыгрывая странной игре странного человека. Свою помощь не предложил никто.
Критичная, скептичная, а также архаичная Карина
«Странная особа» – подумала Карина и обошла девушку со спины, чтобы убедиться в том, что у неё нет крыльев сзади, до того она была похожа на ангела, каких изображали на старинных рождественских открытках. Часто ангелы имели именно девичье обличье.
«Странный же вкус у него», – опять подумала надменная женщина, ведя себя в самые первые минуты так, будто он только вчера был у неё. Материнской всеохватной радости, во всяком случае, она ему сразу не явила.
«Но таким он был всегда, в своего отца, тоже никогда не имеющего вкуса на подлинных, бесценных женщин».
Любая пошлая и примитивная яркость была способна очаровать его. Не изжитое и за тысячелетия цивилизации специфическое варварство жило в её сыне, как и в отце Паникине, или это и было их неисправимой уже родовой структурой, которую они гордо именуют загадочной русской душой.
Платье гостьи, белоснежное, завязанное мерцающими тесёмками на груди, всё же мало сочеталось с ангельским личиком. Грудь бесстыже лезла наружу изо всех умышленно продуманных разрезов и ажурных вставок. И закрыто, вроде, и всё на виду. Даже соски выделялись под тончайшей тканью.
«Кудесница, ничего не скажешь».
Длинные волосы перехватил тонкий обруч в виде диадемы. И туфельки прозрачные, все пальчики проглядывали также невинно и бесстыдно маняще. Хорошенькие такие пальчики, маленькие, выточенные, женственные. Херувим и есть херувим. Невинные глазёнки столь же мало вязались с выставленной на любование всем грудью, как и она сама с реальностью, то есть с её сыном, стоящим рядом во всём чёрном. Настолько контрастно они выглядели.
И узнаваемый, и нет, он ошеломил её неожиданным, непривычным, заматерелым обликом. Конкретно поживший, возможно, много чего переживший, мужчина, напрочь лишённый юношеской лучезарности, как она его запомнила. Вернее, таковым себе представляла в минуты материнской печали. Черты лица стали резки, глаза печальны, рот же мужественный, ярко выраженный, тот самый, который любят женщины, волевой и чувственный, как писали в старых романах. Волны своих бесподобных волос он состриг коротко, но было заметно, что волосы хороши, густы и блестящи всё так же.
– О, мой милый, мой прекрасный, родной мальчик! Майн Гот, не сплю ли я? – она прижалась к его груди, к изображению родных Альп на его майке. Видимо, он приобрел одежду здесь в сувенирном автомате. И замерла. Он был высок, как и отец Паникин. Бестолковый, незабываемый Паникин, не дающий о себе забыть, не дающий отбросить себя в забвение. И ручищи такие же здоровые, и весь он. Она стала ласкать его руки, прижиматься губами, чего не делала никогда в прежней жизни, внезапно выйдя из своей ледяной неподвижности. Но ведь он и вернулся всё равно, что из небытия, из нечеловечески страшного Космоса. И через столько лет.
Она заплакала, но молча, жалея о том, что не давала ему раньше своей ласки. И сейчас он выглядел растерянным, сбитый с толка непривычным поведением матери. Она же вдруг впервые ощутила своё вселенское одиночество, почти осязая плотность их уже не исправимого отчуждения. Зачем он опять прибыл к ней не один, с кем-то, кто она ему? И Карина умышленно игнорировала девушку, если не девчонку. Пойми, какие трансформации там с ним приключились. Об этих космодесантниках ходили всякие чёрные легенды. Не просто так их старались не держать на Земле долго, а побыстрее норовили куда-нибудь сплавить опять. Оберегали тишину и выстраданный покой социумов Земли, а эти вечно что-то вытворяли, выпав из всех прежних и необратимо изломанных рамочек приличия.
Глаза-то у пришедшей нимфетки определённо не детские, но кто её знает. Да и ухищрения, с какими она выставила свои достоинства, говорили о многоопытности. Не простая штучка. Карина даже затылком повернулась, демонстративно показывая ей своё пренебрежение. Ей был нужен сын, она мать, самая близкая ему, а ты-то кто? Сегодня ты, а завтра уже и не ты.
– О, майн Гот, ты дал мне это счастье! Он жив, мой мальчик, – она скакала с немецкого языка на русский. Он же был и русским и немецким мальчиком. – Как же я тосковала о тебе! Как плакала, боясь, что потеряла навсегда. Как же я люблю тебя! И только тебя одного в этом мире. А то, что я не умела выражать своих чувств, это была моя беда, мое несчастье всегда…
Он вытирал её слезы платочком с кружевами, подсунутым растроганной ангельской обманкой, у которой на глазах тоже выступили слезинки, повисли на её очаровательных натурально-пушистых ресничках, даже не тронутых косметическим украшательством. Уж что-что, а этим Карину обмануть было невозможно. И видение её слез как-то примирило мать с присутствием в такую минуту той, о ком заранее никто и не поспешил сообщить. Или же… Ксения сказала, что он прибыл сюда с женой. Выходит, остановился в гостевом отеле? Вчера прибыл, а к матери зайти сразу же не захотел? И это после стольких лет разлуки?! Вот они, дети, вот она, их любовь-благодарность к матери, столько ночей проведшей в страдальческой бессонице…
Казалось, в доме матери ничего не изменилось, не считая несущественных деталей. О чем это говорит, когда кажется, что время застыло в жилище того или иного человека, в его интимной скорлупе – доме? Считается, что такое окостенение времени, выраженное в неизменности вещей, говорит о старении человека. Пропадает тяга к переменам и начинается процесс консервации и внутренней, и внешней. Но внешне мать была почти прежней. Вот именно «почти». Она никогда не была слезливой. Её губы непривычно раскисли. Полные, когда-то красивейшие, руки будто ожившего персонажа со старинного портрета, белые и гладкие, нервозно и суетливо елозили по его рукам и бокам, и даже погладили его ягодицы, ласково как маленькому мальчику. Но испепеляющее Нэю сверкание её глаз было заметно и через слёзы, искренние и неожиданные не только ему, но и ей самой.
Итак, Нэю она не приняла сразу. И это навсегда. У неё только так. Или сразу принимает или нет. Потом, как бы человек себя ни вёл, она уже не меняла своего к нему отношения. Будто и не было такого явления на свете, как способность людей меняться. Но она считала, что люди себе верны всегда. Добряк может споткнуться, злой размягчиться, но природу не переделать. Вот как она считала. Нэя была забракована как безделушка. Да милая, да посыпанная радующими глаза блёстками, но не годная для длинной жизни. Забавный сувенир из тех, кого помнут в пальцах, потеребят, порадуются и забудут на дальней полке навсегда покрываться пылью до времени уборки души, когда всё это накопившееся барахло летит в утилизатор.
Карин уже не смотрела на Нэю, не общалась с нею, вынеся ей свой приговор. В её столовой, тоже не изменившейся с тех лет, обширная двойная и старинная дверь, распахнутая на смотровую площадку, переливалась своими витражами безупречной начищенной красотой. Сияли Альпы, синело небо, на столе стояли фрукты в вазе из старого богемского стекла. Мама ждала, но откуда знала? Рита сказала? Воздух был наполнен кофейным ароматом только что открытого из герметичного контейнера кофе. Всё, как и прежде. Войдя в такой дом, не хотелось отсюда и уходить, если по первому впечатлению. Остаться бы тут навсегда, расслабиться в сказочно-декоративном по виду уюте. Обманчивое впечатление, к сожалению, быстро улетучивалось, обычно. А уж как будет на этот раз? Он не знал. Но как-то не верилось в благое умягчение характера матери.
– Ты ждала? – удивился он, – но откуда узнала? Кто сказал, что я здесь? Рита?
– Когда и что мне говорила эта старая зассыха Рита?
– Старая? Разве она старая?
– Да она старше меня! Не знал? Дурачок! Так никто и не открыл тебе глаза на эту Фату-Моргану с её миражной юностью? Мог бы и сам догадаться. Она, видишь ли, с другого этажа нашей жизни, а у них там другое измерение времени. Что же твои коллеги из такой секретной структуры о том никогда не говорили?
– У нас там, знаешь, обсуждение сугубо личных тайн людей не в почёте. Вслух, во всяком случае, о таком молчат. Если только в кругу домашних и близких что-то и обсуждают.
– Ты же был у Воронова почти родственником в его доме. И что же? Никто не намекал на подобных супер гомункулах, выращенных в закрытых центрах? Именно в вашей ГРОЗ их полно!
– В доме Воронова никто не считал меня родственником.
– Как же нет? Артём был тебе ближе отца родного. О дочери его умолчу… не ко времени, вроде…
– Почему же именно Воронов должен был мне что-то и сообщать о заманчивых тайнах такой структуры как ГРОЗ?
– Чего там заманчивого? Скорее уж, зловещие эти тайны.
– Почему же?
– А что хорошего в том, что иные особи присвоили себе право продлять себе жизнь на ещё один срок, не ставя в известность о таком всё прочее человечество! Ресурсы-то принадлежат всем, а пользуются избранные, как и когда-то. Мало разве выпало мрака и страданий на головы прошлых поколений из-за этих якобы избранных тварей, возомнивших себя полубогами?
– Хороши секреты, о которых знают все.
– Так и бывает с секретами. Все как будто о них знают, но в действительности не знают ничего, одни фантазии. Тебе-то разве твой продвинутый учитель и тренер никогда даже не намекал о том, какие таинственные персоны управляют вашей же ГРОЗ?
– Разве Артём Андреевич принадлежал к их числу?
– Артём? Нет. Он, как и мы. Как большинство. Да его и нет на Земле. И есть ли он вообще, не знает уже никто. Пропал где-то в вашем прожорливом Космосе – Хроносе.
Мама посмотрела на Нэю, раздумывая на каком языке ей общаться с сыном, чтобы его спутница ничего не поняла. Перешла на русский, решив, что уж такую-то сложную речь она точно одолеть бы не сумела и за более длительное время. Так что опасаться глухонемого ангела не стоит. Нэя, действительно, не владела ни одним из земных языков, если только понимала отдельные фразы. Обучение шло на начальной фазе. Но то, что именно с русским дела обстоят вовсе неплохо, того Карина не знала.
– У меня сегодня ночью была твоя Ксения.
– Ксения? – он замер, – Когда и было, что она была моя. Почему ночью?
– Вот и я спросила у неё, почему ночью? Не спится, сказала. А ещё плакала, говорила, что забыл, а она ждала. Но напрасно всё. Ты её вчера видел? В этом, как он называется? «Отдых в долине».
– Ждала? С кем-то в обнимку. Ну, это в её стиле. Как раньше. Душой я всегда с тобой… Главное, душа принадлежит только тебе. Потрогай, какая нежная у неё структура, а всё прочее? Это временное и обманчивое добро, то, что мы, дети вечности, берём у жизни внаём на краткий лишь срок. Общественные молекулы, круговорот веществ в природе. Раньше они были у кого-то и ещё в пользовании, а теперь их дали нам поносить, но на время, всего лишь на полторы сотни лет, да и то не факт. Большинство и в сто лет устают их таскать, душа устаёт от ноши. Утешение для идиотов..
– Чего разошёлся? Если тебе всё равно теперь. Я помню, как ты говорил ей, не стесняясь моего присутствия, за этим самым столом, когда она умоляла тебя одуматься: «Душой я всегда с тобой, не реви! А то, что трахаю другую девчонку? Так временно! Жизнь-то временная. А уж в вечности мы с тобой и заживём! Правда, в отношении секса ничего обещать не могу. Есть он там, нет ли, не проверял пока».
– Сразу с порога начала с привычных пошлостей. Откуда ты могла и запомнить какую-то белиберду, откровенную ругань слово в слово?
– От кого же, по-твоему, тебе и передана такая уникальная память, какой ты и наделён? От меня. От твоей матери.





