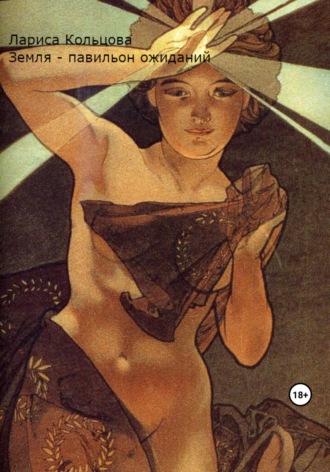
Лариса Кольцова
Земля – павильон ожиданий
– Ну и прожорлива! – веселилась мать, – у них там голод, на их планете?
– Вроде того, – буркнул он, не желая поддерживать её насмешек над человеком, не понимающим чужого языка.
– Скажи, – спросила она, пребывая в благодушном настроении, – она миниатюрна, и что с лёгкостью налезает на твой большой фаллос?
– У меня нормальный, – он чуть не подавился её гусем. Полубезумный Воронов и столь же полубезумная мамаша, сложи они в своё время вместе эти свои нестандартные души-половинки, явились бы уже полноценно безумной парой, – их гармония вполне могла заявить о себе и таким образом. Об их давней безумной любви ходили легенды в ГРОЗ, о чём Карина благостно не подозревала, будучи далека и от России, и от космических структур.
– Я наблюдательная. Не думай. И я твоя мать. У тебя не может быть физиологических тайн от меня. Тебя всегда любили потаскухи. Они любят именно таких «гипербореев», – она издевалась над его увлечениями альтернативной историей в молодости.
– Мне кажется, это непристойности, то, что ты говоришь… вываливается за всякие рамки. Ты вообще-то в порядке?
– Да ладно. Любите вы все корчить из себя кого-то, кого нет на грешной Земле. Вы, мужики, нечисты и похабны, и в своих мыслях, и в своих действиях. И вся наша земная история, совершённая под вашим руководством, тому доказательство.
– Мама! – упрекнул он, чувствуя, как обожгло скулы от её, вот уж и впрямь, «похабных» вопросов.
– Тебе нравятся такие, узкие и миниатюрные? У неё и там всё миниатюрное? Я чувствую, что она не женщина, а космическая находка и воплощённая мечта для любого утончённого развратника. Чего бы ты и прилепился к этому источнику услады? Да ещё из какого-то инопланетного зоосада. Кто там жил? На их планете?
– Тролли.
– Ну вот. Я же и говорю.
Нэя опустила ресницы, розовея щеками. Она уловила как-то непристойность матери и самой беседы.
– С твоим-то опытом, с твоим гипертрофированным индивидуализмом и столь прилепится к девушке, это надо быть ей уникальной во всём. Если ты и Ксению отбросил, не жалея, это о чём-то и говорит.
– Опять Ксения! Жалеешь её?
– Да. Жалею. Она несчастна. Из-за тебя. Всю жизнь.
– Я что ли один на свете?
– Для неё? Ну и вопрос. Сам-то не знаешь? Каким же надо быть толстокожим, чтобы не чувствовать такого редкого дара, который тебе был послан, дара любви нежнейшей, тончайшей женщины…
– У неё муж, кажется. Да у неё и всегда были мужья! Тот же Птич. Он взял её, не глядя, и никогда бы ничего не понял, чей ребёнок мог у неё родиться. Чего папенька и всполошился?
– А ты? Смог бы жить, зная, что кто-то считает твоего ребёнка своим?
– Конечно. Легко.
– Я хочу, чтобы после галактической медово-млечной, и я уверена, недолгой прогулки с Аэлитой, ты женился на Ксении.
– Ещё чего! А с её мужем как?
– Нет у неё мужа. Тот для укрытия, для защиты, что ли. Найди её. Верни.
– Я её и не помню. Когда и было?
– Всё ты помнишь. Я хочу внуков.
– И как давно возжелала стать бабушкой? Артур уже взрослый. Будут скоро правнуки.
– Что мне Артур? Я же внуков от любимой тобою женщины хочу.
– Будут. Не завтра, конечно. Но, как и положено, в свой срок.
– От Ксении?
Рудольф смотрел в её ясные и совсем не смеющиеся глаза, не понимая всерьёз это или её очередная «игра на нервах», как называла такое поведение Рита, жалуясь ему на его мать.
– Ты по-прежнему дружишь с Ритой?
– Ещё чего! Нужна мне эта специалистка по лизанию мужских гениталий. Я уже в другом несколько возрасте. Научилась себя уважать.
– Не похоже, – разозлился он на неё за уклон их беседы, – а сама как? С отцом все дела сдала в архив жизни? Или же балуешься с ним по-старому?
– Хам ты, а не сын, – отрезала она.
– А ты кто? Если говоришь мне подобное же?
– Ешь, ешь, – мать, украшенная добрейшей из возможных своих улыбок, пододвинула Нэе тарелку с салатным листом и креветками, сваренными в каком-то диковинном фруктовом соусе. – Ешь, моя малышка. У вас на звёздах кто тебя этим покормит? Если раньше не умрёшь от несварения своего ангельского желудка. Так уплетать! – И ласкала её выпуклыми красивыми глазами на лицедейском насквозь лице. Нэя же благодарно ей улыбалась, не понимая всей глубины древней земной двуличности. На Троле женщины были проще, наивней намного, и глуповаты по сравнению с дочерями земными. Не так затейливы. У них же там была другая прародительница. И грехопадения никакого не было. Или было?
Рудольф начинал ненавидеть мать. Возвращалось старое. Внутреннее стенание от её интеллектуальных пыток и бессилия её остановить.
– Если бы сейчас здесь сидела Ксюня, ну, представь себе, – сказал он, глядя уже с отвращением на остов наполовину съеденного гуся. – Ты бы говорила нам в глаза, согласны ли мы искренне и честно открыть друг другу свой счёт, имеющихся у нас в разлуке партнёров и партнёрш, чтобы простить и воссоединиться в чистейшем союзе двух любящих сердец…
Именно это она и говорила нам, когда они пили чай с яблочным пирогом, сидя у неё в музее. Она милостиво разрешила им уединиться в подсобном хранилище, кажется. И Лора не была для неё тем препятствием, ради которого стоило бы и шикнуть на парочку, в которой она была замужем, а он женат. Они забрели в пустую, реставрационную мастерскую, напоминающую мусоросборник, Там стояла какая-то пыльная антикварная кровать, хотя нет, всё было вычищено, но ощущение пыли столетий не покидало. Ксюня смеялась, что из древних щелей той кровати того и гляди полезут мумии древних клопов, сосавших кровь у какого-нибудь там Людвига Баварского. Это было нечто! Провал в историю. Они и там ловили норадреналин…
– Тебе хотелось развести меня и Лору, но и Ксюню ты перчила, будь здоров! Она чихала потом всю дорогу от тебя, и не от пыли, а от твоего душевного перца. Эх, мама! Ты неисправима. Возраст не лечит твою злость. Как мог любить тебя отец? И любит, я уверен, до сих пор.
– Любит, любит. Каждый год засаживает своё семя в очередную жену и снимает урожай через девять месяцев. Как и положено.
– Завидно? Сама себе вырасти такой же урожай.
– Ты знаешь, сколько у тебя братьев и сестер? Не интересовался? Их хватило бы на заселение небольшой планеты. А в кого же ты такой? Но, правда, отчасти и разбавленный моим глубинным льдом. Так выражается твой отец. «Они сошлись – вода и камень, стихи и проза, лёд и пламень». Так писал ваш старинный гений.
– Это не о вас с отцом, а о дружбе двух мужчин.
– То есть? Ваш великорусский гений был нетрадиционной ориентации? А всё же удивительно, что не столь уж и многочисленный в настоящем народ был некогда велик, если верить информационным источникам. Да кто же не знает, насколько лживы все исторические источники.
– Да не трепись ты, музейный спец! Даже в святые скрижали наплюешь, просто проходя мимо! Чего ж ты работаешь там, где и сохранены чьи-то лживые вымыслы? Обслуживаешь их вещественные воплощения, создаваемые фальсификаторами – обслугой тех, кому и были угодны те или иные исторические версии…
– Всякому лестно думать, что он мыслящий наследник великой истории, а не игровая распечатка Вселенского Игрока. А ты для себя решил, кто ты? Русский немец или немецкий русак?
– Я русский.
– Русский, русский. Успокойся. Гордись и пой, как говорите вы русские. Вы обо всём поете, всем гордитесь в промежутке между очередным пароксизмом самобичевания.
– Мама! – Рудольф смеялся, не веря, что прошло двадцать лет со времени их разлуки. Она была всё та же. В перепалке они забыли о притихшей Нэе. – Ты всё та же! Но я рад. Оказывается, не так уж и много лет я отсутствовал.
– А ты что же думал, что за два десятка лет я впаду в старческую деградацию? Да ты шутишь! Я едва вошла в свою зрелость.
– Ксенэя? – спросила Нэя, – мою маму так звали. Я названа в честь мамы, но моё имя уполовинили, потому что я была младшая.
– Чего она там тренькает? – спросила мать, разложив по столу свои длинные и расходящиеся веером рукава. Она решила поразить сегодня Нэю своим оперением. Немыслимой расцветки платье, весь спектр цветов сиял на ней, как и ожерелье на её шее, собранное из разноцветных камней, матовых, но ярких. На пальцах блестели кольца с камнями, также разнообразных геометрических форм. Нэя была восхищена её красочностью. Но Рудольф уловил в одеянии матери некий издевательский подтекст, будто это был маскарад, в котором она и отводила свою душу. И если бы она надела на лицо и маску, он бы не удивился.
– Ты забыла корону или кокошник. Что там носила Хозяйка Медной горы?
– Какая хозяйка? Ваш русский фольклор? Почему Медной горы?
– Владычица земных недр. Дама в каменных платьях – Малахитница. Старинные русские сказы Уральских гор.
– Что-то вроде Кобальта – духа подземных сокровищ? Он ходил всегда в синем, кажется. Я не люблю такой цвет в одежде. Мне не идёт. Так о чём ты мне журчишь? – обратилась она к Нэе, – до чего же голосок хорош у этого блудного космического ангела.
Нэя улыбалась, не умея ей ответить. Но любой человек, попадающий в иноязычное окружение, кажется придурком. Рудольфу не было приятно, что мать позволяла такую развязность, какой не позволила бы никогда в присутствии человека постороннего.
– У неё мать звали Ксенэя. И она тоже Ксенэя. Но её имя укоротили, чтобы их не путать.
– Её и саму, видимо, укоротили и умом, и по размеру, – усмехнулась мать, – Откуда у них там земные имена? Или она блудное дитя такого же космического блудного скитальца, как твой отец и ты? У неё детские глаза. Может, ты остался верен своей тайной порочной замашке на несовершеннолетних девственниц? Ей сколько лет?
– Тридцать.
– Да ты что! Не дашь. У них нет старости? Они вечные?
– Есть там старость, и очень ранняя. Там всё очень плохо, на их планете.
– Естественно. В противном случае, как бы ты туда и попал? – мать устала от собственного фиглярства. Выдохлась, наигралась. – Как же смел мстительный «Череп зловредной судьбы» заслать тебя в такое место? На полжизни, если мерить это время старым эквивалентом времени. Да и так. Лучшие свои молодые годы – где ты растратил?
– Он был несколько не при делах. Так что зря ты, как и отец, его песочите по сию пору. Не был он в отношении меня таким уж и всевластным «Черепом судьбы». Там другие «черепа» проявились, кажется. Зато теперь я в высокой обойме, и уже никогда не буду ничьим подчинённым. Пусть и на маленьком спутнике, но я буду главным.
– Что мне твоя обойма? Отняли у меня сына на двадцать лет, лишили внуков. Тебя простой человеческой радости отцовства. Один Артур у тебя и есть. Да и то… – Она многозначительно помолчала, с подтекстом, но озвучить его не решилась. – И это у такого красавца? Не с троллями же тебе было размножаться? Не породил там троллят? Надеюсь, что нет. Ты же не дурак. Хотя ты дурак, и твоя нижняя голова всегда работала у тебя активнее верхней. А эта? Кого она родит? Видового же совмещения нет? Не может и быть. Удивительно, но она полностью земная по виду. А там, в своём сокровенном месте, она какая?
И вместо раздражения, протеста против вышедшей из берегов приличия матери, Рудольф от всего крена застольных бесед вдруг ощутил зверскую похоть к Нэе, будто и не было у них перед этим ничего, а он только что явился из «САПФИРа» после трёх месяцев разлуки. Мать перехватила его взгляд и сказала просто, как нечто привычное, – Идите, можете отдохнуть у меня. Чего вам тащиться к себе пешком. Аэролёт же вам я не дам. Самой нужен. Мне улетать пора. – Но и тут была ложь, не надо было ей никуда улетать.
– Пойдём, – Рудольф встал. Удивлённая Нэя решила, что у них с матерью произошла размолвка, и их выгоняют.
Но муж увлёк её в спальню своей матери, где стал быстро стаскивать с неё шорты, после чего обрывая пуговицы, стащил и блузку, плюхнувшись сам в одежде, распластав её под собою. Но словно очнувшись, быстро разделся сам. Это было столь сокрушительно и сильно, будто они опять, как в их первую ночь в чужой квартире, где за тонкой стеной чей-то ор и шум голосов. Но реальность сносило куда-то в сторону, и было всё равно. Нэю утаскивало, как в столб неодолимого торнадо, у тела не было веса и не было воли.
– Твоя мама, она же будет презирать меня, нас, за несдержанность… – она пыталась хвататься за край реальности.
– Раскрывайся! – бормотал он. И сказал затем чётко, – Ксюня!
Всё было так, как в молодости, и сумасшедшая несдержанность, и сила напряжения, готовая разорвать изнутри, если не дать ей тут же выплеснуться наружу раскалённым любовным извержением. Казалось, мать навела на него какой-то морок.
И Нэя, чувствуя все оттенки и малейшие нюансы его страсти, изучившая его давно, тоже стала совсем не собой, а кем? Кто эта Ксюня? О ком говорила ему мать? Произнося: Ксения, Ксения… Но разве было важно? Он же говорил, что не любил её в ту ночь их первого сближения, а захват всего её существа был точно таким же, как и тогда. И она подчинилась и, подчинившись, включилась в его новую игру. Неизвестно, где была та Ксения. А она, Нэя, здесь, в его объятиях, в его страстной власти. И это не он, а она уже полностью овладевает им и является его всасывающей в себя целиком, мощной океанической воронкой. И уже он терял свою волю и своё отдельное от неё, Нэи, существование ради её торжества над ним, над всеми, над неизвестной Ксенией, над гордой матерью, над призраком Гелии…
Самый сокровенный тайничок Карины
Рудольф забыл, словно в юношеской спешке, закрыть двухстворчатые старинные двери, и Карин невольно, нисколько этого не желая, слышала, поражающие её как некое откровение, любовные стоны сына и жалобный невнятный лепет блудной дочери Космоса. Она замерла, будто уличённая в чем-то страшно постыдном. Ей не в чем было его упрекать, она первая утратила самоконтроль, развязав свой, уязвлённый ревностью матери, язык. Опустившись до неприличия, влезла в интимные издевательские расспросы и насмешки над ним и над безмолвной спутницей, не могущей ей ответить. Даже и не понявшей её глумления. Придя в себя, она выбежала из дома. Села в свой персональный аэролёт и направила его в сторону сердца Альп.
Карина и сама не могла бы объяснить себе, что за настроение её обуревало во время так называемого званого обеда. Разве так ведут себя хозяева, пригласившие самых дорогих гостей? Давно уже уснув сама в себе, спев колыбельную своей собственной женской составляющей и, бодрствуя только бесполым своим, хотя и энергичным существом, она была погружена в нехитрую свою трудовую деятельность хранительницы музея, составителя каталогов, экскурсовода для любителей изысканной старины. Она входила в обширную и очень деятельную, хотя и в специфическом роде, сеть музейных центров планеты Земля. Насыщенная контактами жизнь не будила в ней её уснувшую «Аниму», её женскую самость в ней. Можно было бы сказать, что она жила, как монашка, но это было не так. Никаким подавлением, умерщвлением плоти, аскетизмом она не истязала своё цветущее тело, любя наряды, драгоценности, вкусную еду. Не изнывала в молитвах, не томилась, подобно Магдалине в размышлениях о тщете всего земного, с ужасом не прикасалась к праху былых королей, равнодушно взирая на их ветхие мантии и потускневшие венцы в герметичных витринах.
Охлаждение и отстранение от своего личного прошлого не было для неё тождественно осознанию его греховности или неправильности. Было и было. Какое уж сложилось. Чего в нём и рыться. Не музейное хранилище. Она не выгрызала чужую долю, не уводила чужих мужей, не плела недобрых интриг за чужими спинами. Вырастила сына, написала не один каталог, вернее, помогала это сделать искусственному интеллекту, посадила не одно, а много деревьев у своего домика, а также активно способствовала этому, когда то же самое делали роботы возле музеев, где приходилось ей работать. Жила гордо и достойно, как немец из древнего анекдота, всюду ходивший по гостям со своим достоинством. Ни перед кем не унижалась, за мужскую штанину не держалась. Никакое томление тела не было способно толкнуть её на потерю гордости и утрату своего врождённого, казалось, высокомерия. Она всю жизнь несла себя, как цитадель, лишь изредка открывающуюся наиболее упорному и достойному, на её вкус, представителю мужской половины человечества. А таких было очень немного, и всю почти жизнь прожила она прямой и гордой, как пальма у кромки пустыни, редко орошаемая ливнями любовных излияний небес. Зато и гнуться под их напором не приходилось. То, от чего она страдала в молодости, от внутренней тяжести, требующей своего облегчения и мало подчиняющейся доводам рассудка, было ею безжалостно изгоняемо из памяти, как только эта процедура облегчения происходила. Постоянный друг или муж нужен не был никогда. После того, после Артёма Воронова.
Но это был её самый запрятанный тайник. Она никогда его не тревожила, и если бы вдруг со скрипом и открыла, то ничуть не удивилась бы тому, что воды забвения, наполовину утопив его в себе, просочились в незримые щели и размыли все красочные образы, в нём хранимые, до мало различимого состояния. Она была не из тех женщин, что без конца туда лезут, в эти свои сундучки памяти, всё там перебирают, перетирают шелковой тряпочкой, меняют местами, стирают пыль и даже проводят реставрацию. Она закрыла их, да ещё и пнула их ножкой, в своё время до её чрезмерного уплотнения бывшей потрясающе женственной, никогда не худой или жилисто спортивной. Не прикасалась, но и не разбрасывала по ветру времени разорванные в клочки обиды и трагедии девушки, потом женщины. Нет. Она ничего не уничтожала в себе, но ничего и не лелеяла. Было и было. Быльём заросло, как говорят русские. Или поросло?
Поэтому, никому не рассказывая о себе и в себе не трогая ничего, она, пожалуй, и мало что помнила. И с искренним отчуждением проходила мимо бывших любовников, не узнавая их в лицо, кроме редких. Их было двое, – отец Рудольфа и тот, кто был её первым, а затем и виновником разрухи в её недолгом семейном счастье. Это был отец Ксении, Артём Воронов. Самой-то Ксении, понятно, в ту пору и не было, и мать её Ника тихо жила где-то, не ведая о своей будущей любви.
Карин посадила свой маленький двухместный аэролёт недалеко от старинной набережной, недавно отреставрированной практически в её прежнем историческом виде. Но что есть «прежний исторический вид», если географические места столь же текуче – изменчивы, как и сами люди, как и всё вокруг в самой Вселенной? Хотелось неспешно прогуляться, любуясь цветами набережной и гладью озера, идя к уютным песчаным бухтам в сторону Шильонского замка, законсервированного современными технологиями от разрушения. Он пребывал в незримой глазу капсуле-броне, как и многочисленные древние памятники и сооружения Земли из тех, коим посчастливилось уцелеть. Там до сих пор хранилась коллекция старинного оружия, и хранитель был ей знаком, тоже по слухам древний, чего нельзя было и сказать по его бодрому виду, – деятельный человек, всегда окружённый молодыми ассистентками.
Добредя до одной из бухт, она села на скамью, самую удалённую от людей и от берега. И вдруг, был ли тому виною особый свет, озаряющий озеро и бухту, или же древние и почтительные сооружения вдали, благородно и с рыцарским достоинством косящиеся в зеркало вод на своё нетленное и давно прошлое величие, но отчего-то сундучок её памяти в ней приоткрылся. Показался уголок невнятной картинки, она потянула его вверх, к свету…
Она ощутила прилив крови к лицу. Картиночка-то была не из пристойных. Всё под стать сегодняшнему разговору с сыном и внезапно на него накатившей страсти к Аэлите – блуднице. Что ей померещилось? Что вынырнуло из её внутренней консервации?
Балканский полуостров. Там много похожих бухт и древних строений, хотя там не Женевское озеро, а Адриатическое море. В очень похожей, уединённой бухточке они валялись с Артёмом на пляже. Отчего-то никого не было вокруг, никто не купался, и они не купались. Просто валялись. Она была стройна и женственна, отчасти полна на взгляд спортивных оглобель, которые кишели вокруг и всюду. Но Артёму она и нравилась за это, за нестандартность, он считал её роскошной и не велел ей худеть, грозя разлюбить. А над пляжем, на высоком берегу, строили что-то вроде летнего кафе. Поэтому и не было там людей. Шло обустройство нового пляжа. Артём был настойчив, и она поддалась его натиску, а увлёкшись, и сама забыла, что всё же день сияет, и люди могут появиться. Она была со стороны похожа на прекрасного палача, терзающего распластанную под ним жертву, которую словно душила незагорелыми полушариями грудей, закрыв ими лицо того, кто под нею умирал в судорогах. Почему со стороны? Да на верхней, нависшей над пляжем строительной площадке оказались люди, скрытые за снующими там роботами. Под прозрачной и уже возведённой зелёной кровлей возникли трое. Она их увидела, а Артёму было не до них. Двое даже не взглянули в сторону интимного чужого действа, ушли, но третий остался и досмотрел до конца.
Потом он пялился на неё удивлённо, застывая своим взглядом. Что было не с нею, а с ним не так? Ей хотелось спросить: «Тебе не даёт, что ли, никто? Извращенец».
Рассказать всё Артёму, он бы его избил, но вина-то была их, а не этого случайного низкого свидетеля. Их воля была предаваться страсти, его воля эту страсть созерцать, как кобелю, которому не достаётся ничего после вожака. Что это был за сорт людей, ей было неведомо никогда.
А сейчас она вдруг поняла это, как ей самой хотелось в доме низко, мерзко подглядеть за сыном и Аэлитой. Как она будет его любить? Но некая сила в ней самой шибанула её и вынесла за пределы дома, не дала скатиться в подлое подглядывание того, что третьему не предназначено. Хочешь, так и займись сам. Но ей с кем было и заняться? Паникин редок, а с другими? Она уже и стыдилась себя, утратила былое чувство собственного совершенства, внутренней уверенности. Паникин привычен, свой, сам всегда лез, и она снисходительно уступала, но страстно трепеща при этом всем своим существом, только делая вид снисходительной уступки, чтобы себя не уронить в его глазах. Выходит, ей было важно, как она будет потом обитать в его памяти? В каком ракурсе он её вспомнит? Останется она в нём притягательной или такой, о которую и взгляд, хотя и внутренний, можно покоробить? Нет. Если всегда навещает при своих редких налётах на Землю, значит, любуется, значит, хочет ещё. И не забывает. Хотя подруг у него всюду и всегда не переводится. Она это знала. Но она была для него особенной. Она этого хотела? Или это было так? И хотела, и было. И часто, в эти минуты с ним, к ней приходило раскаяние за свою уполовиненную, ущербную по её вине, свою одинокую полу жизнь – полусон.
Перед теми, кто нравился Карине в её жизни, надо было прогибаться, принимать позы подчинения, это как в сексе, невозможно всё время быть наверху, что за мужик, если всегда пассивен? Но быть вечной наездницей – спина устаёт, а подчиняться, расстилаться, пусть и временами, ей не хотелось никогда. Мягких же и покорных мужчин она не любила, не могла. Артём всегда говорил, что из неё вышла бы отличная космическая амазонка. Может, вышла бы, но вышла старьёвщица и замурованная в музейную келью мужененавистница.
«И чего я слоняюсь, как бездомная»? – возмутилась она и отправилась на площадку к своему аэролёту.
О том, как найденный мусор оказался нетленной ценностью
Она долго бродила возле декоративной колоннады у своего дома, удивляясь собственному безвкусию, вычурной фантазии, воспринимаемой в данный момент тоски и эмоционального упадка как жалкий выверт собственной бездарности, вообразившей о себе невесть что. Затем вошла в крытую колоннадой террасу не террасу, а скорее площадку, где села на угловой диван, тот самый, на котором сидела с Ксенией ночью, во время её странного визита. Что за блажь она вбила себе в голову, что имеет право навязать чужому дяде, о котором в сущности ничего и не знала, пусть и был он когда-то её сыном, свою волю, своё понимание его личного счастья. Свести его с этой клинической дурой Ксенией, у которой всегда вместо головы была декоративная фарфоровая болванка стиля какого-то забытого «рококо», или в этом роде. Внешних завитков много, а внутри полая пустота, пусть и оформленная изысканной позолотой. Что ей Ксения? Что ей эта Нэя, сексуальная кукла чужого человека – сына? Что ей Гекуба? Что она Гекубе?
В доме стояла тишина. И ей пригрезился в её релаксации маленький мальчик, топающий босиком по плитке террасы. Плитка была багряная, с белыми ископаемыми миражами былой морской жизни. Все думали, что это подделка под мрамор, но это был подлинный мрамор, оставшийся здесь с незапамятных времен, и лишь отполированный современными средствами до сияющего блеска, до синтетической новизны на вид. Кто был этот мальчик? Память о маленьком сыне, воспоминание об Артуре, однажды привезённом сюда длинноволосой Лорой, или мечта о будущем внуке, она не знала и сама. Да и не помнила она, если внутри себя, каким было у него тогда лицо, у Рудольфа. А с изображений и семейных архивных съёмок прошлого глядело какое-то не такое лицо, которое она помнила. Внешнее не совпадало с внутренним. Подлинное расплывалось, как уносимое потоком реки отражение. Но, вообще-то, ей хотелось девочку, внучку. Чего бы она ни сделала сейчас, чтобы рядом с Рудольфом ела её гуся с яблоками Ксения, а потом она бы пошла в её спальню, чтобы зачать там, в священной для них двоих и греховной для постороннего полутьме внука для Карины, но лучше внучку. Ариадну. Это было её любимое имя. Она разрешала бы ей перекатывать камни в своих бесчисленных ящичках, раскрывать мерцающие недра шкатулок и совать милые пальчики в её кольца и перстни. Играть с её ожерельями и даже увивать ими своих кукол, если у неё возникнет на них блажь. До сих пор есть девочки, играющие в куклы, и Ариадна будет такой, наделённой большим материнским потенциалом, чего не дано было ей, Карине. Почему?
Её мать была слишком стара, слишком поздно они с отцом породили её. Сколько им и было? Ужас, если по старым меркам, то это библейское чудо, случившееся со старухой Саррой, но ставшее заурядной прозой современной Земли. Кому она копила свои сокровища? Она отдала бы их своей внучке, высыпала бы на этот пол, как груду погремушек. Только бы она была. И было кому отдать всё, привить любовь и понимание камней, их загадочной безупречной кристаллической жизни.
И осознание, что этого нет, нет здесь Ксении, наполняло Карину пониманием своей ненужности никому в целой Вселенной. Она посмотрела в ясное безмятежное небо. Лучезарная красота и тишина окутывала мир вокруг. Сколько же вокруг на бескрайней земной поверхности живёт людей, и за ним, за удивительно – синим воздушным океаном атмосферы, за провалами страшной чёрной пустоты существуют космические колонии людей, но и там никого, кому она была бы нужна. Она сосредоточилась на Ксении, на той, кто сидела позапрошлой ночью на диване в белой трогательной кофточке. Вся она была словно бы не отсюда, а из какой-то ушедшей эпохи. Разноцветные фонарики окрашивали её кофточку пёстрыми бликами, и ей действительно подошла бы в тот миг карнавальная маска. Она не умела скрыть жалкие слёзы, вызванные её непониманием того мира, в котором она жила уже сорок лет. Двадцать лет из этих сорока, ровно половину, она провела в напрасном ожидании того, кто не хотел о ней помнить. Она уходила в темноту ночи, уходила в свою, неведомую Карине, жизнь. Какой она будет, длинной и томительной, или судьба одарит её, наконец, яркой насыщенностью чувств и событий? Другой любовью и детьми? Всем тем, в чем отказала ей в молодости. Но в тот миг Карине показалось, что краткий карнавал Ксении отшумел со всеми его фейерверками, буйством и нелепостями. И надо будет найти ей маску. Ту, венецианскую.
Тайны юности не подвержены тлению
Никогда и никому не выдавала Карина этой тайны, да и кому она была нужна? Но все знакомые, которым она была не совсем безразлична, и кто хоть иногда прикасался своими мыслями к её персоне, думали, что впервые она познакомилась с Артёмом на банкете в ГРОЗ – в разукрашенном по случаю Нового Года банкетном зале российского филиала Галактической Разведки Объединённой Земли. На самом деле это было их вторичное столкновение, и оно разрушило их брак с Паникиным, начавшийся так безмятежно и дружно, и гармонично длящийся до поры до времени. Знакомство же с Артёмом было давним.
Кем он был? Её первой любовью, партнёром по сексу? Вначале она его обходила, как досадное препятствие и умышленно фыркала, но потом всё произошло настолько быстро, настолько обыденно просто, как это и происходит у большинства. Или же у меньшинства? Как узнаешь?
Она не помнила ни названия отеля, где они жили, ни того купальника, что был на ней в тот день, не помнила имён тех, с кем дружила тогда, веселилась и обсуждала некие увлекательные темы, не помнила лица того соглядатая, преследующего её своим извращённым вниманием. Но помнила в подробностях все ласки Артёма, его слова и обозначения, которыми он её наделял. И свои ощущения, какие у неё были от него, тоже помнила.
Как-то за обедом в прозрачном ресторанчике, казалось, нависшем над морем, так как построен он был на скале, Артём посмотрел на неё с тем самым выражением на лице, какое возникло у Рудольфа, и тоже за столом, при взгляде на невинную по виду, но хитрую обольстительницу. Артём тогда вышел первым, и она пошла, словно он потянул её за невидимую верёвочку.
Он сказал ей просто, – Пошли купаться. Жарко.
Она пошла, зная, что её ждет, чего он хочет. И там, в той безлюдной бухте всё и произошло. Ей тоже хотелось, чтобы всё произошло. Было больно, но захотелось повторения, сразу же. Почему это было в бухте? Потому что она жила в студенческом отеле, и он тоже в мужском отделении. А в её комнате жила ещё одна девушка. Он также с кем-то обитал в тесном студенческом номере. Им было просто негде уединиться.
Тот ненормальный, кто подглядывал за ними, обычно сидел с нею за одним столом за обедом, он же с Артёмом и жил в одной комнате. Она так и не вспомнила лица того созерцателя, хотя и ненавидела его тогда. И как-то нарочно опрокинула на урода, встав из-за стола и уходя, бокал с красным виноградным соком, а у него были белые шорты и белая майка. Физически он, конечно, не был уродом, был вполне себе ничего, и, скорее всего, она сильно нравилась ему, как и Артёму. Но по своим личностным характеристикам он был, как жалкая карликовая планета – крошка, где-то болтающаяся в скоплении себе подобных на задворках Солнечной системы и не имеющих даже имени. Артём же был планетой – гигантом, этаким златокудрым Нептуном с мощнейшей и неодолимой гравитацией. Подобные ему, где бы они ни появлялись, всегда на виду, всегда ломятся по своей траектории к своей цели, сметая прочих в неразборчивую груду, если у тех вдруг возникнет заскок, толкнувший встать поперёк победоносного шествия космического титана. Тот, кто остался без имени и лица в её памяти, сам напросился к ней за столик во время завтраков и обедов. Она же вначале ела всегда в одиночестве, умышленно выбрав место ото всех подальше, в пустующем отдалённом и затенённом углу ресторанчика. И радовалась, что никто туда к ней не суётся. Все прочие любили тесниться даже там, где было вдоволь места – лишь бы потусоваться вволю. Смеялись, общались, пихались и обожали свою добровольную скученность.





