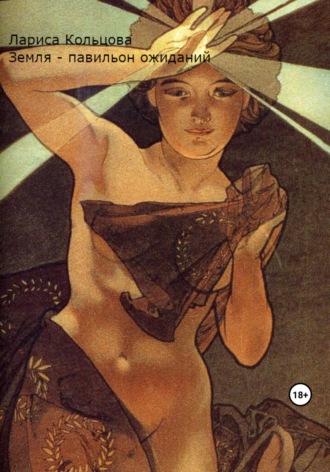
Лариса Кольцова
Земля – павильон ожиданий
Карина не являлась составляющим пазлом этого плазмоида, и её быстро оставили в покое. А тот не отстал и упорно садился к ней за столик, вёл утончённые, интеллектуальные беседы, вернее монологи, потому что она, в основном, молчала. Искала предлог садануть грубостью, но тот ловко увиливал и уклонялся, всё переводя в шутку, или деликатно поправлял неправильно сконструированную фразу, поскольку общались они на русском языке. Она сама дала к тому повод, объяснив сразу, что практикуется в овладении русским языком. Карин даже не помнила его имени. Он не знал абсолютно языка немецкого, и она беспощадно над ним, хотя и цедя редкие слова, издевалась, никогда не переводя тех обозначений, которыми его награждала.
Но именно в тот день, когда она решила избавиться от назойливого собеседника, мешающего вкушать ей с комфортом и в тишине, а если бы понадобилось, то и спихнуть его с насиженного без приглашения места, к ним и подсел Артём – его приятель на тот момент. И Карин сразу стало важно их присутствие за столиком. Она стала на каждый завтрак – обед приходить как на званный. Ждала их, волновалась, если они задерживались, радовалась и улыбалась, видя их появление в зале ресторанчика. Они вдруг стали неразлучны, буйно кудрявый Нептун и прилепившийся к нему его спутник. Для Карин же значение имел лишь русский богатырь, второй не воспринимался вовсе, даже как досадная помеха, он просто перестал существовать для неё. Что за пылинка там болтается на орбите великолепного объекта? Не различишь её. Она вела себя так, словно они с Артёмом пребывают вдвоём, в романтическом уединении, безумолчная болтовня третьего персонажа воспринималась как неразличимый фон, как звон посуды вокруг, как шум волн внизу. После первого и второго раза своего юношеского неодолимого сближения, (могла ли она помыслить, что будет оно настолько значимым для будущего стольких людей), они уже уединялись вечерами, где придётся. А встречаясь во время лекций, это был студенческий семинар, не общались и сидели, как посторонние друг другу люди.
Никто и не знал ничего, кроме того соседа. С первого же раза влечение было настолько сильным, что Карин подчинилась, не вскрикнув, и он ей сказал, ну, у тебя и выдержка! Он был уже опытный. И никакой любви не было, а только притяжение двух тел, и обостряющаяся всё сильнее потребность испытывать это ещё и ещё. Где придётся, где было возможно уединиться, и в море тоже во время купания. Ночью было особенно остро и необыкновенно. А любовь? Да не смешите, сказала бы она тогда. Любовь у неё началась только с Паникиным. Когда впервые в доме её родителей, увидев их фамильную коллекцию камней, Паникин стал дарить ей диковинные камни и кристаллы, где только можно добывая и приобретая их. В то время Артём был уже забыт.
Сразу после окончания семинара они разъехались, и Артём не подумал её навестить в Альпах, где она жила, а она дала ему свой контакт. Но он забыл её. Или же просто не захотел. И она его решила забыть. И забыла. Что и было-то? Другие были ничуть не хуже. А Паникин так и лучше всех. И ещё она помнила, как ей хотелось в то лето избавиться от своей девственности, которую столь оберегали в ней её родители и сумели сберечь до двадцати лет. Все её приятельницы, подруг у неё не было, гордилась своими романами и любовными приключениями, и только она гордо несла в себе свою тайную для всех и тягостную ей девственность. Никто её не любил, и она никого не любила. Высокая, прямая, полная, высокомерная, она глядела на всех выпуклыми зелёными и прозрачными глазами, будто находилась от всех по ту сторону незримого стекла. Все сверстники казались ей детьми.
И вдруг возник он, рыжеволосый, нет, скорее он имел ярко каштановый пигмент волос, гигант с глазами, в которых и не таился даже, а заявлял о себе поиск прекрасной половины, надобной ему здесь и сейчас. И все от него шарахались. И она делала вид пренебрежения, но исподтишка прикасалась к нему при малейшей возможности, и всегда старалась оказаться рядом, а прикасаясь, делала отсутствующее лицо, будто это случайно, и ей всё равно, к чему это она там случайно прикоснулась. К нему? К дереву или к стене, если в помещении? И купаясь, она гордо вышагивала в своем любимом розовом в белый горошек, – ага, вот и вспомнился купальник, – понимая, что ей тут рядом и в подмётки никто не годится, кроме него. Он пялился и слепнул, как от солнца, и стоял столбом, не смея подойти, едва они выходили за пределы ресторанчика, где совершали совместные и уже привычные трапезы, боясь её, как и прочие. И только тогда во время обеда не выдержал. На студенческие тусовки Карин не ходила никогда, почему-то считая, что это способно уронить её во мнении тех, кто туда таскался и визжал, и хохотал, и делал вид, как это невозможно весело. И гигант туда никогда не ходил. Он тоже был всегда особняком, не гордецом, но особняком.
На том семинаре были собраны студенты разных континентов и разных рас. Те, кого интересовала история средневековья, а таких было не так уж и много. С каждым столетием эта история неузнаваемо менялась, и какой она была в действительности, никто уже не знал. Поэтому космодесантник, интересующийся средневековьем, был и странен в толпе гуманитариев, болтливых и рафинированных, с прекрасно подвешенными языками. По ночам в той бухточке он ставил маленькую палатку, похожую на шатёр шамаханской царицы. Она входила в её глубину и падала на мягкий надутый и шёлковый пол в его ждущие нетерпеливые руки. Иногда они немного дремали там, а утром он убирал палатку в потайную пещеру, которую нашёл в скалах. Эта палатка и была их супружеским альковом.
Однажды все активно обсуждали многочисленные теории по альтернативной истории средневековья. В частности, вспомнили русского академика сталинской эпохи Морозова, «новую хронологию» Фоменко – Носовского, а также примкнувших к ним европейских историков последующих времен. Альтернативные безумства, как те самые заросли, возникнув, все разрастались и разрастались, отхватывая колоссальные куски в упорядоченном садово-огородном товариществе остепенённых историков. Те уже устали отмахиваться своими условными лопатами и подрубать тяпками досаждающие им корневища наглых пришельцев из мглы запутанной мировой истории. Те неустанно, с картами, с таблицами полуистлевших гороскопов, с письменными свидетельствами давно рассыпавшихся в прах свидетелей, доказывали, что античность и есть средневековье, а самой античности и не было. Это хронологический мираж, – сдвинутые вглубь времён средневековые события, следствие недобросовестных хронистов, оккультистов, монахов или ещё кого, исказивших хронологическую шкалу.
Все принимали активное участие в диспуте, кроме неё, ей было всё равно. На чьей стороне был русский богатырь в этой вселенской битве за прошлое, так и осталось неизвестным. Он спал, вздрагивая головой, выделяющейся среди всех своей непокорной отменной шевелюрой, когда голова эта слишком уж падала на грудь, и его не тревожили. Его вообще слегка презирали, как принято презирать неучей, затёршихся зачем-то в общество знающих людей.
Как-то он спросил, – Почему ты не любишь того, чем занимаешься?
– Как это?
– Не любишь историю, не любишь меня.
– Что же мы делаем тогда, если не любим?
– Ты выбрала меня, как племенного быка.
– Разве я хочу от тебя потомства?
– Жаль, что не хочешь.
– А ты хочешь?
– Да. Хочу. Красивых детей от тебя.
– Мне рано рожать детей. Я о них и не думаю, – ответила она. – Разве ты любишь меня?
– Я? – удивился он, – я не умею трогать девушек, если не люблю.
Спустя совсем небольшое время после того семинара, у неё погибли родители. Они попали в грозу над океаном, и решили посадить аэролёт, но сделали это неумело, неудачно, на кромке берега, и сильной бурей их выбросило в океан и разбило о прибрежные скалы. Паникин сразу перебрался к ней, в дом её родителей. Но о замужестве с ним она тогда не думала, как и о детях.
А спустя ещё время на площадку сел аэролёт, и она, замерев в своём садике, где возилась с садовыми культурами, любя это, увидела Артёма. Её всю пронзило. Огненный стержень прошёл вдоль её позвоночного столба и пригвоздил к земле… Стало нечем дышать. Сиял под солнцем его вдруг ставший лысым череп, под высоким лбом на невероятно красивом, резко похудевшем лице, под каштановыми пушистыми бровями ярко сияли радостью его неповторимые и зовущие всё так же, к той совместной радости, глаза. Что была за дикая идея так оголить ему череп? Тогда она не знала, что он непоправимо облысел в одной страшной экспедиции, попав на чудовищную планету, ставшую смертельной ловушкой для всего экипажа, исключая его и ещё одну коллегу – женщину. Им двоим удалось вырваться из инопланетного кошмара, заплатив своим здоровьем. Краткосрочная галактическая одиссея обернулась долговременным лечением, а он не решился сообщить сразу по прибытии. Или он боялся не выздороветь, или не имел никакого желания кого бы то ни было видеть рядом с собой в те дни, когда мир уплывал из-под него и переворачивался вверх тормашками, грозя остаться навсегда порушенным и не желающим возвращаться в человеческие рамки. Ничего этого она не знала. Откуда? Первым подошёл к нему Паникин.
– Вы кто? – спросил Артём грубо и неучтиво.
– Я? Мы живём тут с женой. А вам кто нужен?
– Простите, ошибка, – сказал он, став самой учтивостью, и улетел.
– Чей такой лысый пряник? Твой бывший друг? – спросил Паникин.
– У меня нет бывших. У меня только настоящий. И это ты, расписной тульский пряник.
– Если я и пряник, то ростовский. Донской. Ростислав Донской. Звучно? Хочешь, сменю фамилию? Будет у нас сын – Дмитрий Донской.
Карина с болью вспомнила ласковое обозначение, которым награждал её кудрявый весёлый богатырь, явивший себя вдруг печальным, худым и лысым после необъяснимого провала в их отношениях. «Мать Деметра» – так он её обозначал временами, намекая на то, какое изумительное потомство могло бы у них получиться. Да и исторический семинар по античной проблематике располагал к подобным шуткам. И имя Дмитрий, мужская версия Деметры было отклонено без обсуждений. Так и не удалось Рудольфу стать Дмитрием, да ещё и Донским.
И всё. Потом прошло много лет, прежде чем они встретились опять. К тому времени она уже по-настоящему забыла его. Но всё началось так же безумно, безудержно, как и в её юности. Паникин и сын Паникина для неё уже ничего не значили. И остановило это безумие только одно. К ней приехала по вакуумной сверхскоростной дороге болезненная девушка, откуда-то она узнала её адрес. Она умоляла оставить Артёма ей, любящей его, единственного, нужного. К тому времени он и сам утомил Карину своей захватнической властью, своей потребностью быть для неё всем. К тому же ей нужно было стать кем-то, вроде матери Деметры, вечно рожающей, вечно дарующей себя без остатка. Она не хотела больше детей и не хотела отдаваться вся целиком, ничего не утаивая для себя, ни мыслей, ни своих, не связанных с ним устремлений, желаний и потребности жить, как хочется ей, а не ему. Паникин себя не навязывал, любил только тогда, когда она того хотела. А этот навязывал и себя, и мысли, и всё остальное, занимая собою весь её жизненный объём вокруг, заслоняя окружающий мир, претендующий этим миром стать для неё. И поэтому оставить его глупой, не понимающей что её ждет, девушке, Карине было и легко.
– Я хочу детей от тебя, таких же роскошных как ты, как твой сын! – орал он, тряся её.
– Я не хочу. Никаких детей. – Тогда ей не хотелось, действительно, никаких детей. Есть один и достаточно. И то надоел, выгрыз весь нервный ресурс, беспокойный и крикливый, непослушный. Но была тайная причина всему, главная. Она не простила ему того, что он забыл её в то время, как она теряла сон, ожидая его появление, после тех дней и ночей в Адриатике. Но он пропал. С лёгкостью куда-то умчался, в свои страшные и звёздные миры, не попрощавшись, не считая её кем-то себе важной. Заставил искать других. Ведь разбуженная потребность заявляла о себе и требовала своего удовлетворения. И этого она ему не простила никогда. Прежде, чем найти Паникина, ей пришлось хлебнуть всякого мужского барахла. Обременить своё чистое прежнее и гордое пространство души, или как это назвать? Теми, кого никогда бы она не допустила к себе и близко, не будь её тоски и сосущего телесного одиночества. Да и не обмирала она по нему, как та девушка, утратившая свое личное достоинство, прибывшая выпрашивать человека, как умирающий последний глоток жизни. И не любила уже, как могла бы, наверное, тогда. И его облысение не имело ко всему никакого отношения. Лысым он был даже более экзотичным, и женщины никогда не были для него проблемой. Он так и остался тем необоримым в своем притяжении тяжеловесом Нептуном. Он метал свои мужественные молнии, ослепляя женские глаза и поражая их сердца, заодно подавляя большинство представителей рода мужского, благодаря чему легко и быстро совершил карьерный взлёт. Так же утратил он навсегда и свою весёлость, словно местом её прибежища была его настолько заметная даже издали шевелюра, но весёлый нрав не то качество в мужчине, от которого женщины теряют свой ум.
Побережье, на котором ветер надувал полы шатра, ушло в подсознание, как затонувший материк Му. Легенда, небыль. Он не захотел тогда всего лишь нажать браслет, объяснить ей своё отсутствие, важное или нет, но она бы поверила всему. И ждала бы прилежно. Но не нажал, не захотел. Решал, стоит или нет. Потом не захотела она, потом решила: нет!
Но в той бухте, – в их райской Лемурии, – всё было живо. Не исчезало. И ветер всё также надувал палатку, сиреневую и голубеющую внутри от проникающего утреннего света. Он экспериментировал над ней, она над ним, своим первым опытным образцом, прекрасным, послушным всему и невероятно выносливым к её экспериментам. Практика отменяла теорию, как часто и бывает. Она не ведала ни стыда, ни зажатости, зная, что она совершенство и дар ему. Гигант умирал каждую ночь в тончайшем, колеблемым морским дыханием алькове, будучи весь во власти белокурой несовременной красавицы, и бодро воскресал, едва утро проникало сквозь окошки и саму ткань палатки – их игрушечного ночного дома. От еженощных умираний и утренних воскрешений он похудел лицом и очень заметно фигурой, но был напитан весь от пяток до искристой, вихрящейся как молодая галактика, макушки сиянием влюблённого человека. Но таких сияющих там было много. Юный мир, все были заняты этим, так или иначе. Она, например, думала, что её место по ночам пустовало, но кто-то там уже и ночевал, освобождая свой номер для чьей-то ещё ночной жизни. В этом смысле жизнь и не меняется со времен этого необъяснимого и запутанного, тёмного средневековья. Да и, вряд ли, изменится, ведь тогда придётся прекратить своё ликование на Земле.
Что проку в насыщенном прошлом, если ты одна?
Сейчас Карина уже не была тем совершенным даром ни для кого, и ей никто не нёс никаких даров. Только Паникин редко-редко был подобен жалкому кулёчку нищих гостинцев, да и то из-за своей нерастраченной ещё щедрости, но уж никак не любви. Она даже представляла, как он фасует эти свои кулечки – подарки, решая кому и сколько сердечных щедрот туда отсыпать. Иногда, встретив нечаянно кого-то по пути к своим старым земным подругам, он мог отдать весь свой мешок целиком и одной, уже не вспомнив о других. Карина всегда делала вид, что она-то уж завалена этими дарами, и что его жалкий гостинец ей пустяк. Беру, мол, из милости к тебе, чтобы не обидеть, этакой небрежной и чуть брезгливой ручкой, чтобы подчеркнуть мизерность подношения. Не выдавая никогда, что эти крохи были у неё единственными. Но никакого трагизма в этом она не ощущала. Могла бы и так обходиться. Совсем без ничего. Спокойно. Естественно. Лучезарно временами. И это её спокойствие, и лучезарность временами, и давали Паникину повод думать о её пожизненной избалованности вниманием и пресыщенности им, но их редкие встречи всё равно продолжались. Они стали, как выдохшиеся праздники неким ритуалом, должны быть, даже если нет желания их праздновать. Может, у него в душе было и что-то другое, она не спрашивала и не лезла. Появлялся, и на время они опять становились родными. Но она знала, что Рудольф был его любимым сыном. Особенным. И не было в его жизни более лютого и не прощаемого врага, чем Артём Воронов, и не из-за себя, а из-за неё и из-за сына.
Она была уверенна, что их уже нет в доме. Но войдя в спальню, она увидела их спящими. Блудная космическая дева была прикрыта простыней до подбородка, виднелись лишь её розовеющие ушки и тёмные спутанные волосы. А Рудольф, как спрут обвил её руками и ногами поверх простыни.
Карина быстро вышла, всё же унося в себе видение редкой красоты своего сына, его золотистую телесную мощь, и зависть к ничтожной блуднице, кому он достался, пусть и на время, на кого столь тратится и страстно обнимает даже во сне.
Она заварила чай, когда он вышел, одетый и ясно-свежий, совсем таким, как просыпался тут в своей молодости. Она опять не сдержалась и подошла, прижалась к груди, обтянутой белоснежной майкой. И шорты были белые, и от этой белизны он и сам весь светился. Он, выспавшийся и довольный, удовлетворенный своей Аэлитой, благосклонно принял ласку матери. Погладил по волосам, чмокнул её в щеку.
– Мама, как у тебя уютно. Красиво, как и раньше. Вкусно ты всё же готовишь. Гусь был супер.
– Ради тебя всё. Готовит-то робот, но главное дело – настройка, знание ингредиентов. Вкусно было? Я и пирог сделала. Будем пить чай?
– Ну да.
Следом выплыло видение с глупой улыбкой, свойственной людям, не понимающим чужого языка. Волосы она просто обвязала своим шарфиком, ободком, сделав бант сбоку, и ей это шло. Она тоже выглядела чудесно. Тонкое лицо светилось счастьем. «Ишь, как ублажил», – опять разозлилась Карина. Похожа или нет её любовь на любовь земной женщины? Это было любопытно, но как узнаешь?
– Мама, – как ребёнок, учащийся говорить, произнесла Аэлита. Карин остановила взгляд на её розовых, блестящих, как турмалин, губах.
– Ах ты, космическая моя кошечка-бродяжка, – произнесла она ласково.
– Прекрасно, мама, люблю, – радостно ответила та на русском языке.
– Надо же. Какие успехи, – Карина увидела, что верхние пуговицы у Нэи на блузке оборваны, и она держала блузку рукой. Достав в соседней комнате булавку – брошь с турмалином, под цвет её сочных и нежных губ, Карина подошла к Нэе и заколола сама брошь там, где и требовалось. Чай пили молча. Пирог умяли наполовину, а остальное Карин упаковала им на вечер. Зачем он был ей нужен?
– Я уверена, – сказала она на прощание, – что вы будете моими частыми гостями.
Но они посетили её ещё раз, да и то в музее. Больше Рудольф к ней не приходил, и она тоже ни разу не приглашала его с Нэей в свой дом. Но часто вызывала его одного в музей, где у неё было небольшое жилое помещение, и там «играла на его нервах», если применять определение Риты. Нэю она запретила ему привозить к себе. А вскоре он и сам перестал с матерью общаться.
Дневники Нэи
Сон про старого лесника
Он перестал общаться с матерью. Карина внушала мне странное чувство. Невероятный интерес граничил с некоторым страхом перед нею. Я ей, вроде бы, понравилась. Но и настораживала её сильно. Я бы так определила её отношение: Ты хороша. Но насколько ты была бы краше для меня, будь ты подальше от моего сына. Она хотела для него какую-то иную жену.
Если внешне, то своей помпезностью, волнами пышных волос над высоким безмятежным лбом она напоминала… Ифису! Их сближало не только пышное оформление наличного облика, но и особое сочетание не сочетаемого, а именно, за внешней надменностью скрывалось простодушие. Не в том понимании, что в человеке присутствует некоторое недоразвитие, а как отсутствие фальши в проявлениях души в мире. Казалось бы, невозможность, но точно такая же, как и наличие Паралеи – родной космической сестры планеты Земля. И сколько таких звёзд и обитаемых планет может существовать в Галактиках нашей Вселенной, мы не узнаем при своём кратковременном воплощении в их звёздном потоке.
Возможности увидеть Карину в последующем у меня так и не возникло. Рудольф прекратил общение с нею, а сама она не проявляла активно выраженного стремления с ним общаться, а уж тем более со мною. Я спрашивала, – Когда пойдём в гости к маме Карине?
Он отшучивался, – В последующей фазе жизненного цикла.
На Земле я изменилась отнюдь не в обогащающем смысле. Я ощущала себя поглупевшей, постоянно утомлённой, а также возникли проблемы с памятью относительно прошлой жизни на Паралее. Даже все те познания, что были впитаны там, куда-то просыпались из меня или, правильнее, их поглотила некая загадочная пучина подсознания. Я не только внешне помолодела, но, похоже, и головой стала совсем юной. Я засыпала и просыпалась зачастую с пустой головой, хотя и в радостном настроении, как правило. Нажитого умственного и прочего ценного багажа словно бы и не было. Почему-то в первые месяцы ожидания мужа я не была этим озабочена, почему и не обратилась к Франку с разъяснениями, что натворил он с моей головой? И если такой ценой платят за повторную юность, я бы от неё отказалась. Мне чего-то не хватало при всём окружающем комфорте, можно сказать, благоденствии, помноженного на ночное блаженство – упоение любовью. Я как будто наполовину спала, видя красочные сны и не желая с ними расставаться, а в то же время где-то во мне тихо и здраво постанывала догадка, что это на краткое время.
Рудольф тоже изменился. Вначале он стал лучше, чем на Паралее. Потом резко хуже, словно бы он проснулся намного раньше и резко вышел из окутавшего нас совместно нечеловеческого блаженства, немилосердно порой, говоря иносказательно, тыкая и меня в бок, заставляя проснуться тоже. А я смотрела на него с полусонным обожанием, наполовину смежив веки, сквозь которые он был окутан лучистым утренним сиянием, и даже острые ощущения от сексуальных переживаний с сопутствующим тому столь же острым осязанием, не выводили меня из моей полудетской идиотии. Я только и делала, что всасывала его в себя, истощала, как вампир, замаскированный под диковинную нимфею с её бело-розоватыми лепестками, скрывающей в своей сердцевине болотный, усыпляющий дурман. Не зря он именно так охарактеризовал меня при первой встрече, не зря опасался слишком близкого приближения, не принёсшего ни мне, ни ему длительного счастья на Паралее.
Но, может быть, тут-то нам будет дано долгое и полноценное счастье? Может быть, адаптация к новой жизни порождала столь необычные ощущения во мне? Ощущения очень приятные, а всё же с тревожащим и холодящим, как микроскопические иголочки, осевшего куда-то на глубокое дно, льда. А там тайно кристаллизующегося во что-то, что реально поранит, когда вынырнет наружу, вспоров обманчивую поверхность с её игрой солнечных зайчиков. А для него, как выяснилось потом, адаптация к новым реалиям была откровенно не простой.
Он не узнавал свою Землю, то ли отвыкнув, то ли она реально уже изменилась. Он стремился втиснуться в эту жизнь, как в собственную, оставленную тут юность и, понимая тщетность обретения утерянного прошлого самоощущения, когда мир, что называется, по размеру, а все замашки по плечу, впадал в состояние, промежуточное между сильным разочарованием и лёгкой пока тоской. И вряд ли дело было во мне, в том утомлении и перенасыщении мною, как думала я потом.
Я же, как и положено юным эгоисткам, хотя юность-то была больше внешней фикцией, чем действительным состоянием души, не могла оторвать себя от него. Постоянно теребила и капризничала из-за всякой ерунды, даже чуя своим, хотя и притупленным, заснувшим, но чутьём зрелой и пережившей сильные страдания женщины, что длинного счастья с ним у меня не будет и здесь.
Сошёл его вечный загар, земная атмосфера будто поднимала его выше. Черты побледневшего лица стали тоньше, как и сама его фигура. Он весь вытянулся к бездонному синему небу, часто смеялся, пропала сумрачность в его глазах, – та, что впиталась в него в подземельях Паралеи. А земные свои тайные метания, как и прочие раздумья, он мне не открывал. И вначале я буквально столбенела каждый раз, видя его чужое лицо в ореоле светлых волос, отчётливо понимая, что на Паралее я любила кого-то другого. И не оставила ли я его там? А тут некая суперпрограмма создала мне кого-то едва похожего и даже иначе раскрашенного. Вложила в него прежнюю память, забыв главное для меня.
И дело было не в том, что он, будучи для меня всем, ответного «всего» мне не давал. Большая часть этого «всего» принадлежала загадочному для меня социуму Земли. Его ГРОЗ. Как ни стремилась я захватить его целиком, соперничать с колоссальной ГРОЗ не могла. Да ведь и на Паралее он отдавал мне лишь небольшую часть своего времени, а прочее всегда принадлежало его работе и его коллегам. И у меня там была моя любимая и значимая, как мне мнилось, работа, от которой он также меня отвлекал иногда, порой и через моё сопротивление его властному захвату и требованию полной самоотдачи. А тут ничего и никого, кроме нашего блаженного павильона, если сравнивать наш дом с колоссальным окружающим миром, да самого Рудольфа, заменявшего мне всё остальное человечество Земли, а также оставленное навсегда родное человечество Паралеи, каковым бы разноликим и несовершенным оно ни являлось. Да ведь и здесь отнюдь не все выглядели подобиями полубогов.
Я только сама себя ещё больше порабощала, проваливаясь в полную зависимость от собственных чувств, не умея справиться с вдруг ожившим во мне ребёнком, а Рудольф быть моим воспитателем и целителем не хотел. Да и не мог. Единственным человеком, кто с великой радостью взвалил бы на себя такую миссию по развитию маленькой и не во всём соответствующей земным стандартам инопланетянки, был доктор Франк. Но о нём я и не заикалась, как-то чуя, что Рудольф не хотел о нём и слышать. Неужели, ревновал к нему? Даже тяготясь мною в периоды возникающего иногда упадка настроения, он не собирался отказываться от меня, считая меня, пусть и обременительной, но невозможной одушевлённой роскошью, какой не обладал больше никто. Что же касается лингвистической Академии, то там меня обучал языкам робот, не обладающий даже человекообразным обликом, поскольку я сама отказалась учиться у странной имитации человека, навевающего на меня жуть, как бы ни был он мил и забавен. Возникающие иногда поблизости живые люди, как правило, были озабочены собственной загруженностью, не стремясь слишком тесно со мною подружиться.
Я спрашивала у Рудольфа, почему же самих землян, пока они не выросли и не набрались нужного профессионального опыта, не обучают роботы? На что Рудольф отвечал, что детям необходимо живое человеческое общение, иначе они вырастут душевно дефективными, а в более осмысленном уже возрасте для освоения тех или иных дисциплин возможно обучение и через посредство искусственного интеллекта.
Доктор Франк пока так и не дождался моего приглашения побыть нам вместе, – просто поговорить, пообедать или погулять, как он и предлагал в последнюю нашу встречу. Я была уверенна, что он ждёт моего обращения к нему, думает обо мне и переживает, как я там?
Я не знала о том, что доктор Франк Штерн через других лиц отслеживает всю мою жизнь. Что я нахожусь в его зоне ответственности. Просто я слишком мало была посвящена в тайны землян, в их технологии и возможности. Я думала, что никому здесь не нужна, кроме Рудольфа. А он для чего-то поддерживал именно такую мою уверенность, иногда и в грубой форме. Как я убедилась ещё на Паралее, он и здесь оказался нелёгким Избранником. Но выбор другого Избранника для меня был невозможен. Уже в силу моего происхождения из особого рода, где мой дедушка и отец были аристократами. Бабушка по отцу – бывшая жрица Матери Воды, а мама происходила от той, кто прибыла на Паралею с Земли ещё в те времена, когда подземный город находился в стадии строительства и очень многие пришельцы гибли. Отец моей матери также не был никому известен, включая и Тон-Ата, не видевшего его живым. Тон-Ат лишь обозначил место его происхождения. Планета Земля. Так что я имела самое прямое отношение к Земле и не являлась тут стопроцентно чужой. Мне было жаль, что я не смогу узнать, кто именно стал отцом моей мамы. Установить это смог бы лишь один человек, сказал мне доктор на мой вопрос. Он жив по сию пору, но делать этого не будет в силу своей нечеловеческой загруженности, бесполезности такого знания, а может, и по причине уже личной.
– Кто он? – требовала я у доктора с таким напором, как избалованная внучка у своего дедушки. – Скажите хотя бы его имя, того человека. Я сама, может, спрошу у него при случае. Вдруг столкнусь с ним где-нибудь?
Франк смеялся от всей души, – Мне нравится твоя самоуверенность, моя повелительница. А если я скажу тебе, что тот человек возглавляет саму структуру ГРОЗ? Пойдёшь к нему?
– Попрошу мужа, – ответила я. – Рудольф обязательно потребует у него раскрытия этой тайны.
– Рудольф никогда и ничего не потребует у него уже в силу собственной гордыни. А я, у кого такой гордыни нет, к тому человеку проникнуть не смогу в силу ряда причин, знать которые тебе не обязательно. Я к структуре ГРОЗ не принадлежу. Я профессионал другого порядка. Был у меня один знакомый когда-то. Человек очень уже старый. Древний человек, можно сказать. Вот он к ГРОЗ причастен напрямую, хотя давно там не служит. Вроде, он стал отшельником и живёт где-то настолько далеко за горами, за лесами, что найти его немыслимо. На это он сам же и наложил запрет. Чтобы никто не искал, если ему самому оно не надобно. Ну, а если случайно столкнусь с ним, то спрошу всё, что тебя интересует. Думаю отчего-то, что знал он твоего земного дедушку.
Я буквально замерла от столь неожиданной информации, что кто-то на Земле может помнить об отце моей мамы. – Я и сама бы пошла хоть пешком за эти горы и леса, лишь бы узнать…
– Да зачем тебе это, Нэя? Когда уже нет в живых твоей мамы, твоего отца? Да и деда твоего земного нет давно… Он же на Паралее погиб… Когда-то я сильно удивлялся привязанности Рудольфа к тебе, а когда узнал, что ты частично земная женщина, а частично такая же, кем была Гелия, удивляться перестал… – больше доктор не возвращался к этому разговору. И я не спрашивала уже, будто имя Гелии стало окончательной точкой той были, ставшей всё равно, что и небылью.
После этого разговора мне и приснился сон, где возник длиннобородый неласковый дед с пристальным взглядом светло-льдистых глаз. Одетый в грубоватую рубаху, заметно помятую, с пуговками у ворота, и в штаны из той же ткани, только выкрашенной иначе. Рубаха сероватая, а штаны тёмно-зелёные. Однотипность ткани я определила, уже исходя из своего собственного опыта по работе с текстилем.





