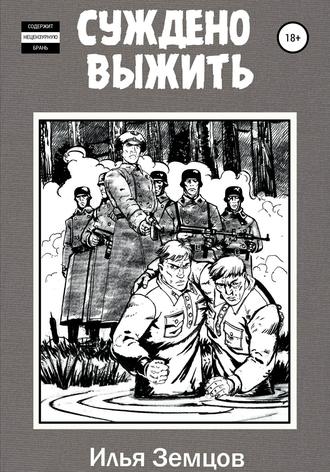
Илья Александрович Земцов
Суждено выжить
В памяти, как кинолента, в медленном темпе проходила война, с самого первого дня. Рисовал в воображении образы убитых товарищей, которые рядом со мной умирали в наступлении, в обороне или при отступлении. Не раз приходилось выходить из боя с простреленной в десятках мест одеждой. Я оставался жив и даже невредим. Во время боя в голове и всем организме вырабатывалось что-то необъяснимое. Не оборачиваясь назад, не раз я не только ощущал, но и видел опасность, тут же уходил от нее броском в ту или другую сторону. В атаках отчетливо различал, кто в меня целится или направляет в мое тело дуло автомата. Клетки мозга работали с полной отдачей и строгой ясностью. Казалось, что в общей свалке рукопашной схватки разобраться невозможно. Но я ориентировался отлично и всегда поспевал скорее врага или уходил от его удара.
В 1941 году, в районе реки Великая, когда наш батальон пошел в последнюю контратаку, один немецкий фельдфебель не раз ловил меня на мушку автомата, я тоже в него прицельно стрелял, но ни он меня, ни я его. Так мы с ним и разошлись. Он умело уходил от моих выстрелов, а я от его.
При авиа– или артналетах противника я точно ориентировался и уверенно знал, куда упадет следующая бомба, мина или снаряд. В этом я никогда не ошибался. Что тут – судьба, инстинкт или чувство самозащиты? Вот этого я не знаю. Но все-таки на пулемет последнего немца я напоролся. Я бросил гранату и убил неприятеля. Пока летела и взрывалась граната, он меня тоже уничтожил. Здесь мой инстинкт или самозащита не сработали. Недаром в народе говорят: «Сколько кому чего природой отпущено, больше не проси». По-видимому, и мне самозащиты или инстинкта природа рассчитала только до этого немца. Пришел конец солдатской жизни. Что меня берегло, когда тысячи людей гибли на моих глазах? И почему сегодня спасла от верной смерти, уже оскалившей зубы и поднявшей косу над моей головой, фортуна или судьба? Непонятно.
Я попросил сестру купить мне бумаги и карандашей. Решил восстановить утерянный в Тихвине дневник. Медсестра все мне принесла. Я приспосабливался, искал удобные положения для письма, долго ничего не получалось. Наконец, чуть повернувшись на бок при помощи санитарки Дуси, выбрал удобный момент и написал несколько слов.
В комнату внесли тяжелораненого. Положили на свободную, долго не занимаемую кровать. Когда санитары ушли, от нечего делать я стал его внимательно разглядывать. У него была забинтована голова. Левая рука была наполовину короче, обмотана толстым слоем бинтов, забинтованы живот и правая нога. «Нечего себе, – подумал я. – Здорово немцы угостили мужика. Наверняка снаряд или мина взорвались рядом».
У вошедшей медсестры я спросил: «Что, новенького привезли с фронта?» «Нет, – ответила сестра. – С фронта к нам сейчас уже никто не поступает. Фронт отодвинулся далеко от нас. Он глушил рыбу и подорвался на противотанковой гранате. Как говорят, граната взорвалась почти в руках. В результате искалечило человека на всю жизнь. Выбит один глаз, ампутирована рука. Грудь, живот и нога усеяны десятками осколков. Будет и он выдавать себя со временем за инвалида войны. Назначат ему большую пенсию. По делу-то надо бы судить как браконьера». «Вы, сестра, так громко не говорите, разбудите, проснется». «Нет, поспит еще часика три, а может и больше. Он получил хорошую дозу наркоза». «Кто он?» – спросил я. «Звание, кажется, майор, а кто он – не знаю. По правде сказать, больной он для меня. Я обязана за ним ухаживать и лечить его. Больше меня ничего не интересует». Сестра ушла.
Я стал внимательно разглядывать своего соседа. Почему его положили ко мне, а не в офицерскую палату? Марлевая повязка на левом глазу была с моей стороны. Открытой стороны лица я не видел. Через несколько минут он повернул голову в мою сторону. Я чуть приподнялся на лопатках. Что-то слишком знакомым показалась мне его одна половина лица. Я долго подбирал в памяти его физиономию. Наконец вспомнил. Ба! Да это же тот самый майор госбезопасности, который приходил ко мне с замполитом госпиталя и хотел учинить допрос. Обозвал меня самострелом и чуть ли не врагом народа. Сначала во мне проснулась обида, но искра злобы тут же угасла. Я начал смотреть на него с сожалением. Мне стало жаль его до слез. Такой статный молодец. Природа его наградила всем: красотой, ростом, чином. Вдруг непредвиденное несчастье – калека. Кто бы из нас отказался бросить одну-две противотанковые гранаты вглубь речного омута и сварить хорошую уху. А у него, может, мать есть, отец, жена и дети. Все будут переживать, плакать.
Слово "калека" меня прожигало насквозь, как каленое шило. Я тоже в двадцать пять лет инвалид. Что будет со мной дальше? Об этом не хотелось думать.
Я радовался, что ко мне поселили живого человека, который скоро проснется от наркоза. Мы с ним будем говорить на все темы. Главное, он мне расскажет о положении на фронтах, в тылу и все новости. Медсестры от разговоров на разные темы уклонялись, ссылаясь на недостаток времени. Врачи кроме диагноза и назначения лекарств ни о чем не говорили. Мне было скучно и неприятно, как преступнику в одиночной камере. Связь со всем внешним миром мною давно была потеряна. Но вот появился новый человек. Человек эрудированный, образованный. Он обо всем мне расскажет. Так я думал.
Разум работал четко и ясно. А не пора ли заняться самоподготовкой? Надо же учиться. Нужна специальность. Иначе куда я годен для будущего. Вылечат, выпишусь из госпиталя, поступлю в техникум или институт, в зависимости от обстоятельств. Решено. С сегодняшнего дня я буду просить учебники за 7-10 класс. Начну штудировать.
Сосед мой проснулся. Он открыл глаз, внимательно посмотрел на потолок и стены. Поднял кверху левую ампутированную руку и положил ее на забинтованный глаз. Тут же убрал и положил рядом. Изо рта его вырвался не то стон, не то вздох. «Молодец! Хорошо держится», – подумал я. Чтобы не обращать на себя внимания, зная, что после операции очень трудно, я начал читать новую книгу. Она с самого начала оказалась увлекательной. Сразу же забыл о соседе. Я был в мире книги, в мире авторской фантастики. Переживал за героя. Стремился скорее знать, что будет с ним дальше. Радовался его удачам и огорчался его промахам. Сосед стонал и метался по кровати. Я понимал его состояние и не обращал на него никакого внимания.
Раны его невыносимо болели. Давали о себе знать. Он обратился ко мне: «Слушай, друг, дай закурить. Больше не могу выносить болей». Я бросил ему пачку папирос. Но бросок рассчитал плохо. Он не сумел поймать, и пачка упала на пол. «Вы ловите», – предупредил я и бросил вторую пачку. Папирос у меня был большой запас. Я очень мало курил. Папиросы давали каждый день. Вторая брошенная пачка перелетела через него, ударилась о стену и тоже упала на пол, уже под кровать. Сосед закричал на меня зычным голосом: «Растяпа! Не можешь по-человечески бросить. Встань и принеси». На мгновение я потерял к нему всякое расположение. Чтобы успокоиться и не наговорить глупостей, я начал считать про себя. Сосчитал до пятидесяти. Сосед не унимался, кричал: «Ты что молчишь, как чурка с глазами! Не слышишь, что я тебе говорю?» Я с большим трудом сдержал себя, чтобы не крикнуть. Примирительно сказал: «Товарищ майор. Я рад бы подняться, но не могу. Четвертый месяц лежу замурованный в гипс. Посмотрите, пожалуйста». Я откинул одеяло и показал гипсовый панцирь. Он рассеяно посмотрел и уже тише, но повелительным голосом заговорил: «Есть еще папиросы? Брось пачку». На этот раз бросок я рассчитал точно. Папиросы и спички приземлились на его грудь. Он закурил. Большими дозами глотал горький едкий дым.
Снова повернул голову ко мне: «Откуда ты знаешь, что я майор?» Такого вопроса я не ожидал, но, не задумываясь, ответил: «Сестра сказала, да, кстати, мы с вами знакомы, встречались». Он направил на меня острый взгляд своего единственного глаза. Тихо проговорил: «Что-то не припомню. Всех разве можно помнить. За восемь лет, то есть с 1936 года, через мои руки прошли тысячи человек, неблагонадежные и враги народа. Мы с ними долго не нянчились. Все получали по заслугам. Может, вы проходили свидетелем по какому-нибудь делу?» «Никак нет, товарищ майор». «Тогда откуда ты меня знаешь?» – поинтересовался майор. «После скажу, товарищ майор. Сейчас вам нужен покой. Надо привыкнуть к болям». «Нет, уж если начал, то говори», – закричал майор.
Я отлично понимал его состояние после операции. Поэтому, чтобы не раздражать его, тихо ответил: «Вы не кричите. Я на сей раз не контужен, слышу хорошо. Если требуете, то расскажу. Помните, вы ко мне приходили в палату со злосчастным патроном, у которого не сработал капсюль, произошла осечка. Если бы капсюль сделал свое, я с вами вообще никогда бы не встретился».
«Ах, это ты, меланхолик. Я тебя не узнал. Хотя черты лица у тебя памятные, в голове могут сохраниться на годы. Правду сказать, я что-то стал плохо видеть одним глазом. Ты не знаешь, целый или нет мой второй глаз?» «Не знаю, товарищ майор». Говорить об этом я не имел права, сам узнает.
«Кстати, почему ты решил тогда застрелиться?» «Что я могу вам сказать в свое оправдание? Нервы не выдержали. Вы все равно меня не поймете. Различаете на мне гипсовый склеп, в котором я заживо похоронен?» В знак согласия майор чуть качнул головой. «Сейчас мое тело привыкло к гипсу. Старики говорили, попривыкнешь, и ад покажется раем. В то время я гипс еще плохо переносил. Мне казалось, что я пожизненно замурован в этот гипсовый гроб. Даже дышать он мне мешал. К тому же перевозка из госпиталя в госпиталь. Какой-то негодяй в Тихвине украл у меня полевую сумку с документами и фотографиями. Самое главное, у меня там лежал дневник со всеми событиями с начала войны». Я хотел сказать, что пронес дневник сквозь немецкий плен, но вовремя удержал себя. Сказал, что пронес его сквозь долгие огневые годы.
«Многие фронтовики – народ слишком загадочный, рискованный. Долго воевал?» – перебил майор.
«С первого дня войны. Самое главное, что заставило пристрелиться, это двадцатипятиградусный мороз. Вы можете себе представить? Хотя вы в гипсе никогда не были. В мороз выставили нас на носилках на перроне. Покрыли одеялами. Проклятый гипс начал постепенно охлаждаться. Через пятнадцать-двадцать минут появилось ощущение, что умышленно хотят заморозить. Кричать, стонать, требовать бесполезно. Криков хватало без моего голоса. Я был не один, были сотни человек. Я подумал, что на этом все кончается. Чем скорей умрешь, тем меньше мук. Если бы еще полчаса подержали на морозе, я постепенно превратился бы в кусок замороженных костей. Мало радости осталось от тех пятидесяти-семидесяти минут, которые я пролежал на перроне. Результат – крупозное воспаление легких, за ним следовала газовая гангрена. Все это перенес из-за гостеприимства госпитального начальства. Выложили на мороз и накрыли нестерильными одеялами».
«Ты перенес газовую гангрену? Не верю», – возразил сосед. «Не веришь – спроси медсестру, а лучше врача. Они не соврут». «Гады, враги народа, – сказал майор. – Я до них начинал добираться, но вот несчастье. Сейчас надолго выбыл. Как приступлю к работе, я ими займусь. Ты знал того человека, который покончил самоубийством и сумел передать тебе пистолет?» «Нет, не знал. Я даже его лица не видел, так как лежал в наклоненном положении в противоположную от него сторону. При всех моих попытках повернуть к нему голову ничего не получалось. Вы, по-видимому, этим делом занимались, поэтому прошу вас сказать, кто он и откуда».
Сосед ощущал сильные боли – молчал. Я подумал, что он не хочет отвечать. Он снова закурил. Набирал полный рот дыма и с жадностью отправлял его в легкие. После третьей затяжки, басом, как бы дразня меня, повторил: «Кто он! Кто он! Старший лейтенант. Он не знал, что ему присвоено звание капитана. Ему тридцать четыре года. Уроженец Тамбовской области, инженер. До войны работал в Минске. Судьба жены и двух детей неизвестны. Они остались в оккупации. Мать живет на Тамбовщине. Он, как и ты, был замурован в гипс по самую шею и с обеими ногами. О его гибели известили мать. А что написали в похоронной? Ясно что. Умер в госпитале от тяжелого ранения. Вот ты говоришь, что потерял дневник. А знаешь ли ты, что на фронте запрещено вести дневники».
Он назвал номер и дату приказа Верховного Главнокомандующего. Я сказал, что слышал и писал самое необходимое. «В моем дневнике кроме меня никто ничего не разберет». «Ты это брось, наши враги разберут». Я хотел ответить ему, что он не знает настоящих врагов-немцев, а они дневниками не интересуются.
В палату вошла врач Роза и медсестра Люда. «Людочка, как давно я вас не видел, и как вы пополнели, стали такой очаровательной», – невольно вырвалось у меня. Люда вначале посмотрела на меня кинжальным взором красивых серых глаз, затем лицо ее порозовело. Улыбаясь, ответила: «Какой ты молодец, перенес все, поправился». Врач сначала посмотрела на меня, затем на Люду. Взглядом приказала прекратить разговор. Я не унимался: «Люда, почему ты у нас так долго не была?» «Что, соскучился?» – ответила Люда. Роза оборвала наш разговор. «Как дела, больной?» – обратилась она ко мне. «Хорошо», – ответил я. Она открыла одеяло, посмотрела на гипс и снова закрыла. Мне показалось, что интересуются не моей раной, а гипсом.
Затем подошла к соседу, спросила, как его дела. Он начал жаловаться на сильные боли, на плохое отношение: «У нас в палате у тяжелораненых нет даже дежурной санитарки. Умирая, никого не докричишься». Претензиям его, казалось, не будет конца. Роза очень внимательно слушала его. Тихим голосом, как мне показалось, но очень резко ответила: «Вас мы к тяжелобольным не относим, и сажать к вам дежурного санитара нет необходимости». Тон врача показался соседу грубым. Он не просил, а требовал главного врача, то есть начальника госпиталя.
Главный врач не пришел. Может быть, Роза не доложила о требованиях моего соседа или его не было на месте. Сосед не успокаивался, кричал, ругал врачей и госпиталь на чем свет стоит. Возмущался несправедливостью, плохим отношением к больным. Через два часа после ухода врачей он встал с кровати, попросил разрешения, взял у меня карандаш и ученическую тетрадь. Пристроившись к своей тумбочке, что-то долго писал (в палате стола не было). Закончил писать. Письмо упаковал солдатским треугольником. Громко заговорил: «Я вам покажу кузькину мать. Они меня долго будут помнить. Не на того нарвались». Письмо он отправил, но вряд ли оно дошло по назначению. Цензоры работали отменно.
На меня он стал смотреть грозно. Накопившуюся злость на врачей стал срывать на мне. Закричал: «Эй ты, хлюпик, чего молчишь?» Я спокойно ответил: «Побереги нервы до завтра. Тебя долго не выпишут из госпиталя. Спокойствие – залог здоровья. Зачем напрасно возмущаться? Своим криком и угрозами здесь ты идеального порядка не наведешь». «Как ты смеешь, дистрофик, так со мной говорить? Я тебе покажу». И бросил в меня вилку. Вилку я поймал на лету. Следом за ней в меня полетела тарелка. Я драки не начинал, но ответный удар нанес. Его же вилкой и тарелкой попал точно в цель – в голову. Сначала он застонал, а затем вскочил с кровати и ринулся в атаку на меня. Я приготовился к обороне. Свои удары он обрушил на гипс, так как голову я защищал обеими руками. Улучив удобную долю секунды, я ударил его правой рукой в подбородок. Эффект превзошел все мои ожидания. Он, словно подкошенный пулеметной очередью, хлопнулся на пол. Завизжал, как кабан под ножом. Визг чередовал словами: «Помогите, убивают».
Первыми прибежали трое легкораненых. Следом за ними санитарка, медсестра и врач Роза Эдлер. Соседа осторожно подняли, положили на кровать. «Больной, почему вы хулиганите?» – спросила Роза. Вместо ответа из его горла вылетел клокот, как у разъяренного индюка. Затем, как из автомата, посыпались слова: «Вы меня обвиняете в хулиганстве? Я требую, чтобы сюда немедленно пришел главный врач! Немедленно уберите этого дистрофика и фанатика. Будете свидетелями. Он избил меня. Этого я ему никогда не прощу. Вы знаете, кто я? Завтра же его судить будем. Отправим туда, где Макар коз не пас». Роза раздраженно сказала: «Больной, что вы чушь несете. Кто вам поверит». Но он ее перебил: «Я весь ваш госпиталь разгоню. Все здесь неблагонадежные. Всех под суд, все враги народа!»
Он настолько увлекся полнотой своей власти и угрозами в адрес госпиталя, что даже не заметил, как все ушли из нашей тесной палаты. В реальность вернул его я. Крикнул: «Перестань грозить и напрасно трепать языком. Никто тебя не боится. Ты – самый негодный лгун, каких впервые видит наша русская земля. Ты – бандит, браконьер-рыбак, глупый идиот и трус. Клянусь тебе родной матерью, если бы я мог встать, я бы тут же тебя задушил, как вшивого фрица. Ты – гадюка в образе человека. Немало на твоем счету ни в чем не повинных русских людей, которым ты искалечил жизни, назвав врагами народа, а затем замучил или расстрелял. Придет время, кончится война, и ты еще за все ответишь. Наш народ после победы распознает в тебе волка в овечьей шкуре. Сорвет с тебя маску. Ты – Иуда, ты – предатель».
Он молчал, не перебивал меня. Злобно глядел на меня одним глазом. Всего я ему высказать не успел. Вошли главврач и Роза. Главврач подошел ко мне, взял мою левую руку, нащупал пульс. Через минуту сказал: «Молодец, отлично. Воскрес из мертвых». Я ответил: «Большое спасибо вам и всем вашим сотрудникам за проявленную ко мне заботу, отличное отношение и лечение, длительную борьбу за сохранение моей жизни». Мои слова растрогали главного врача. Он пожелал мне скорей поправиться и быть полезным Родине.
От моей кровати главврач повернулся к соседу. Тот заговорил на высоких тонах, в первую очередь обрушился на меня, закричал: «Льстивая хитрая лиса. Трус, враг народа, фашист». Главный врач крикнул на него: «Перестаньте, не кричите. Вы незаслуженно обвиняете человека, отдавшего все для защиты Родины. Он трижды ранен на фронтах Великой Отечественной войны. Он капитан, командовал батальоном еще в начале войны». «Он наврал вам», – крикнул сосед. «О себе он ничего не говорил. Он долго лежал в изоляторе забытый всеми, с газовой гангреной, как говорят, ненадежный, приготовленный к смерти. От него никто не слышал бахвальства. О нем говорили люди, его однополчане, как о настоящем человеке и герое».
Сосед жалобно простонал: «Он меня избил». «Он вас избил? – с изумлением сказал главврач. – Вам, по-видимому, приснилось. Он пятый месяц лежит без движения, замурованный в гипс и прикованный к кровати». Главврач повернул ко мне голову и спросил меня: «Правда что ли?» Я ответил: «Да. Он кинулся на меня в драку. Защищаясь, я его толкнул. Он упал и закричал о помощи». «Вот оно что, – тихо проговорил главврач и обратился к моему соседу. – Вас надо судить по выздоровлению. Вы на беззащитного больного человека кинулись в драку. Как вы смели». Но сосед договорить до конца не дал. Он резко закричал: «Вы знаете, кто я! Почему вы со мной разговариваете, как с мальчишкой. Я – майор госбезопасности». Главврач мягко вставил: «Вы для меня больной. Притом больным стали по личной инициативе». Майор, как ужаленный гадюкой, подпрыгнул на кровати. Затем сел и снова закричал: «Я вас за такие слова арестую, посажу. Отдам под суд военного трибунала. Сотру в пыль, порошок, расстреляю». «Хватит, больной, кричать и болтать вздор. Сестра, позовите санитаров и отнесите его в офицерскую палату. Там ребята быстро найдут с ним общий язык». Появились санитары с носилками и утащили моего соседа.
Я снова остался один. Сейчас одиночество мне было не страшно. Я запоем читал книги. Художественную литературу чередовал с учебниками для средней школы.
На следующий день в палату принесли 18-летнего парня, коренного жителя Бокситогорска. «Давай будем знакомиться. Я старшина Котриков». «А я рядовой Собачкин Володя. Ранен два месяца назад под Ленинградом. Осколок величиной с горошину попал под чашечку коленного сустава. С поля боя до медсанбата шесть километров дошел сам. Врачи не сумели вытащить осколок. При операции удалили чашечку. На всю жизнь останусь калекой. Нога сейчас не будет гнуться в суставе. Мои родители живут недалеко от госпиталя». «А они знают, что ты здесь?» «Знают, я уже две недели в этом госпитале».
К вечеру пришли его отец, полностью ослепший в возрасте 25 лет, и мать, принесли бутылку топленого молока и стакан сметаны. Из разговора отца с сыном я понял, что отец нигде не работал, ездил в разные города и в поездах выпрашивал подаяния.
За два месяца проживания в одной палате с Собачкиным отец его приходил только два раза. Зато мать была каждый день – с молоком и сметаной. Также она приносила письма от Володиного брата, который воевал под Сталинградом, а сейчас находился где-то далеко за Киевом. Володя с увлечением читал их. Письма брата были пронизаны духом патриотизма и ненависти к фашистской Германии.
Время шло быстро. День сменялся ночью, ночь – днем. Резких болей я больше не ощущал. Тело приспособилось к гипсовому панцирю. Настало время его снять. Весь процесс длился не более 20 минут. Освобожденная от гипса больная нога меня не слушалась, не подчинялась моему разуму. Мне казалось, я заново родился, но ходить пока не научился.
Каждый день меня выносили на носилках на улицу. Приятно грело майское солнце. Кругом щебетали птицы. Заботливые воробьи тащили в свои гнезда шерсть и сено. Врачи советовали мне загорать на солнце, но я стыдился своей дистрофической худобы. Накрытый белой простыней, лежал в чем мать родила. Если дни были прохладными, то накрывали одеялом. Мышцы мои были настолько атрофированы, что я был похож на живой скелет. Чистый воздух, солнечные лучи укрепляли мой организм. Появлялся аппетит. Дело шло на поправку, на выздоровление.
В один из майских дней под окном палаты появилась женщина. Предложила мне купить у нее пол-литра молока или обменять на хлеб. Она сказала, что молоко козье, очень питательное. Я выменял его и выпил в один прием. Через полчаса как будто началось землетрясение. Вся палата заходила ходуном, затем стала крутиться, как карусель. Я позвал сестру. Она спросила, что я ел. Я ответил, что купил козье молоко.
Хаос в моем сознании царил более двух суток. Из-за моего головокружения запретили продажу молока у госпиталя. Меня на всю жизнь отучили от молока. Оно мне стало казаться невкусным, противным. Один вид молока часто вызывал тошноту. Зато Володя Собачкин пил его с большим удовольствием и с каждым днем толстел. Его лицо стало походить на сочное спелое яблоко.
Фронт уходил далеко на запад. Наши части вступили на территорию прибалтийских республик. В госпитале послышались разговоры об эвакуации ближе к фронту. Предсказания санитарок и медсестер сбылись. В двадцатых числах мая было объявлено – всем больным приготовиться к отправке. Принесли старые залатанные гимнастерки и брюки. На требование выдать мое обмундирование кладовщик ответил: «В нем уехали люди на фронт». Володю Собачкина по просьбе отца с матерью оставили в Бокситогорске в больнице.
Нас снова погрузили на санитарный поезд. Снова в путь-дорогу. Ехали чуть больше суток. Приехали в город Боровичи. Госпиталь находился в здании средней школы. Меня положили на второй этаж в просторный класс, где было установлено больше 20 кроватей. Через неделю с помощью медсестры и санитарок я стал учиться ходить. Еще через неделю уже сам отлично передвигался на костылях.
Громадное здание средней школы до отказа было забито ранеными. Здесь можно было встретить людей, которых раны обезобразили до неузнаваемости. С обгоревшими лицами, руками и телом, с отбитыми нижними челюстями, без нижних и верхних губ или правой и левой щеки, не говоря уже о конечностях – руках и ногах. Здесь были раненные в голову, по нескольку месяцев не вспоминающие своих имен и фамилий. Слепые, глухие и так далее.
Проходя мимо палат восстановительной хирургии, невольно думаешь: «Война, война, зачем же ты так искалечила ни в чем не повинных людей? Зачем на всю жизнь обезобразила лица, взяла глаза, руки, ноги? Сейчас, когда еще гремят военные канонады, когда люди идут на штурм, в атаки, отбирая у немцев город за городом, все привычно, все присмотрелось и примелькалось. Кончится война, пройдут годы, а затем и десятки лет. Мы, обезображенные войной, будем лишние в человеческом обществе».
Будучи прикованным к постели, я себя тоже считал несчастным калекой, но, насмотревшись на все, думал: «Война меня выплюнула из своей пасти еще человеком, а не уродом. Я отделался легко. У меня удален тазобедренный сустав. Правильно врачи говорят, если сумею хорошо разработать ногу в коленном суставе и бедре, жить будет можно. Научусь ходить, буду день и ночь сгибать и разгибать ногу, добьюсь своего».
Старался больше ходить. Иногда заглядывал в другие палаты. Смотрел с любопытством, а иногда и с отвращением на несчастных, искалеченных людей. Многим из них лежать придется годы, чтобы прирастить челюсть, щеку, нос или губу.
Время летело незаметно быстро. Я снова влился в человеческое общество, правда, госпитальное, но все равно общество. Играл в домино, в карты, слушал занимательные рассказы о похождениях бравых солдат. Не пропускал ни одного концерта, устраиваемого общественностью для раненых. Читать уже не было времени, да и не хотелось. Стремился к свободе, выбраться из госпиталя в город, сходить в кино или на танцы, познакомиться с девушкой. Из задуманного ничего не получалось. Одна беда – плохо ходил. Нога не подчинялась разуму и, самое главное, не сгибалась в тазобедренном и коленном суставах. Усердно занимался физкультурой и лечебной гимнастикой, но сдвигов не было почти никаких. Нога упрямо не хотела сгибаться.
Снова прозвучала команда собираться в дорогу для эвакуации в другой госпиталь. Снова перевозка на санитарных автомашинах "скорая помощь". Мы в шутку их называли "последняя помощь". Посадка в санитарный поезд. Гудки паровозов, шум и скрип тормозов вагонов. Снова в путь. «А куда?» – самопроизвольно возникал вопрос.
Замелькали в окнах вагонов железнодорожные постройки, телефонные столбы, леса, поля и деревни. Проплывали мимо нашего поезда железнодорожные вокзалы, большие и маленькие. У всех на языке вертелся один вопрос: «Куда везут?» Одни говорили – на Урал, другие – в Сибирь, в Рязань, Казань. Один лейтенант утверждал: «Я пользуюсь официальными источниками. Едем на Дальний Восток, выздоровеем, заменим тех, кто не нюхал пороху».
Проехали Шарью, Шабалино. Скоро мой родной город Котельнич. На сердце скребут кошки. Судьба кидает неизвестно куда. Едем с запада на восток. С такой ногой я уже больше не вояка, даже сидеть не могу. Скоро должны комиссовать. А если повезут на Дальний Восток, это полмесяца туда и полмесяца обратно. Целый месяц в пути, а то и больше. Надо что-то предпринять. Многие советовали выйти в Котельниче и отстать от поезда. Там обратиться к военному коменданту. В госпиталь положат и долечат. Сестры пугали: «Мы тебя из вагона не выпустим. Сбежать – это дезертирство».
Котельнич приближался. Замелькали маленькие домики. Поезд остановился. Наш вагон против вокзала. Наружу сестра меня не выпускала. Следила за мной, как за преступником. Я в нерешительности сидел и думал, как быть. Со всех сторон меня окружили подстрекатели. Одни говорили: «Не зевай, уходи». Другие: «Иди к главврачу санпоезда – отпустит». Третьи советовали: «Сиди и жди, куда повезут, не все ли равно. Домой еще поспеешь. Да что тебе дома делать? Ни жены, ни детей. Отцу с матерью в такое голодное время ты будешь обузой. Тебя надо кормить, поить, одеть. Ехал бы на Дальний Восток и брался бы за самостоятельную жизнь».
В вагоне прозвучала команда: «Внимание, товарищи, кто может, выходите на вокзал. Дальше не поедем». «Здорово тебе повезло, – кричали соседи. – Откуда призвали в армию, туда и привезли раненого». Невысокий тощий паренек лет девятнадцати, раненный в руку, с ехидством проговорил: «Маменькин сынок. Таким везет». «Ах ты, щенок», – не вытерпел я и пригрозил ему костылем. Он тут же смотался, и я его больше не видел.
В Котельниче нас партиями перевезли с вокзала в больницу, где находился военный госпиталь. Язык мой – враг мой! Сестрам и санитаркам сказал, что я местный. Для соблюдения военной дисциплины в госпитале, чтобы не убежал ночью к своим родственникам, у меня на ночь отбирали костыли. Я попытался ходить без них, опираясь на палку. Получалось. Прошел по палате взад и вперед, затем два раза туда и обратно по длинному больничному коридору. Я стал передвигаться, опираясь на больную ногу, без костылей. С каждым днем ходил больше. До боли сгибал и разгибал ногу в коленном суставе. С каждым днем сгиб на несколько градусов увеличивался. Сустав опухал. Но я старался сгибать, ни на что не обращая внимания. Лечащий врач спросила: «Вы согласны выписаться из госпиталя?» Я ответил, что согласен, хотя рана никак не зарастала и гноилась. Образовался большой свищ. Врач порекомендовала мне раз в неделю делать перевязки в ближайшем медицинском пункте.
Для человека нет ничего дороже и ближе родного дома, родной деревни, окружающих ее полей, перелесков и лесов. Все с детства знакомо. Все до боли дорого.
Прощай, госпиталь. Прощай, трудная солдатская жизнь. Завтра еду домой. Еду в неизвестность. Еду для того, чтобы начать жизнь заново.
Глава тридцать пятая
Из госпиталя меня комиссовали и утром после завтрака вручили документы. Я стал уже не солдат, а инвалид войны третьей группы. В армии беспокоиться было не о чем – кормили, одевали и обували. Теперь надо было думать обо всем самому. Завхоз госпиталя завел в каптерку, где висело около двух десятков видавших виды солдатских шинелей, пожелтевших от времени, солнца и костров, с множеством маленьких дырок. Разрешил выбрать любую. Показал в угол, на кучу залатанных брюк и гимнастерок, весело проговорил: «Повезло тебе, парень, едешь домой. Пользуйся моей простотой, выбирай, что понравится». «А где же мое обмундирование, которое следовало за мной с момента ранения до самого вашего госпиталя?» – с возмущением сказал я. «Да ты что, рехнулся? Твое обмундирование еще пригодится солдату, тому, кто снова пойдет на фронт. Народ не жалеет ничего для победы, даже жизней, а он за брюки зацепился. Вот что, друг, мне с тобой торговаться некогда. Давай выбирай быстрей и уходи восвояси». Спорить и доказывать было бессмысленно. Я надел первую попавшуюся гимнастерку. Но завхоз запротестовал: «Она вам слишком коротка». Выбрал из кучи менее поношенную, затем подобрал брюки. Быстро оделся, схватил какую-то шинель, хотел быстро выскочить из каптерки, но нога напомнила о себе. Завхоз взял из моих рук шинель и подал другую. «Эта тебе лучше подойдет доехать до дому, носить ведь все равно не будешь. Она тебе в армии надоела. Сколько лет служил?» Я не ответил на вопрос. Вышел из каптерки, распрощался с товарищами и пошел на выход ждать попутную автомашину.






