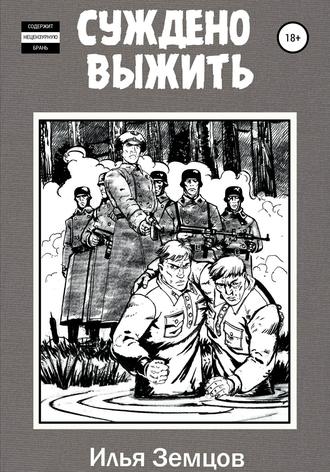
Илья Александрович Земцов
Суждено выжить
В землянке стояла жара. Я был мокрый от пота. Все ухаживания Артемыча были бесполезны. Температура повышалась, сознание меня оставляло. Трудно сказать, сколько я находился в бессознательном состоянии, с отключенной головой. Очнулся от укола в ягодицу. Укол делал незнакомый молодой человек. Затем он смерил температуру, прослушал через деревянную трубку грудную клетку, сказал: «Крупозное воспаление легких. Кризис болезни на исходе. Сейчас главное – уход».
Затем он стал прослушивать и мерить температуру у Пеликанова. Диагноз – начальная стадия воспаления легких.
В сознании у меня пронеслась молнией мысль: болеет и Пеликанов. Доктор оставил Артемычу таблеток. Сказал, что нужно давать по таблетке три раза в день. Затем скороговоркой пожелал быстрого выздоровления и ушел. Откуда, кто он, мы не знали. Знали только одно, что это забота Дементьева.
После ухода медика я с большим трудом сидел, растянув ноги на нарах землянки, опираясь обеими руками в настил. Чувствовал себя очень плохо. Голова кружилась, перед глазами плавали круги. Окрашенная во все цвета радуги землянка ходила по кругу, словно карусель, центром которой был я. Укол был сделан не очень удачно, или толстой иглой, или ядовитым лекарством, так как из ягодицы текла кровь и чувствовалась очень сильная боль.
В землянке нас было четверо: Пеликанов, Гиммельштейн, Артемыч и я. Сидевший рядом со мной лесник мне представлялся богатырем. Его голова, обросшая длинными густыми волосами и такой же черной густой чуть с желтизной лопатообразной бородой, с высоким лбом, с глубоко посаженными глазами, прямым миниатюрным носом, с резко выступающими вперед широкими скулами, с чуть припухшей верхней губой и несколько отвисшей нижней, белыми ровными зубами, казалась мне привидением. Голову его на широких плечах поддерживала толстая короткая морщинистая шея. Сидевший рядом с ним Гиммельштейн был похож на мальчишку.
Время шло очень медленно, все заботы по уходу за мной и Пеликановым взял на себя Гиммельштейн. Он с ласковостью врача-профессионала задавал нам вопросы. Ко мне он относился с наигранной симпатией, к Пеликанову более официально, с некоторой отчужденностью. Сам оценивал наше состояние, подбадривал.
Я спросил у Гиммельштейна, почему он не возьмет у старика таблетки для раздачи нам. Он сказал, что старик не доверяет ему, да и вообще не только старик смотрит на него отчужденно, а даже Дементьев и Пеликанов. Слова из него сыпались как из рога изобилия.
«Я не виноват, что родился евреем», – сказал под самый конец. «А кем бы ты хотел родиться?» – спросил я его. Он, не задумываясь, ответил: «Шведом». «А почему шведом?» «Потому что Швеция со времен Петра Первого не воюет. Шведы – очень культурный народ, материально обеспеченный».
Артемыч подолгу в землянке не сидел. Он приходил в определенное время три раза в день. Раздавал нам лекарства, приносил продукты питания, кормил нас, поил чаем и исчезал. Он чувствовал большую неприязнь к Гиммельштейну и перекидывался с ним лишь редкими словами. На вопросы Гиммельштейна отвечал с неохотой. Мясной суп, кашу он приносил в кастрюле, по-видимому, с кордона. Чай кипятил на печке в землянке. Со мной и Пеликановым он был ласков, старался удовлетворить все наши прихоти. Во всем организме я стал чувствовать легкость. Болезнь проходила. Появился аппетит. В руках и ногах была сильная слабость, с большим трудом я ходил по землянке, временами держась руками за нары.
Старик, видя мое выздоровление, нагрел на печке воды, заставил меня вымыться. Принес чистое белье. После всего пережитого я чувствовал себя как в раю. Через неделю я вышел из землянки и оценил местонахождение. Моим попутчиком был Гиммельштейн, он не отставал от меня ни на шаг.
Наша землянка находилась на маленьком островке площадью не более 0,5 гектара кругом в топком болоте, поверхность которого была сплошь в воде. Из воды выглядывало множество кочек, на которых росла чахлая карликовая сосна и береза.
На болоте были видны большие окна воды. Не знающего тропы человека они предательски манили к себе, где его ждала смерть.
Гиммельштейн внимательно всматривался при каждом нашем обходе острова в болото, как бы искал кого-то. На мой вопрос, что он ищет в болоте, он ответил: «Не зная тропы, с острова выйти невозможно». Площадь острова была вытянута со сложной конфигурацией, вся сплошь заросшая елью и пихтой. Насколько мог видеть глаз, на болоте всюду росла мелкая карликовая сосна. В пространстве она уплотнялась и постепенно переходила в крупный смешанный лес. Дементьев за весь период моей болезни ночевал одну ночь, два раза появлялся днем. На любопытные вопросы Гиммельштейна отвечал, что занимается охотой за лосями, надо создать запасы мяса на зиму.
Пеликанов болел, он часто бредил. Я почти все время сидел рядом с ним. Артемыч доверял мне давать ему лекарство и кормить его с ложки, как грудного ребенка. Стоял еще осенний месяц, ноябрь, а зима в 1941 году уже вступила в свои права. Температура воздуха доходила до -20. Снег покрыл грешную, облитую кровью землю пушистым мягким одеялом. Несмотря на сильные морозы, болото не промерзало, тем самым осложнялся выход с острова. Поэтому Артемыч ходил к нам всегда в больших резиновых сапогах. Остров покидали только Дементьев и Артемыч. Нам с Гиммельштейном это было запрещено.
Вечером в землянке снова появился тот самый молодой человек с санитарной брезентовой сумкой. Здороваясь, он обратился ко мне с добродушной улыбкой и сказал: «Я очень рад, что вы выздоровели». В свою очередь, я поблагодарил его за внимание. Он приступил к прослушиванию Пеликанова.
Температура была, как он выразился, критическая – 41,1. Диагноз – крупозное воспаление легких. Во время измерения температуры и прослушивания Пеликанов приходил в сознание на одно мгновение. Бредил, звал какую-то Нину, затем маму. Кричал, ругая немцев. Звал меня и наших расстрелянных товарищей. Обвинял Дементьева чуть ли не в предательстве. Лесник Артемыч стал приходить только раз в сутки. Все заботы по уходу возложил на меня. Он приносил лекарство, хлеб и мясо. Суп мы с Гиммельштейном варили на печке. Под нарами был еще солидный запас картошки. С каждым приходом Артемыча весь облик землянки менялся. От душевных слов и проявления заботы становилось веселей.
Даже Гиммельштейн оживлялся. Он проявлял большое любопытство и задавал иногда неуместные вопросы. Где достаешь лекарство? Откуда приносишь хлеб, крупу? И так далее. Старик невозмутимо отвечал сразу на несколько вопросов: «Все покупаю у жадных к наживе немцев за серебряные вилки, ложки и монеты». Наступала короткая пауза, после которой Гиммельштейн соглашался с ответом старика и говорил как бы самому себе: «Да! Немцы жадны на все драгоценности».
В канун 24-й годовщины Октября вечером к нам в землянку пришли Дементьев с Артемычем и двое незнакомых мужчин в дубленых полушубках и ушанках.
Все четверо были вооружены автоматами и обвешаны гранатами. Они принесли пятилитровый бидон русской водки. Особенно был доволен Артемыч, он подмигнул нам, с улыбкой сказал: «Ну, ребята, сейчас будем праздновать. Я вам привез целого лося. Пошли смотреть». Мы хотели выйти раздетыми. Он сказал: «Не спешите, сначала оденьтесь». Мы с Гиммельштейном вышли следом за Артемычем. В 10 метрах от землянки в тальнике лежала туша, разрубленная на четыре части. Полутораметровая траншея, шириной чуть более 1 метра, длиной не более 2 метров, сверху была плотно заложена досками и сучками ели.
Чтобы перетащить мясо, Артемычу пришлось изрядно потрудиться. Старик от усталости не говорил ни слова. Он был доволен своей полезной работой. Ужин был сготовлен Артемычем с большим искусством. Владимиру Пеликанову было предложено принять участие в праздничном ужине в честь годовщины Октября. Он сказал, что ему стало значительно лучше, только сильно кружится голова. Он сел на нарах, прислонившись спиной к стене.
С речью выступил Дементьев: «Завтра весь советский народ в трудных военных условиях будет праздновать замечательную дату советской власти. Ввиду особо сложных условий мы с вами будем праздновать сегодня. Товарищи, не падайте духом». Он достал из-за пазухи газету "Правда" недельной давности. Глядя лишь на заголовки, подробно рассказал о нашем положении на фронтах.
У стен Ленинграда враг задержан прочно. Под Москвой на отдельных участках наша армия переходит в контрнаступление и наносит врагу сокрушительные удары. На всех остальных направлениях установилась прочная оборона.
У Пеликанова заискрились глаза, и, запинаясь, он сказал: «Значит, немецкая пропаганда "Москва и Ленинград капут" от начала до конца – ложь?»
«Да, товарищ Пеликанов, – ответил Дементьев, – но забывать не надо, что враг крепко вооружен и силен. Наша партия и правительство призывают на временно оккупированных территориях уничтожать живую силу врага, технику, взрывать мосты, железнодорожные составы. Бить фашистов при всяком удобном случае».
Мы с Пеликановым закричали: «Ура!» Я в это время посмотрел на Гиммельштейна, он сидел угрюмый. Дементьев поднял руку и сказал: «Тише, товарищи. Давайте, товарищи, выпьем и хорошо закусим, а завтра выйдем, покажем себя немцам. Пусть они помнят, что находятся на русской земле, и советская власть не только жива, но и сильна».
«Разрешите сказать несколько слов», – попросил я. «Говори, Котриков», – разрешил Дементьев. «Товарищи! Клянусь вам, что отомщу полковнику! Найду его даже под землей. Кажется, фамилия его Беккер». «Отто Беккер», – подтвердил Гиммельштейн. «Дай бог нашему ягненку волка съесть», – заметил Пеликанов.
Налили в алюминиевые кружки водки, стукнулись и выпили. Пеликанову тоже разрешили выпить, но не более 100 грамм. Все с большим аппетитом ели вареное мясо и картошку. На нашем столе были даже огурцы и квашеная капуста.
После сытного ужина Дементьев взглядом показал на дверь. Я оделся и вышел. От землянки отошел на 20 метров. Стоял тихий морозный вечер. Небо было усеяно яркими звездами. Деревья были укутаны снегом. В темноте казались одетыми в белые саваны и походили на причудливых фантастических великанов.
Следом за мной из землянки вышли еще двое. Шли ко мне и о чем-то тихо говорили. Подошел Дементьев, хлопнул меня по плечу, тихо сказал: «Знакомься, это мой старый товарищ – Иван Михайлович Струков». Я подал Струкову руку, сказав свое имя. «Завтра он поведет вас на боевое задание. Возьмите с собой Гиммельштейна. Лично тебе поручено следить за каждым его шагом. Мне он кажется типичным арийцем, артистично копирующим еврейский акцент».
Я сказал: «Если вы подозреваете его, тогда зачем брать его с собой?» Но меня грубо оборвал Струков: «Надо проверить». Я тоже более резко выдавил из себя: «А если сбежит, всех нас предаст?» «Пока он ровно ничего не знает, – ответил Дементьев. – Иди в землянку и держи ухо востро».
Я после болезни чувствовал себя прекрасно, сказал: «Есть». Повернулся кругом, вошел в землянку и крикнул: «Гриша, пошли на прогулку». Он был одет, и мы вышли на чистый морозный воздух.
Дементьев со Струковым куда-то пропали. Мы с Гиммельштейном дошли до сломанной ветром старой ели, это было наше любимое место во время прогулок. Гиммельштейн снова начал ко мне приставать с расспросами о партизанах. Я прикинулся религиозным и сказал: «Вот тебе крест, не знаю» – и три раза перекрестился. Он сказал, что впервые слышит, что я верю в Бога. Я с наивностью ответил: «Смерть за нами ходит всюду. Если верить в Бога, есть хотя бы небольшая надежда на жизнь, правда, не земную, а загробную, но все равно жизнь. Умирать, представляя, что сознание навсегда-навсегда покинет тело, очень тяжело».
Гиммельштейн после короткой паузы ответил: «Ты прав, умирать в таком возрасте, не видавши жизни, очень тяжело, независимо от того, есть Бог или нет». Он рассказал мне историю своей тяжелой жизни.
«Я уже говорил тебе, что родился в Петербурге в бедной еврейской семье, в 1913 году. В тот момент, когда царское самодержавие евреев не только ненавидело, но и презирало как врагов русского Отечества. Моего отца спасала от этого презрения жена-немка. Немцы в ту пору у царя были на хорошем счету. Ты грамотный, изучал историю, знаешь сам почему. Напомню только одно. Жена царя Николая последнего была чистокровная арийка. Мой отец до революции работал в часовой мастерской прославленного мастера двора Его Величества Павла Буре. Небольшой заработок отца никак не обеспечивал большую еврейскую семью в восемь человек, где детей было шестеро.
Мать до замужества жила в прислугах в семье графа. Выйдя замуж, была уволена. Русская аристократия не переваривала евреев. Жили в полуподвальном помещении на Петровской площади. После революции жизнь для нашей семьи преобразилась. Большевики дали нам благоустроенную квартиру на Выборгской стороне. Отец получил работу старшего мастера в часовых мастерских. Мать была грамотной и поступила переводчицей в порт. Наша жизнь вошла в привычное русло. Все дети стали учиться, а нас к тому времени было восемь человек. Шесть мальчиков и две девочки. Сейчас нашей семье, если бы не война, мог позавидовать любой американец. Из восьми человек нас шесть врачей, один инженер-электрик. Только я один из всех техник. Учиться в детстве я не хотел. Техникум окончил уже перед самой войной, после службы в армии. Сейчас отец с матерью эвакуировались из Ленинграда, не знаю куда. Сестры и братья призваны в армию и неизвестно где находятся».
Когда он кончил рассказ, неожиданно спросил меня: «Куда же исчезли комиссары?» Я ответил: «Не знаю, но, думаю, готовится какое-то серьезное дело. Я мельком слышал. Завтра мы пойдем». «Куда?» «Не знаю». «А меня возьмут?» «Да!» – ответил я. «Ты откуда знаешь?» – как-то недоверчиво проговорил он. «Я слышал, как они между собой говорили».
Гиммельштейн потер руку об руку, так как стал ощущаться мороз, и равнодушно сказал: «Наконец-то вспомнили, а то надоело лежать и напрасно есть хлеб».
Холодный воздух проникал сквозь шинель и добирался до тела, поэтому мы вернулись в землянку.
Пеликанов сидел на нарах и рассматривал пожелтевшую фотографию. Незнакомый парень, укрывшись полушубком, спал. Он с визгом сильно храпел. Гиммельштейн сказал, что не переносит таких чудесных звуков, и хотел разбудить парня, но Пеликанов грубо сказал: «Не притрагивайся, пусть спит». Гиммельштейн тоже грубо кинул: «Разбужу», но в это время в землянку вошли Струков и Дементьев. Они принесли два автомата и вещевой мешок, наполовину наполненный гранатами Ф-1, а также двумя противотанковыми.
Один автомат отдали мне, другой – Гиммельштейну, дали по одной противотанковой гранате и по четыре Ф-1. «Я думаю, обращаться с оружием и гранатами умеете», – сказал Струков. Мы одновременно сказали: «Да!» «А сейчас, товарищи, давайте спать, – проговорил Дементьев и, зевая во всю ширину, раскрыл рот. – Завтра выйдем в шестнадцать часов. Надо будет угостить непрошеных гостей в честь праздника горячими пирожками и ватрушками».
В праздничный день мы разобрали и прочистили автоматы. Зарядили по два автоматных диска. Ровно в 16 часов с еле заметным наступлением темноты тронулись в путь. Володя Пеликанов сидел на нарах и печальным взглядом провожал нас. Когда вышли из землянки, Дементьев каждому из нас дал по две бутылки горючей жидкости КС-1. Дорогой я шел и думал. Нас только пять человек. Пятерым нападать на немцев, хоть и ночью, небезопасно. Свою мысль я высказал Дементьеву. Он резко сказал: «Иди, молчи, а там увидишь». Болото перешли по хорошо промерзшему тонкому льду. Вышли на противоположный от кордона берег. Шли цепочкой. Дементьев первым, следом за ним – Гиммельштейн и я. Двое новых шли сзади. Шли след в след, соблюдая двухметровый интервал. После нашего прохода неопытный следопыт сказал бы, что шел один человек. Лесом, по узкой тропе, мы шли более четырех часов. Никаких человеческих следов, кроме наших, больше не было.
К девяти часам вечера мы вышли в поле. Вдали показались темные силуэты деревянных домов с белыми снеговыми крышами. В 0,5 километра от деревни мы сделали привал. Один Струков ушел в направлении деревни. Примерно через полчаса он вернулся к нам, о чем-то полушепотом посовещался с Дементьевым и объявил нам, что в деревне немцев нет. «Сегодня днем все ушли в соседнее село. Но завтра в селе что-то будет. В честь праздника Октября на площади немцы соорудили виселицу и за селом выкопали большую яму. Арестовано много неблагонадежных, намечаются казни. План молниеносной войны провалился, злоба на русский народ разогрелась. Сведений о селе нет. Сколько там немцев, не знаю. Известно, что в нем много солдат. В полуразрушенном здании мастерской МТС сделан склад боеприпасов. Все емкости нефтесклада были заполнены горючим, в основном бензином. О примерной численности немцев, их расположении знал староста деревни. Он почти каждый день ездил в село». Дементьев, как сам выразился, старосту знал хорошо. К предателям его не относил. Поэтому решено было зайти в деревню и навестить старосту. Мы обогнули деревню и подошли к дому с огорода. Признаков жизни в деревне не было, в том числе и в избе старосты. Дементьев постучал в окно. Заскрипела дверь, и кто-то вышел в сени. Грубым басом робко спросил: «Кого еще ночью ко мне принесло?»
Гиммельштейн, подражая немцам, сказал: «Немецкие солдаты». Заскрипел деревянный засов, и дверь распахнулась. Хозяин сказал: «Проходите». Мы с Дементьевым вошли в избу. Дементьев осветил карманным фонариком помещение.
Староста дрожащими руками пытался зажечь керосиновую лампу. Дементьев проговорил: «Спокойно, не волнуйтесь, Петр Васильевич» – и помог ему зажечь лампу. «Мы к вам с добрыми намерениями». Лампа ярко осветила прихожую. Там никого не было.
Староста, пожилой мужчина с окладистой с проседью бородой, не торопясь взял кисет, оторвал кусок от сложенной газеты. Скрутил козью ножку. Вынутая из коробки спичка непослушно скользила по шероховатой стороне, затем она задымилась и вспыхнула. Он прикурил, глубоко затянулся и вместе с выдохом дыма проговорил: «Немцы приходят с добрыми намерениями, вы тоже, а донесет кто-нибудь на меня, что вы были, завтра буду болтаться на перекладине виселицы».
За четыре глубоких затяжки козья ножка сгорела. Он бросил ее на пол, затем плюнул на нее и усердно размял ногой. «Петр Васильевич, вы меня не узнаете?» – проговорил Дементьев. «Да как не узнать, сразу же признал. Что вам от меня надо?» – уже уверенно, грубо сказал староста. «Немного, – ответил Дементьев. – Село вы знаете хорошо». В знак согласия староста кивнул головой. «Бываете там почти каждый день, в том числе были и сегодня». «Да», – ответил староста. «О численности немцев, их расквартировании в селе нам известно. Я хочу у вас выяснить маленькие подробности. Начертите мне на листе бумаги, где расположен штаб, комендатура, гестапо, где живут офицеры, где размещено много солдат и где сидят арестованные». Староста взял протянутый Дементьевым листок бумаги. Достал с полки карандаш. Зажал его между толстыми пальцами, кубиками изобразил отдельные дома, где жили немцы.
В здании сельского совета расположены гестапо и комендатура. В здании школы – казарма солдат, там же во флигеле живут старшие офицеры. Штаб воинского гарнизона, по-видимому, расположен в здании конторы МТС, а в общежитиях, где раньше жили трактористы на ремонте тракторов, находятся офицеры. Численность солдат и офицеров в селе очень большая, как выразился староста. Подтвердил данные о складе с боеприпасами в здании мастерской и о завозе большого количества бензина в цистернах.
Дементьев сказал: «Спасибо, Петр Васильевич, ваших услуг советская власть не забудет». Староста как-то с хрипотцой сказал: «Прошу только реже навещать меня, сам знаешь, от смерти никуда не уйдешь, но не хочется терпеть пыток. Немцы пытать умеют».
Дементьев велел мне выйти. Он остался не более чем на две минуты. По-видимому, дал старосте пароль для связных. Дементьев вышел и направился огородом в поле. Я проследовал за ним. За огородом нас ждали ребята. Позади деревни мы вышли на проселочную дорогу, хорошо укатанную автомашинами и конными санями. Через четверть часа вошли в лес и свернули под углом 90 градусов. Через 200 метров нас окрикнули: «Стой! Кто идет». Дементьев ответил: «Олень!» Это был пароль.
Высокий мужчина провел нас туда, где находилось около 100 человек в белых маскхалатах с автоматами.
Я был назначен командиром группы. В мое подчинение дали Струкова, Гиммельштейна и еще трех молодых парней. Перед нашей группой была поставлена задача: тайно подойти к зданию сельского совета в центре села, поджечь его и два соседних дома бутылками с горючей смесью, сорвать замки с полуподвала комендатуры и сарая, выпустить заключенных.
«Начало действий назначено на час ночи, в любом случае сбор здесь, – сказал высокий мужчина с автоматом. – Это место находится в трех километрах от села. Без команды, даже в случае обнаружения, в бой не вступать. Лучше убегать. Задание очень ответственное и серьезное. Действовать будет пять диверсионных групп, по пять-шесть человек. Один взвод в тридцать восемь человек займет оборону и будет обеспечивать отступление в заданном направлении. Другой взвод встретит ошеломленных немцев кинжальным огнем на главной улице. Немцев в селе не более двухсот человек. Наша задача – нагнать на них страх и создать панику, остальное должно получиться само собой».
В нашей группе был один местный паренек, житель села. Его отец, председатель сельского совета, неделю назад был посажен немцами. Паренек не знал, жив он или нет.
С места сбора вышли все вместе, дойдя до поля, пошли группами. Все группы быстро-быстро растворились в ночной темноте. Я спросил паренька, как его зовут, он сказал: «Митя». Он вел нас полем, затем вдоль мелкого кустарника. Вышли в поле в 200 метрах от центра села. Митя попросил разрешения сходить и установить немецкие посты, патрулей и часовых. Я посмотрел на часы, до начала действий оставалось 50 минут, а для того, чтобы нам дойти, требовалось не более 7-10 минут. Митя и еще один паренек скрылись. Сначала был слышен легкий шорох их шагов, через две минуты все стихло. Явились они через 20 минут.
Митя шепотом доложил, что у здания совета, вернее у подвала, стоял один часовой. Другой часовой ходил от сарая до совета, третий патруль – по маршруту школа-совет.
Перед ребятами я поставил задачу снять часовых и открыть подвал и сарай. Струков, я, Гиммельштейн поджигаем комендатуру и два соседних дома, а затем гранатами и автоматными очередями встречаем выскочивших немцев.
За 10 минут до начала операции мы вплотную подошли к намеченным объектам и часовым. Сердце сильно стучало, казалось, что его слышат немцы. Часовые и патруль, завязав шарфами уши, ходили, насвистывая и топая коваными тяжелыми немецкими сапогами. Успокоенные покорностью русского населения победители не думали о бдительности. Их было слышно далеко. Томительно длинными казались минуты. Все шесть человек сосредоточенно ждали сигнала. У каждого было продумано каждое движение. Один лишний шаг, одно лишнее движение могли привести к непоправивому. Струков, не скрывая, наблюдал за Гиммельштейном, я тоже больше смотрел в его сторону. Он это прекрасно чувствовал, не выдержал и шепнул мне: «И ты мне не веришь?» Я показал головой, дал понять, что верю и надеюсь на него, как на самого себя.
На окраине села прогрохотал взрыв, одновременно с ним раздался свист – сигнал начинать. Все село осветило взрывом. Ярко вспыхнули цистерны с горючим. Во всех концах села затрещали автоматные очереди. Часовой, стоявший у совета, упал, с криками побежал на главную улицу, затем повернул к забору, там его догнала автоматная очередь.
В окна домов полетели бутылки с горючей жидкостью и гранаты. Оттуда взвились языки пламени, освещая улицу. Немцы с криками, в одном белье, выскакивали из горевших домов. На улице их встречал плотный автоматный огонь. На усадьбе МТС со страшной силой горели уже все цистерны, и никто их не тушил. Доносились частые взрывы снарядов, мин, рвавшихся на складе.
Замки с подвала и сарая с заключенными были сбиты, дверь – распахнута. Обезумевшие люди сгрудились в дверях, давя друг друга. Вытолкнутые на улицу разбегались в разные стороны. Задание было выполнено. Мы выбежали из освещенного пожарами села в поле, двинулись цепочкой в условленное место.
В селе была беспорядочная ружейно-автоматная стрельба, крики и стоны. До места сбора мы дошли очень быстро. Нас было пятеро, не хватало Гиммельштейна. В последнюю минуту мы видели его целым и невредимым. Вместо того чтобы идти с нами, он скрылся в селе. Все собрались, потерь не было, исключая 10 человек, легко раненных. Все ушли в неизвестном мне направлении, остались мы вдвоем с Дементьевым.
Подозрения Дементьева оправдывались. Но он сказал, что с полчаса надо ждать. За эти длинные, томительные минуты ожидания много тяжелых мыслей пронизывало мой мозг. Мне было тяжело за близкие, дружеские отношения с Гиммельштейном. Я часто вступался за него. После короткого молчания Дементьев с нескрываемой злобой сказал: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит». Через 20 минут послышались торопливые шаги. Мы сняли предохранители. Дементьев спросил: «Кто идет?» «Я», – ответил Гиммельштейн. В руках у него был большой мешок. «Что это такое?» – спросил Дементьев. Гиммельштейн невозмутимо ответил: «Радиоприемник». Больше вопросов Дементьев не задавал.
Мы не пошли, а почти побежали. На рассвете достигли своего болота и землянки. Старик Артемыч встретил нас при проходе на остров. «Что ты здесь делаешь?» – вырвалось у меня. Артемыч загадочно улыбнулся и сказал: «Вышел чистым воздухом подышать».
Дементьев строго посмотрел на меня, но ничего не сказал. Он дал понять – к чему глупые вопросы. Мне только тогда стало ясно, что старик, переживая за нас, за нашу операцию, всю ночь, по-видимому, дежурил в лесу. Пеликанов безмятежно спал в землянке. Когда мы вошли, он перевернулся со спины на бок, но не проснулся.
Артемыч зажег коптилку, затопил железную печку, после томительного 5-минутного молчания Дементьев, обращаясь к Гиммельштейну, сказал: «Показывай, что принес». Радиоприемник вместе с питанием стоял на нарах, он приспосабливал проволочную антенну. Вместо ответа Дементьеву в приемнике затрещало, треск сменился писком, затем заиграла легкая музыка. Гиммельштейн настроил на Москву.
Все прислушались, проснулся и Пеликанов. Он удивленно смотрел то на нас, то на приемник. Из приемника послышался бой кремлевских часов, затем: «Говорит Москва. Передаем последние известия». Диктор спокойно говорил о состоявшемся в Москве параде, о положениях на фронтах, в основном под Москвой и Ленинградом, существенных изменений не произошло.
«Спрячьте радиоприемник, – Дементьев сказал повелительно и громко, – завтракать и спать».
Я проснулся в подавленном состоянии. Снился страшный сон. Снова допрашивали немецкие офицеры, стреляли безвинных наших парней. В землянке было сильно накурено, и слышался приглушенный разговор. О чем-то говорили Дементьев со Струковым, в такт их разговора кивал головой Артемыч. Гиммельштейн не спал, а сидел чуть поодаль от них и с наслаждением курил. На нарах сидели пятеро незнакомых ребят в солдатских гимнастерках. Снятые ими полушубки лежали кучей в углу землянки.
Когда Пеликанов сказал, что я проснулся, Дементьев обратился ко мне: «А ну, вылазь с нар. Результаты нашей операции очень хорошие. Командование фронта от имени правительства объявляет всем участникам благодарность. Немцы были настолько ошеломлены, что и сегодня никак в себя не придут. В село, по неточным данным, вызывается крупная воинская часть для прочистки леса. Наши ребята подорвали склад с боеприпасами, нефтебазу. Уничтожили штаб и комендатуру. Потери немцев неизвестны, но большие, а главное – паника. Была допущена большая ошибка в группе Котрикова». У меня в висках сразу застучало, и я не сказал, а выдавил из себя: «А что?» «При открытии дверей сарая с арестованными кто-то из группы длинной автоматной очередью выстрелил по заключенным, трое убито и двое ранено. Среди арестованных произошло замешательство. Часть людей осталась до утра в сарае, считая, что бежать некуда. Утром немцы устроили казни. Всех оставшихся расстреляли прямо в сарае. Троих пойманных красноармейцев, неизвестных никому, повесили, приняв их за партизан. Ущерб немцам нанесен большой. Поэтому они постараются кое-что предпринять против нас и безнаказанно все не оставят. Надо немедленно менять место базирования. А вас, товарищ Гиммельштейн, придется арестовать, вернее, посадить под домашний арест. По неточным данным, в арестованных стреляли вы».
Гиммельштейн вздрогнул всем телом, но спокойно сказал: «Я не стрелял в арестованных». Мне Дементьев сказал: «Следовало бы и тебя арестовать за плохое руководство группой, за бесконтрольность, но, учитывая проявленное личное мужество и геройство, пока прощаю».
Гиммельштейн оправдывался, он говорил, что был все время у всех на виду и отлучился только на 10-15 минут за радиоприемником в один из домов. Он считал это большой смелостью.
Пеликанов выздоровел, но чувствовал себя еще слабым. Решено было меня, Пеликанова, Гиммельштейна и еще двоих ребят оставить пока на старом месте, выставить дозоры, в случае появления немцев уйти по заданному направлению. Охрану Гиммельштейна производить всем по очереди круглосуточно. Прогулки ему были разрешены один раз в сутки утром. У него был произведен тщательный обыск, но ничего подозрительного не нашли. Оружие и все личные вещи были изъяты. При допросе он говорил, что жил в Ленинграде, окончил техникум связи. Родители и сейчас живут в Ленинграде на Выборгской стороне, улица Б. Муринская. Для установления личности были приведены два парня – уроженцы Ленинграда. Один – житель улицы Муринской, другой окончил техникум связи.
Оба парня вроде видели Гиммельштейна, но лично его не знают. Однако Гиммельштейн называл им десятки знакомых ребят, учителей, девчонок и взрослых людей, которых прекрасно знали ребята. Судя по всему, Гиммельштейн действительно был ленинградец.
После двухдневных допросов Дементьевым было принято решение переправить Гиммельштейна через линию фронта и установить его личность. Струков и Пеликанов утверждали, что его лучше оставить в отряде, только под наблюдением, но Дементьев настоял на своем, ссылаясь на приказание свыше.
Гиммельштейн об этом не знал, а ставить его в известность было запрещено. Арест он считал нарушением дисциплины, о недоверии не думал. Был весел, разговорчив. Дни тянулись однообразно медленно, ежедневное стояние в секрете и дежурства в землянке наводили тоску. С продуктами были перебои, Артемыч, снабжавший нас всем необходимым, появлялся через день и приносил одну картошку.






