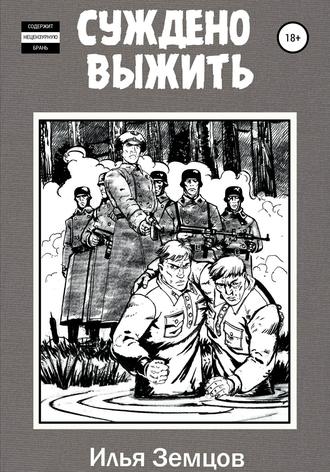
Илья Александрович Земцов
Суждено выжить
Мое безропотное покорство и извинение за его грубости отрезвляюще подействовали на него. Он ускорил шаг, а затем вбежал в деревянный дом. Я вошел следом.
Дежурный офицер укоризненно посмотрел на меня и скрылся в кабинете у капитана. Через полчаса капитан вызвал меня. Вручил мне бумаги, пожал руку и сказал: «Ни пуха ни пера». Признаков злобы не было видно. Я поблагодарил его и сказал, что постараюсь оправдать доверие. Вышел от него, на сердце было легко – снова в воинскую часть. Вышел на улицу и остановился. Глубоко вдохнул чистый весенний, но еще морозный воздух.
В это время за мной следом выбежал дежурный офицер и громко сказал: «Вернитесь, вас просит капитан».
Я вернулся в недоумении, в это время в голову лезли разные грязные мысли, хороших не было. Вошел в кабинет, отрапортовал: «Вернулся по вашему приказанию!»
Капитан мне очень вежливо сказал: «Садитесь». Я сел к столу. Дежурный лейтенант принес чайник горячей воды, капитан вынул из тумбочки стола пол-литровую бутылку водки, даже с довоенной наклейкой, сказал: «Давайте выпьем за нашу дружбу!» Протянул мне бумажку с адресом полевой почты: «Возьми и, если не затруднит, напиши, как сложится твоя дальнейшая служба».
Я ответил: «Для меня только два варианта: или наркомзем, или наркомздрав, плен при любых обстоятельствах исключен».
Он саркастически улыбнулся, по лицу его пошли багровые пятна, и он с дрожью в голосе сказал: «Да!» Схватил со стола бутылку водки и разлил в три кружки. «Бери и пей!» – грубо бросил он мне. Мы, как по команде, стукнулись, затем залпом выпили, закусили одним хлебом.
Капитан снова с дрожью в голосе сказал: «У меня два брата убиты и один пропал без вести. От сына вот уже три месяца нет никаких вестей. Скорей всего, тоже в наркомземе. Но ты же счастливчик». Я переспросил: «Почему?» «Да потому, что много раз сама старуха смерть, идя по пятам, тебя же и оберегала».
Он начал еще что-то говорить в мой адрес, но раздался телефонный звонок. Его срочно вызывали. Он крепко пожал мне руку, пожелал счастливого пути, ушел.
Я пришел на вокзал, в продовольственном пункте получил продуктов на пять дней. Узнал у дежурного по станции, как можно проехать до станции Малая Вишера, а оттуда, как мне сказали, рукой подать до штаба 2 ударной армии.
На вокзале подошел к группе офицеров, что-то громко обсуждавших, у одного из них тихо спросил: «Нет ли здесь попутчиков во вторую ударную?» Он посмотрел на меня и расхохотался: «Да мы все туда, ты же сегодня был вместе с нами. Сейчас из штаба фронта все резервы посылают во вторую ударную. Власов завел армию в настоящую ловушку и до сих пор еще старается влезть дальше и основательнее». Один из офицеров с кавказскими усиками обвел большим пальцем левой руки вокруг своей шеи и громко запальчиво звонким тенором сказал: «Немцы не дураки, уступают дорогу, дают возможность влезть дальше в ловушку. Бока коридора усиленно укрепляют. Придет время, затянут на слабом месте мешка петлю, как на шее, и капут. Армия окажется изолированной многими эшелонами обороны у немцев в глубоком тылу. Без боеприпасов, продовольствия, и, главное, помощи не надо будет ждать, так как ее никто не сумеет оказать».
Мне после проверки особым отделом эти разговоры показались слишком смелыми, поэтому я растерянно смотрел на офицеров, то на одного, то на другого, и как-то глупо улыбался.
Офицер с усиками пронизывающим взглядом темно-серых глаз посмотрел мне в глаза, затем скользнул сверху вниз по моей фигуре. Улыбаясь, спросил: «Откуда ты?» Я сначала растерялся, но, быстро собравшись с мыслями, сказал: «С тех же мест, откуда и ты лез». Все дружно захохотали. После короткого взрыва хохота я снова сказал, обращаясь к старшему лейтенанту с усиками: «Откуда, долго рассказывать, а сейчас получил направление во вторую ударную армию, а там не знаю, куда направят».
«Я бы сказал тебе, а там куда. Но, думаю, ты сам понимаешь». «Понял, – ответил я. – Куда я, туда и ты».
«Ну, вы при первом знакомстве и понесли», – раздался чей-то спокойный голос. Я обернулся, позади меня стоял высокий широченный в плечах старший лейтенант, по-видимому, артиллерист.
«Давайте по-русски, по-братски, делить нам нечего, добрая половина России у Гитлера. Скандалить нам не о чем, женщин среди нас нет, закуски мало дают, а выпить совсем нечего».
Я знал, если мне сказать, что я из особого отдела с проверки, то создам себе недоверие многих, не нюхавших пороху. Поэтому я сказал, что еду из тылового госпиталя, на вопрос из какого, ответил, что со станции Шарья, где пролежал целых четыре месяца. «Здорово тебя хватило», – сказал лейтенант с усиками. «Да, изрядно», – ответил я.
К нам подошел лейтенант средних лет в полушубке, подпоясанный широким ремнем с начищенной до блеска медной пряжкой со звездой. «О! Политрук, куда снова?» – раздался голос лейтенанта с усиками. «Во вторую ударную», – ответил он голосом делового человека. «Присоединяйтесь к нам, у генерала Власова на всех ложек хватит и братских могил про запас. Что касается госпиталя, то пока госпиталей не строит. Немцы, говорят, научились бить только насмерть». «Ну, ты и загнул, лейтенант. О чем думаешь, не всегда надо говорить, а потом учить тебя не к лицу мне, ты выше меня по званию», – ровным негромким голосом сказал политрук.
Старший лейтенант с усиками раскрыл рот и хотел что-то сказать, но подошел к нему, по-видимому, друг, тоже старший лейтенант, зажал ему ладонью рот и сказал грубым басом: «Хватит, наговоришь на себя и на других».
Оставалось ждать более шести часов. Я забрался в угол на деревянный жесткий диван и сразу же уснул. Был разбужен старшим лейтенантом с усиками. Он толкнул меня в бок и сказал: «А ну, вояка, проснись, поезд на подходе».
Действительно, через 15 минут подошел поезд. Мы, 18 офицеров, втиснулись в один вагон.
Настроение у всех было подавленное. Все знали, что 2 ударная армия обречена на верную гибель. Говорили все об этом откровенно, не стесняясь друг друга. Я молчал и в то же время думал, почему же наше Верховное Главнокомандование, прекрасно зная, что армия лезет в мешок, в ловушку, не сегодня-завтра окажется в окружении, не дает приказа отступить и занять наиболее выгодные позиции.
Вот здесь, в вагоне, до меня дошло, что до сих пор мы еще воевать не научились. Уроков из первых месяцев войны не извлекли. Большими жертвами врага остановили, стабилизировали оборону, местами прогнали немцев на сотни километров, и все это почти штыками и психическими атаками, под воздействием мороза.
Большинство из едущих офицеров было бы радо легкому ранению, лишь бы избавиться от фронта. Что же тогда думали рядовые? Все это в моем сознании не укладывалось. Мы ехали на верную гибель. Почему мне так везет: из одного пекла посылают в другое. Если бы моего мнения спросили, куда бы я поехал: в тыл или во 2-ю ударную, я бы ответил, безусловно, во 2-ю ударную.
Едущие всю дорогу обсуждали положение на Волховском фронте, положение 2 ударной армии и так далее. Если бы я высказал им свои мысли, многие бы назвали меня меланхоликом, а некоторые – даже дураком.
Немногим из нас доведется вернуться, а может быть, и всех влажная новгородская земля примет в свои объятия.
Но меня тянуло на фронт, на передовую, туда, где люди умирали, защищая свою землю. Я почему-то не боялся смерти. Умирать не думал.
Поезд с настоящими пассажирскими вагонами шел медленно. Один веселый веснушчатый рыжий парень, улучая минуты молчания, рассказывал анекдоты, но у него это не совсем получалось. Зато после каждого рассказанного анекдота он сам заливался звонким смехом, и его соседи невольно улыбались.
«Слушайте, вы, бросьте о политике, на днях я ехал, кажется, в этом же поезде, ехала одна старушка из Валдая, она всю дорогу молилась Богу. Вы думаете, о чем? Просила Бога: «Спаси, Господи, наших валдайских, а демянских чернохребтиков как хочешь». Я ей говорю, бабка, как же это получается, ваш Валдай "спаси, Господи", а наш Демянск "как хочешь"? Нет, говорю, так дело не пойдет. А она свое: «Спаси, Господи, наших валдайских, а за ваших сам молись». Она посмотрела на меня так укоризненно, что я еле-еле удержался от мольбы за наших демянских».
Кто-то спросил: «Как будем пробираться с Малой Вишеры до штаба армии?» Чей-то грубый голос ответил: «Там дорогу покажут».
Глава семнадцатая
Мельница оказалась исправной. Во всех близлежащих населенных пунктах были вывешены объявления, написанные рукой Сатанеску и Меркулова. «В деревне Борки начала работу мельница. Желающим молоть зерно плата за помол, как и при советах, гарнцевый сбор».
Мельница работала только днем, так как допотопный дизель мог тянуть от трансмиссии или генератор, или мельницу, на то и другое вместе не хватало мощности. Мечты Сатанеску были незаурядны. Восстановить и присвоить Волховскую гидроэлектростанцию, быть хозяином дешевой электроэнергии. Население с котомками и вещевыми мешками на плечах потянулось к мельнице со всех сторон. Ехали и на лошадях, везли овес, рожь, ячмень, редко пшеницу. Началась коммерческая деятельность Сатанеску.
За размол брал 10 процентов зерна. Торговал мукой, спичками, зажигалками и камешками к ним, солью, сахаром, сахарином, керосином и так далее. В его небольшом мельничном магазине можно было выбрать разнообразный ассортимент товаров. Варил самогон, который продавал немцам и испанцам. Торговля шла не на деньги. Денег он не признавал ни русских, ни немецких. Он менял свои товары на ценные вещи, серебро, золото, на сервизы фарфоровой чайной и столовой посуды. Не брезговал он даже мебелью.
В праздник русского Рождества Сатанеску пригласил к себе в комнату Меркулова и сказал: «По случаю родного праздника выпьем». Он достал из чемодана два флакона старой старки и разлил в рюмки. Павел спросил: «Почему вы говорите "родной", ведь ваше Рождество уже прошло? Оно было 25 декабря, а сегодня 7 января, и его празднуют только в России». Подвыпивший коммерсант решил исповедаться перед Павлом. Он сказал: «Я русский, фамилии своей я тебе не назову. В 1918 году с отцом, помещиком Тамбовской губернии, эмигрировал во Францию. Занялись коммерцией. У нас было два магазина. Подрастающая французская молодежь стала косо смотреть на эмигрантов и особенно на русских. Сначала торговля была ограничена, а в 1923 году нам предложили закрыть магазины. Продали все свое состояние, кажется, за пятьсот тысяч франков и переехали в Америку».
«Разрешите задать вопрос, – сказал Павел. – Извините, что я вас перебиваю. Как могли заниматься торговлей, если все состояние оставили в России?»
«Мой отец был дальновидный, умный человек. Он был большим социологом. Он трезво оценивал обстановку в России. Он видел назревающую революцию. Наша усадьба еще в 1905 году была сожжена бунтарями, с тех пор он все деньги клал в Парижский и Вашингтонский госбанки. В 1918 году у нас на счету лежало более 700 тысяч рублей. Это приличный капитал, и если бы дать ему оборот, мы могли бы иметь миллионы. Я уже говорил, что французское правительство ограничивало не только в торговле, но и в других коммерческих делах.
В Америке, где всему свобода, отец мой сразу вложил более 500 тысяч рублей в одно акционерное общество, по выпуску галантерейных товаров. Сначала дела общества шли хорошо, получали большие доходы, но потом все постепенно захирело и, не выдержав конкуренции, развалилось. Все его пайщики разорились.
Поэтому в 1930 году мы переехали в Чехословакию, а в 1931 году в Румынию. Отца магнитом тянуло в Россию. Он писал лично Сталину через русское посольство в Румынии два прошения, но въезд не разрешили. А если бы и разрешили приехать, то, по-видимому, сразу бы посадили как врага народа.
В 1936 году отец умер. Я принял румынское подданство, затем при одном удобном случае за небольшую цену сменил фамилию и национальность. Из русского стал румыном. Но люблю я Россию, люблю простоту, доверчивость русского народа. Люблю нравы и обычаи русских. В 1936 году как ярого врага коммунизма правительство Румынии направило меня в немецкую военную академию, которую окончил в 1941 году за месяц до войны. Вступил в члены фашисткой партии. Вот сейчас с войсками великого фюрера на своей русской земле. После победы немцев за заслуги германское правительство по моей просьбе отдает мне в собственность Волховскую гидроэлектростанцию».
Подвыпив, Павел осмелел, водка развязала язык, и он попросил разрешения высказать свое мнение. «Говори», – сказал коммерсант. «Вот вы говорите, что любите русский народ, но почему же вы не помогаете умирающим от голода и холода военнопленным, что находятся здесь в лагере. Каждый день умирают десятки молодых парней и мужиков». «Коммунистов я презираю, помощи оказывать не буду», – сказал Сатанеску. «Но ведь в лагере нет коммунистов, это рабочие и крестьяне – люди, далекие от политики», – сказал с горечью Павел. «Немцы правы, – возразил Сатанеску. – В России каждый второй коммунист, поэтому их надо уничтожать». «Но ведь если вы победите, то для восстановления промышленности и сельского хозяйства потребуется рабочая сила».
«Народу хватит, население растет быстро. Все западноевропейские страны перенаселены, и больше всех – Германия, поэтому при полном завоевании России фюрером с южных областей все русские, оставшиеся в живых, будут выселены на север, из Германии будут завезены немцы», – с азартом говорил Сатанеску.
«Виктор Иванович, вы извините меня. Медведь еще не убит, а вы уже с немцами делите его. Я думаю, вряд ли немцы сумеют завоевать Россию. Немцы надеются на лето 1942 года, но учтите, за это время и русские, поставив свою промышленность на военные рельсы, подготовятся и заставят немцев показать пятки». «Нет, господин Меркулов, вы всего не понимаете. С Россией, можно сказать, покончено. Вся русская промышленность была сосредоточена в южных густонаселенных районах. Эти районы сейчас находятся в наших руках. Коммунисты даже не смогли ничего вывезти. За зиму не построить им новых заводов, для этого нужны годы».
«Извините меня, Виктор Иванович, за откровенность, но ведь немцы из-под Москвы выбиты и отошли далеко». «Это еще ничего не значит, – уверенно сказал Сатанеску. – Коммунистов временно спасли морозы. Придет весна, и в течение двух месяцев будет покончено с Россией. Весной должны выступить Турция и Япония».
От выпитой водки у Павла кружилась голова, он сказал, что цыплят по осени считают, и попросил разрешения пойти в лагерь немного отдохнуть.
Лагерь жил, печка, сделанная из железной бочки, топилась круглые сутки. Военнопленные, возвращаясь с работы, приносили каждый по одному полену, на территории лагеря появились большие поленницы, главным образом осиновые. Тысячи кубометров дров лежали на берегу реки Веронда. По-видимому, до войны они были заготовлены к сплаву.
Днем у печки сидели больные, в лагере их называли кранки. От немецкого слова "Krank" – больной.
Вечером по возвращении с работы места у печки занимали самые сильные и здоровые. Коровник принял облик барака, руками плотников-военнопленных был разделен тесовыми перегородками на секции, то есть на комнаты. В комнатах сделали двухэтажные нары. Поэтому печка оказалась в широком коридоре. При входе в барак рядом с комнатой коменданта, где жил сейчас и Меркулов, был оборудован умывальник. В лагере население с каждым днем редело, и на русский рождественский праздник осталось 82 человека, большинство еле передвигало ноги.
Комендант лагеря, боясь остаться без людей, так как нового пополнения не было, на что он каждый день надеялся, по-видимому, и во сне видел пополнение, сам, а может быть, получил приказ свыше, решил сохранить оставшихся в живых людей, несколько улучшив бытовые условия. Рядом с лагерем был выкопан котлован, в котором оборудовали баню и дезинфекционную камеру. Началась борьба со вшами. Весь барак в течение недели опрыскивался дустовыми препаратами. Норма похлебки была увеличена до литра. Комендант Вернер говорил конвою, что русские перестали сдаваться в плен.
За весь период нахождения его на посту коменданта лагеря не прибыло ни одного человека. Командование требует с него содержание дороги, то есть ремонт, подсыпку песком и борьбу со снежными заносами. Людей в лагере не хватало, да и людишки были очень слабы, поэтому с заданием еле-еле справлялись. До боли сжимая зубы, комендант был вынужден этому русскому скоту создавать чуть ли не человеческие условия.
В живых остались выносливые люди, приспособленные к лагерной жизни. Большинство до войны провело тяжелую, суровую жизнь в исправительно-трудовых лагерях, беспризорники. Эти люди объединялись в группы по 7-10 человек, помогали друг другу.
Павел Меркулов помогал своим друзьям, приносил муку и хлеб. Дошедшие до дистрофии Темляков, Морозов и Шишкин стали заметно поправляться.
Темлякову, работавшему в машинном отделении электростанции и мельницы, Меркулов, пользуясь отсутствием Сатанеску, передавал муку, картошку и даже пакетики с концентратами супа и каши.
Самому в лагерь носить было опасно, так как два раза подвергался обыску самим комендантом лагеря, ясно, с позволения Сатанеску.
Ведущую группу лагеря возглавлял Аристов Степан. Весь лагерь не только с уважением относился к нему, но и боялся его. Он обладал большой физической силой и ловкостью. С виду он был не здоровяк, чуть выше среднего роста, широкоплечий со светло-русыми длинными волосами и с опущенной жиденькой русой бородкой. Лицо чуть скуластое, карие выразительные глаза, небольшой миниатюрный нос и рот напоминали что-то женское.
Два раза Степана немцы выводили из строя для вступления в немецкую армию, зная, что он отбывал срок. Он отказывался, говорил, что воевать со своими братьями не будет. Предлагали ему и полицая за темное прошлое. Лет ему было не больше 30-ти. До войны отбывал два срока в общей сложности более 7-ми лет. За что он сидел, никто не знал, кроме одного человека, его односельчанина Андрея Рогова. Они были кузенами.
Правой рукой Аристова был Иван Томилин из Архангельской области. Единственный человек лагеря при всех невзгодах не опускался, не унижался ни перед кем и, по-видимому, не терял своего веса. Был красен и упитан. Съедать он мог сразу по 10 литров лагерной похлебки. Один раз поспорили с переводчиком Выхосом, если Иван в один прием съест ведро похлебки, то получит пачку немецких сигарет, а не съест – с него пачка.
Иван в присутствии коменданта лагеря Вернера за 15 минут съел все содержимое ведра и с раздутым животом отправился в барак.
Неплохо выглядел из их группы и Андрей по национальности татарин, но татарского имени и фамилии его никто не знал. Он родился и жил все время в Москве. Знали, что он татарин, лишь потому, что он с поваром Гришей разговаривал только на татарском языке, за что получал крутой похлебки с добавкой почти целой порции.
Каширин Виктор из села Старая Кашира Московской области тоже сильному истощению не поддавался, выглядел всегда бодро.
Всего в группе насчитывалось 12 человек. В начале января готовился побег, выменивались и экономились продукты. Главным образом хлеб. Всей группой бежать никак не удавалось. При распределении на работу группа расчленялась на несколько частей. Побег возможен был только с работы. Из лагеря ночью побег был невозможен. Лагерь охранялся тремя часовыми, при прикосновении к проволоке срабатывала сигнализация.
Рождественские морозы давали себя знать. В бараке спать было невозможно. Люди целую ночь грелись, окружив печку тесным кольцом, на время отходили и снова старались притиснуться к раскаленной печке. Всю ночь почти никто не спал.
Весельчаки не унывали, шутили: «Хорошо встречаем Рождество, сам Иисус Христос помогает. Но ведь он еврей, а немцы и евреи одной крови, один язык, а друг друга ненавидят».
Виктор Каширин и татарин Андрей объявили своим друзьям: «Завтра, 8 января 1942 года, бежим».
В группе появилась трещина. Все говорили, что в такие сильные морозы бежать нельзя. Даже при удачном побеге в ветхой, не приспособленной для зимы одежде наверняка замерзнешь. Каширин сказал: «Вы как хотите, я бегу».
Андрей его поддержал. Утром немецкий комендант приказал всем здоровым и больным выходить строиться. Немецкие часовые в здоровенных соломенных ботах, надетых на сапоги, с закутанными лицами, неуклюже топтались на месте. Люди выходили из барака и становились в строй.
Больные еле держались на ногах, пошатываясь с боку на бок, выходили последними и становились в хвост колонны. Врач Иван Иванович, длинный, сутулый, с громадной брезентовой сумкой с красным крестом на боку и Библией в руках, стоял, доказывал коменданту Вернеру, что в такой мороз больных не надо было выгонять из барака. Но комендант ему говорил, что большинство больных – лодыри и симулянты.
Разговор их велся деликатно через переводчика Юзефа Выхоса. В сумке у врача хранились медицинские инструменты. Самодельный нож с ручкой из дерева служил скальпелем. Пинцет был сделан из стальной проволоки. Пол-литровая бутылка, наполненная бензином, служила дезинфицирующим средством. Вместо бинтов – грязные тряпки. Градусник был, но он им не пользовался. Температура тела определялась прикладыванием руки ко лбу больного с точностью до одной десятой градуса.
Несмотря на примитивность медицинских инструментов и отсутствие медикаментов, первая помощь им оказывалась. Для больных последующей помощью была смерть.
Когда весь личный состав лагеря был выстроен, комендант Вернер в сопровождении Ивана Ивановича и переводчика обходил две длинные шеренги. Вернер показывал на каждого военнопленного пальцем и говорил "Gesund", в знак согласия врач кивал головой.
Когда дошли до выстроенных больных, Вернер говорил "Gesund", но Иван Иванович говорил "Krank". Вернер долго всматривался холодным бесцветным взглядом в каждого больного и говорил "Gesund, вайда робать".
Не взирая на доказательство врача, больных ставили в строй к здоровым. Когда больным разрешено было покинуть строй и пойти в барак, Иван Иванович через переводчика снова стал доказывать, что больные обязательно умрут на работе и, как позавчера, в лагерь снова принесут с работы не менее трех мертвых. Он устанавливал диагноз, но тиран, вчерашний немецкий рабочий, пялился на переводчика и молчал, нервно покачивая головой.
Случаев приноса с работы трупов военнопленных было много, и это, по-видимому, не являлось большой заслугой коменданта и не делало ему никакой чести, так как трупы неслись на носилках, сделанных из деревянных шестов. Мертвого несли 8-10 человек вдоль деревни Борки, где кроме местного населения проживало много беженцев из городов Шимск, Новгород, Старая Русса и так далее и всегда стояло много солдат.
Такие зрелища сопровождались любопытными взглядами русских, немцев и испанцев. По-видимому, Вернеру было дано не одно замечание не допускать подобных зрелищ, и на сей раз он сдался. После долгого раздумья всех больных отпустили в барак. Снова обошел выстроенных людей, тщательно пересчитал, записал в блокнот и скомандовал конвоирам вести на работу.
Голодные, измученные люди, одетые в рванье, с обгоревшими полами шинели, в ботинках без обмоток, в летних красноармейских пилотках, натянутых на уши, медленно тронулись в морозное рождественское утро на работу. 35-градусный мороз прощупывал все тело до костей.
Немецкие конвоиры не шли, а плясали, выколачивая огромными соломенными ботами чечетку. Не доходя до деревни Борки, у сараюшки с инструментами люди были разбиты на группы по 10-15 человек и разошлись по шоссе. Одни в направлении Новгорода, другие – Шимска.
Виктор Каширин и татарин Андрей попали в одну группу. Аристов Степан еще раз предостерегающе предупредил: «Не сходите с ума, ребята, не время».
К каждой группе помимо двух конвоиров было приставлено по два поляка без оружия. Поляки не работали, а заставляли работать русских, иногда даже применяя дубинки. Каждой группе определялся участок дороги. На середине участка конвоиры и поляки разжигали костер и в морозную погоду целый день не отходили от него. Дрова, как правило, подносили поляки. Военнопленным-счастливчикам удавалось подходить к костру на одну-две минуты. Среди немецких конвоиров были и добросовестные. Они, боясь своих сослуживцев, при каждом удобном случае давали военнопленным кусочки хлеба и окурки сигарет.
Участок дороги группе, где находились Виктор Каширин и Андрей, достался рядом с деревней Борки, в направлении Шимска и до моста через реку Веронду. Конвоиры попались хорошие ребята, лучшие из всего конвоя. Они оба не курили и свои сигареты иногда раздавали военнопленным. Разрешали производить обмен с населением – соли-лизунца на хлеб, картошку, свеклу.
Военнопленные по два-три человека разошлись по 300-метровому участку дороги, долбили мерзлый песок кирками, набирали на лопаты и разбрасывали по дороге. Виктор Каширин и Андрей были посланы в направлении деревни Борки. В вещевых мешках у обоих было собрано по два с лишним килограмма хлеба. К 11 часам дня часовые не выдержали мороза и отправились греться в крайний дом деревни Борки. Остались у костра одни поляки. Лучшего случая для побега не сыщешь. Виктор Каширин бросил в кювет железную лопату и бросился бежать в направлении леса.
До мелкого смешанного леса было не более 500 метров. В это время из-за поворота выехал немецкий офицер на тонконогом поджаром гнедом рысаке. Андрей вовремя его увидел. За это время Каширин пробежал еще не более 30 метров. Андрей крикнул: «Виктор, вернись», но тот прибавил бег. Поляки у костра закричали и замахали руками. Из крайнего дома выскочили часовые, но Виктор был уже в 350-400 метрах, осталось не более 100 метров до леса. Пули конвоиров рикошетили и пролетали далеко от цели. Офицер услышал крики поляков и стрельбу из двух винтовок, увидел убегающего военнопленного. Быстроногого рысака направил наперерез Виктору и в одно мгновение встретил его на опушке леса, одна минута решила участь беглеца. Офицер заставил его идти рядом с санями, наставив в спину дуло пистолета.
Каширин шел раскрасневшийся, смущенный, с опущенными глазами. Виновато улыбался. Щеголеватый, выхоленный офицер в желтой шинели накричал на конвоиров, грозил военным трибуналом, лично отвел Виктора в лагерь и сдал коменданту Вернеру.
Вечером вернулись с работы. Виктор, задумавшись, сидел у печки. Аристов Степан его позвал, провел в темный угол барака и полушепотом сказал: «Немедленно спрячься на потолок коровника, – показал ему, где имеется замаскированная лазейка. – Ночью тихонько спустишься по углу и беги. Дождись, чтобы после смены караула прошло не менее часа. При таком морозе часовые малочувствительны, да и вряд ли замерзшими руками сумеют попасть при выстреле. Собаки с охраны лагеря сняты более недели и, по-видимому, куда-то увезены. Ты понял меня?»
«Да, – глухо сказал Виктор, – но мне кажется, что меня не расстреляют. До вашего прихода комендант Иван Тимин и переводчик Юзеф Выхос говорили, что немцы помилуют, то есть сохранят жизнь. Им говорил комендант Вернер».
Степан с глубоким вздохом сказал: «Не верь их брехне. Если хочешь жить, беги».
В это время раздался елейный голос русского коменданта Тимина Ивана. «Виктор, где ты?» Виктор, не откликаясь, пошел ему навстречу. Тимин протянул ему котелок, сделанный из 120-миллиметровой гильзы и наполненный до верха похлебкой, сваренной из неочищенной мелкой мерзлой картошки и мяса дохлой лошади.
Тимин Иван отдал похлебку и трижды перекрестил не то похлебку, не то Виктора. К ним подошел Аристов Степан и деловито сказал: «Что, комендант, живого отпеваешь».
Комендант еще раз перекрестился и елейным голосом проговорил: «Комендант лагеря Вернер велел проявить заботу о нем. В последние часы жизни даже пираты исполняли иногда последние желания».
«Ты вместо последнего желания решил вести наблюдение, не исчез бы смертник», – сказал Степан.
Каширин вздрогнул всем телом. Тимин Иван признался: «Да, комендант приказал мне следить за каждым шагом Виктора, а в случае его исчезновения грозился послать на дорогу».
«Эх, ты, елейная и господняя душа, – сказал Степан. – Ради тебя много уже людей пасутся на том свете, на райских лугах Господа Бога. Никуда от тебя и эта душа не уйдет». Показал пальцем на Виктора. «Кругом колючая проволока, часовые с автоматами и винтовками. Убежать нет шансов. Держу пари на пачку папирос или на твое Евангелие, ты выиграл».
Тимин плюнул, перекрестился, что-то пробурчал про Бога и легким рысьим шагом ушел в свою келью.
Каширин с аппетитом ел похлебку. К нему подошел Вася Пономарев, высокий сильный парень. Держался всегда опрятно, брился и умывался. Немецкие конвоиры на работе смотрели с завистью на его стройную фигуру с природной выправкой. Бледное симпатичное лицо, кудрявые льняного цвета волосы и голубые выразительные глаза даже немок, смотревших на военнопленных как на скот, заставляли оборачиваться и пожирать взглядом.
Вася хлопнул Виктора по плечу и с хрипотой в голосе проговорил: «Послушай меня, Виктор, как друга. Тебе надо бежать немедленно».
Слова его отрывисто срывались, он еле держался на ногах. В глазах его появился блеск какой-то особой голубизны. Впалые щеки горели бледно-розовым румянцем. Он протянул Каширину завернутый в тряпку ржавый немецкий штык. «Бери, ты здоровый, можешь убежать, он тебе пригодится. Коли этим штыком немцев и русских предателей. Мне он больше не потребуется. Я в возрасте 23 года умираю, не успев сделать ничего хорошего ни для семьи, ни для Родины». Он положил штык на колени Каширина и, покачиваясь, ушел в свой угол на нары.
Каширин держал в руках ржавый штык и растеряно смотрел на людей, окруживших его плотным кольцом. Иван Тимин стоял сзади и наблюдал за всем происходящим. Затем он взял штык из рук Каширина и отнес его в свою келью.
Сидевший недалеко от Каширина Саша Морозов произнес: «Ну, братцы, сейчас пойдет докладывать по инстанции».
Через час в лагере появился комендант Вернер со своим помощником и двумя конвоирами. Иван Тимин крикнул: «Выходи строиться в коридор барака». Люди встали в строй в три длинные шеренги. При бледном электрическом свете лица людей были слабо видны, но они были хмурыми, глаза сверкали ненавистью. Комендант крутил в руках ржавый штык и кричал визгливым голосом. Переводчик Юзеф Выхос юлил перед комендантом, переводил: «Чей штык, где его взяли. Пронос любого оружия в лагерь – расстрел. Это объявлено в правилах внутреннего распорядка лагеря».
Затем Вернер посмотрел на Тимина, дал ему понять – показывай виновного. Тимин обошел весь строй, заглядывая в каждое лицо, и сказал: «Его здесь нет».






