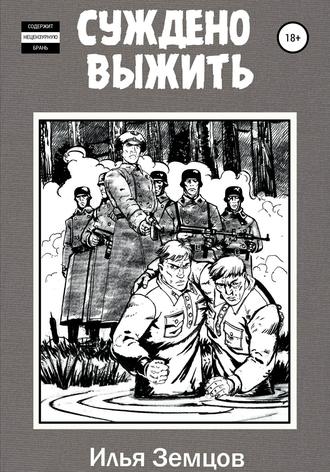
Илья Александрович Земцов
Суждено выжить
Переход через линию фронта, с одной стороны, был для меня радостью. Снова попасть в действующую армию, написать письмо в деревню отцу и матери, что жив и здоров. С другой стороны, задевало за живое и щемило сердце. Не доверяют, поэтому нас не знакомят с местонахождением отряда, а держат изолированными.
На эту тему я решил откровенно поговорить с Дементьевым при первом его появлении. Встреча скоро состоялась. Я попросил Дементьева выйти из землянки для небольшого разговора. Он с неохотой вышел. Пройдя 3-4 метра от землянки, я сразу же решил взять быка за рога. «Почему вы не доверяете нам с Пеликановым? Почему все скрываете, держите нас под наблюдением, как и этого еврея?»
Дементьев грубо меня оборвал, сказал, что первое условие – говорить тихо, не забывать, где находимся, второе – знать все секреты в отряде не положено. В отряде все строго законспирировано. Он говорил тоном командира, не допускающего возражений. «Я тоже знаю немногим больше твоего. Но учти, тебе с Пеликановым оказывают большое доверие, в связи со сложившимися тяжелыми обстоятельствами в отряде, гибелью нашего друга радиста Кропотина и потерей рации. Надо пройти через линию фронта и передать нашему командованию очень важные сведения и отправить Гиммельштейна к своим. Там скорее разберутся, кто он».
Я был ошарашен известием о смерти Кропотина, спросил: «При каких обстоятельствах погиб Кропотин?» Он снова перебил меня: «При выполнении служебных обязанностей». А затем более мягко сказал: «Об этом потом, а сейчас слушай главное. В нашей армии тоже сейчас, по-видимому, большая неразбериха. Не доверяют людям, побывавшим в окружении, не говоря о тех, кто находился в тылу врага. Выбор пал на вас, вы оба числитесь в списках 311 дивизии, где имеется приказ о посылке вас в тыл врага как разведчиков. При встрече на передовой со своими вас передадут в особый отдел. Вы скажете, что имеете важные сведения из партизанского отряда. Проверка вам будет короткой. А самое главное, ваши семьи не в оккупации. 311 дивизия занимает оборону где-то в районах Киришей или Любани. Все штабные документы там имеются, так как в окружении она не была, да, собственно говоря, они и не воевали по-настоящему. Гиммельштейна сдадите и расскажете, при каких обстоятельствах он оказался у нас. Наши сомнения о его личности. Впрочем, ты знаешь не меньше моего, что нужно сказать. В дополнение мы вас снабдим документами партизан и представлениями к награде за участие во всех операциях, а также на присвоение очередных званий. Но всему этому могут не поверить, в зависимости от того, к кому первому попадете на допрос. У нас в армии сейчас введена чрезвычайная бдительность. Отдельные товарищи воспринимают это по-своему, чем наносят немалый вред общему делу. Поэтому главное, что зависит от вас с Пеликановым, это держаться везде спокойно, с достоинством. Требовать передать нужные сведения командованию. А завтра придет человек, который вас проводит вплоть до линии фронта. Подготовку Пеликанова возлагаю на тебя. Про гибель Кропотина расскажу все в землянке».
Мы возвратились в землянку. Окрепший после болезни Пеликанов встретил нас моими словами. Он с возмущением доказывал Дементьеву, что нам нет никакого доверия. Нас просто изолировали ото всех, и мы находимся под бдительным наблюдением, как в немецком концлагере.
Дементьев его не перебивал, только отшучивался. «Ты, Володя, здорово загибаешь. На днях будет и вам с Ильей серьезное дело, но я еще и сам не знаю какое».
Гиммельштейн больше молчал, только иногда вставлял едкие, колючие еврейские слова. Унять разговорчивого Пеликанова было невозможно, он уже не говорил, а перешел на повышенные тона. «Вы боитесь показать нам, где и как живут партизаны. Чем они занимаются. Мы с вами вместе были в гостях у немцев. Нас с Ильей выкупали с расчетом, что мы долго не протянем. Наших двух товарищей расстреляли, только тебя оставили невредимым. За все это вы нам вынесли приговор – недоверие, а он зависит только от вас и вашей рекомендации».
«Да перестань же ради бога, прошу тебя», – крикнул я на Пеликанова, и он замолчал. Воспользовавшись его коротким молчанием, я попросил Дементьева рассказать, при каких обстоятельствах погиб радист Кропотин. Пеликанов от неожиданности даже вскрикнул: «Как!»
Неуместный укор Пеликанова привел Дементьева в замешательство. Мой вопрос он понял не сразу. Затем опомнился и сказал: «Давайте почтим память нашего товарища минутой молчания». Все встали под стойку смирно и вместо минуты стояли не менее пяти. Когда сели, Дементьев срывающимся голосом с волнением сказал: «Погиб Кропотин Николай 8 ноября. При передаче очередной шифровки по рации, добытых разведкой военных сведений и действий партизан в тылу врага. Передача производилась все время с одного места, отдаленного от расположения немцев на десятки километров, по-видимому, кто-то предал. Во время 15-минутной работы рации их троих окружили немцы. В последнюю минуту Кропотин бросил противотанковую гранату на рацию в 2 метрах от себя. Вместе с рацией погиб сам. Ребята, сопровождавшие его к рации, погибли, уложив более двух десятков немцев. Один из них, по неточным данным, расстрелял все патроны, остался с одной гранатой Ф-1. Он поднял руки кверху, немцы стали окружать его тесным кольцом. Когда они были в 3-4 метрах от него, он в одно мгновение бросил гранату в гущу фрицев и был прошит весь пулями из десятков автоматных очередей. В этот момент немцы хорошо угостили сами себя. Об этом проговорились сами каратели, их командир перед строем сказал: «Надо учиться мужеству, храбрости у партизан, у этих русских дикарей, как с достоинством умереть. Дорого мы заплатили за их жизни. В могилу они унесли все интересующие нас сведения о партизанах. Брать надо было только живыми, несмотря на наши потери». Он грозил своим подчиненным военным трибуналом».
Чем все кончилось, Дементьев не знал. Я переспросил его, как могло так получиться, что немцы обнаружили рацию с такой точностью. Дементьев повторил, что кто-то предал. Но Гиммельштейн сказал: «Нет, это не предательство, а немецкие связисты запеленговали работу рации. Запеленговать можно с очень большой точностью». «Что это такое?» – переспросил Дементьев, но Гиммельштейн, как бы спохватившись, что сказал лишнее, коротко ответил: «Вы не связисты, поэтому ничего не понимаете».
Дементьев с Пеликановым вышли из землянки. Двое ребят, Миша и Коля, жили с нами около недели, оба находились в дозоре. В землянке остались мы с Гиммельштейном.
Я заряжал два автоматных диска патронами. Упругая пружина лениво принимала патроны. Гиммельштейн сел рядом со мной и сказал: «Дай помогу». Я с удовольствием отдал ему диск с маслянистыми патронами. «Давай поговорим, как товарищ с товарищем, считаю тебя своим другом и думаю, что разговор останется между нами». «Ну, что же, давай!» – ответил я.
«Илья! Что думаешь о своей дальнейшей жизни?» Я ответил, что думаю воевать, если еще придется. Он мне сказал: «Не будь тряпкой. Ты волевой парень, принимай мое предложение. Нам надо бежать и пробраться в партизанский отряд. Обо всем рассказать командиру. О недоверии к нам. Я думаю, что нас поймут правильно и нам обоим дадут дело».
Я сделал вид, что задумался над его предложением, потом сказал: «Надо все это продумать». Предложил ему свое: «Бежим через линию фронта к своим».
Он прикинулся трусом, ответил: «В этой мясорубке, что сейчас происходит на всех фронтах, нас с тобой хватит только для одной атаки, и будешь в Наркомземе или Наркомздраве. Советую как другу, чтобы спасти свою жизнь и посмотреть, кто победит в этой войне и как будут жить люди после войны, надо оставаться у партизан. Здесь шансов для того, чтобы остаться в живых, 99,9 процента. И только 0,1 процента – на смерть. Тебе рассказывать не надо, ты прекрасно представляешь, что такое наступление, оборона и отступление для пехоты под градом свинца, чугуна и стали. Поэтому не спеши на тот свет, там кабаков нет. Поговори с Пеликановым о побеге, он относится к тебе очень хорошо». «А ты поговори с ним сам!» – посоветовал я. Но он сказал: «Ты же прекрасно видишь, Пеликанов меня ненавидит. Его только от одной моей физиономии тошнит». «Неправда, Пеликанов очень груб со всеми, но я постараюсь с ним сегодня же поговорить». В глазах Гиммельштейна мелькнула радость. Пеликанов относился к нему очень настороженно и на все попытки Гиммельштейна расположить его к себе – грубил.
В землянку вошли сразу четверо: Дементьев, Пеликанов, Артемыч и вернувшийся из дозора Миша, 17-летний паренек, еще хрупкий, с детским лицом и всегда веселыми смеющимися глазами.
Разговор наш на этом оборвался. Дементьев, по-видимому, по нашим физиономиям догадался об откровенном разговоре. Через два часа он приказал мне пойти вместе с ним и лесником Артемычем за продуктами в лесную сторожку. Мы вышли из землянки и направились в противоположную сторону. Молча пройдя с километр по рыхлому, еще неглубокому снегу, остановились под толстой сосной с могучей кроной. Ее развесистые сучья в погоне за светом были протянуты в пространство, как щупальца осьминога.
Чистое безоблачное небо при сильном морозе ночью выглядело как-то сказочно. Особенно яркие звезды казались больше своей натуральной величины. В лесу всюду раздавался треск деревьев.
Дементьев спросил меня: «Если не секрет, скажи, о чем вы так серьезно говорили с Гиммельштейном?» Я слово в слово передал весь разговор. Дементьев посоветовал мне в присутствии Гиммельштейна завести разговор с Пеликановым о побеге. Я согласился.
После короткого молчания разговор продолжился. Дементьев сказал, что Гиммельштейн многим напоминает еврея и, возможно, товарищи правы, что он честный еврей. «Но у меня в мозгах в отношении него полная неразбериха. Лучше будет переправить его через линию фронта». Я вернулся в землянку один с вещевым мешком, набитым до верха ржаными с примесью картошки караваями.
Как только я вошел в землянку и положил вещевой мешок на нары, Миша сразу направился сменить товарища в дозоре. Мы остались в землянке втроем с Пеликановым и Гиммельштейном.
Я начал разговор с Пеликановым, что пора что-то предпринять, и направил разговор по своему руслу, на тему недоверия в отряде. Высказал свою мысль, что побег в отряд нам ничего не даст, а наоборот может еще более усугубить наше положение.
«Почему?» – спросил Гиммельштейн. «Да потому, что за наше исчезновение по законам военного времени нас сочтут дезертирами, и сами знаете, чем все это может кончиться, даже если мы благополучно придем в отряд».
«Но ведь мы не знаем местонахождения отряда. Скорее, попадем к немцам. Мы с Пеликановым уже достаточно хорошо испытали немецкое гостеприимство и предпочтем лучше умереть, чем сдаться. Я предлагаю бежать через линию фронта к своим».
Пеликанов меня поддержал. Он сказал, что наше место в действующей армии, и он согласен хоть сию минуту быть у своих. «Я сибиряк, люблю свою родную Сибирь и, если мне удастся повоевать, то не струшу».
Я спросил Гиммельштейна о его мнении. Он отрицательно покачал головой и сказал: «Мое место здесь, только здесь – у партизан. Здесь я принесу большую пользу. Я отомщу за всех своих. За свою национальность. Буду бить ночью спящего врага. Заставать его врасплох. Подкрадываться к нему, как охотник к зверю, бить его из-за угла, дерева и куста. Через линию фронта я боюсь идти по двум причинам. Во-первых, начнется длительное изнурительное следствие, чего я не выношу. После следствия передний край, а может быть даже штрафной батальон. На переднем крае и в штрафном батальоне надо иметь железные русские нервы, а их у меня нет. Я не выдержу первого наступления, первой атаки. Если меня не убьют, то я сойду с ума. Ведь хуже наступления ничего не придумаешь. Ты идешь с винтовкой наперевес, а в тебя из окопа, из укрытий целятся и стреляют не только из пулеметов и автоматов, почти в упор, но и из минометов, других артиллерийских орудий. Человек становится живой мишенью. По теории вероятности здесь шансов, что тебя не проткнет насквозь кусок металла, очень мало. Во-вторых, никаких расчетов устроиться в тылу кладовщиком, базистом, связистом нет. У нас, в прославленной Красной Армии, убитому наград не надо, раненые отправляются в госпиталь, их не ищут для награждения. Награждают и хвалят тех, кто остался невредим. Это тыл, в него входят штаб, начиная с полка и выше, интендантские части, политотделы. За успех операции пехоты, легкой артиллерии и танкистов награды получают только тылы».
«Брось ты трепаться, – грубо оборвал его Пеликанов. – Ты хочешь чужими руками жар загребать. Нет, не выйдет, господин Гиммельштейн. Заставим и тебя взять в руки оружие и лезть прямо в пасть врагу».
Гиммельштейн, не дав ему договорить фразу, закричал: «Не ты ли заставишь?»
Пеликанов, сжав кулаки, кинулся на Гиммельштейна, они схватили друг друга за ворот гимнастерок и отвесили по хорошему удару в голову, Пеликанов с левой руки, а Гиммельштейн – с правой.
Мои попытки растащить их были тщетны. В землянку вошел Артемыч. Глухим голосом крикнул: «Что вы делаете?» Пеликанов и Гиммельштейн расцепились.
Вечером пришел Дементьев, Гиммельштейн сразу же доложил ему, что мы собираемся бежать.
«Ну что же, – ответил Дементьев. – Тогда придется на всех вас временно наложить домашний арест. Прошу вас сдать оружие».
В землянке всю ночь по очереди дежурили Дементьев, Миша и Коля. Мы спали. Утром пришел Струков и с ним плотный мужчина лет 35-ти, с волевым лицом. Одет он был в белый полушубок и валенки. Подпоясан широким офицерским ремнем со звездочкой на пряжке и портупеей. Дементьев, обращаясь к нам, сказал: «Ну, беглецы, знакомьтесь, это Петр Костиков. Ваше желание будет удовлетворено. Собирайтесь, сейчас пойдете к своим. Товарищ Костиков доведет вас вплоть до линии обороны немцев с нашими, а там вы пойдете сами». Гиммельштейн побледнел. Каждое слово Дементьева его било по голове молотом. Он не ожидал такого решения.
«Я не пойду отсюда никуда, заявляю официально и категорически». Дементьев почти шепотом сказал: «Если сам не пойдешь, то вас поведут, так надо. Вы нужнее будете армии, чем партизанам. Сейчас вам наденут на руки браслеты». Откуда взялись наручники, для нас было загадкой. Лежали они под нарами.
Гиммельштейн, хмурый и бледный, с надетыми наручниками, сидел на нарах. Я его успокаивал, зато Пеликанов острил и радовался.
В землянке остались только трое: я, Пеликанов и Дементьев. Дементьев дал нам записать на бумаге кодированные цифры и заучить данные нашей разведки о численности и расположении войск, местонахождении складов боеприпасов, аэродрома и так далее. Мы запомнили и по два раза повторили.
Последний раз завтракали все вместе. Старик Артемыч тоже пришел и сказал: «Вот видите, как я хорошо пришел». Он заботливо уложил нам продукты в вещевые мешки. Нас с Пеликановым вооружили автоматами, дали по пистолету и по четыре гранаты Ф-1. Со всеми попрощались, а старик нас с Пеликановым, как сыновей, расцеловал.
В сопровождении Костикова мы тронулись в нелегкий путь. На сердце было легко. Через два-три дня будем у своих.
Стоял крепкий декабрьский мороз. Рыхлый неглубокий снег скрипел под ногами. Морозным воздухом дышать было легко. В лесу стояла тишина, только иногда раздавался треск деревьев. Неглубокий рыхлый снег не являлся препятствием. Костиков шел впереди, Пеликанов, дразня Гиммельштейна, держал наготове пистолет и замыкал всю процессию.
Гиммельштейн всю дорогу хныкал и просил снять наручники, но Костиков и слушать не хотел. Говорил, когда перейдем линию фронта, тогда и снимем.
Шли больше лесом, редко полями, рядом с опушкой леса. Привалы устраивали в лесу не более чем на два часа. Костров не разжигали. Спали 15-20 минут по очереди. Сон при 40 градусах мороза первые минуты походил на бред, а затем становился приятным.
Линия фронта с каждым переходом от привала до привала становилась все ближе и ближе. Это чувствовалось и по доносившейся до слуха артиллерийской минометной канонаде.
Когда вошли в третий эшелон линии обороны, приходилось обходить тыловые подразделения врага, расквартированные наспех в срубленных избушках, землянках, шли только ночью.
Чувствовалась уверенность Костикова, он, по-видимому, отлично знал расположение немцев.
Войска находились повсюду, по мере приближения к переднему краю обороны проходили рядом с артиллерийскими батареями, танковыми частями, медсанбатами. Костиков нас оставил, не доходя 3 километров до переднего края. Нарисовав на бумаге маршрут с естественными и искусственными приметами, отдал его Пеликанову. Расставание было коротким. Он сказал нам: «До свидания, дорогие друзья, моя миссия выполнена. Дальше дойдете сами. Желаю вам ни пуха ни пера». Он пошел нашим следом назад, а мы – вперед на слышимые беспрерывно выстрелы, на взлетающие вверх сотни осветительных ракет.
Передний край был обозначен на местности на многие километры. «Вот и разошлись, как в море корабли», – пошутил Пеликанов. Мы остались втроем в незнакомом заболоченном лесу, прикрытом белым снежным покрывалом.
7 декабря. Я посмотрел на часы, было 4 часа утра. До восхода солнца оставалось четыре с лишним часа. За это время мы должны были пройти немецкую и нашу линии обороны. Гиммельштейн просил нас снять наручники. Пеликанов ему грубо отказал. Опасности подстерегали на каждом шагу. Мы временами вплотную подходили к немецким патрулям и часовым, тут же шарахались назад, меняли направление и снова шли на выстрелы и ракеты.
Гиммельштейн вел себя хорошо, отдавая все силы, бежал за нами. Нам уже казалось, что мы в нейтральной полосе, но тут случилось непредвиденное. Мы наткнулись на траншею. Гиммельштейн кинулся бежать в нее так неожиданно для нас, что мы растерялись, не понимая его затеи, из осторожности перескочили через траншею и сделали бросок в сторону. Мгновенно в наше направление обрушился град автоматных пуль. Мы бросили в траншею по две гранаты и кинулись бежать в направлении нашей линии обороны. Пеликанов бежал первый. Снова встретился немецкий блиндаж, из него доносилась немецкая речь. В полуприкрытой двери показался немец, я бросил в него гранату и вбежал на крышу блиндажа. В железную трубу бросил снятую с чеки последнюю гранату, пробежал 15-20 метров, затем по-пластунски пополз в сторону участившейся стрельбы с нашей линии обороны.
Немцы с ожесточением стреляли из пулеметов и автоматов. Наши отвечали тем же. В нейтральной полосе было светло, как в солнечный июньский день. Осветительные ракеты с обеих сторон висели в небе.
Найдя глубокую воронку от разорвавшегося снаряда, я залег. Стрельба стала постепенно стихать. Пеликанова не было. Я вылез из воронки, огляделся кругом, ничего не было видно, кроме белого снега на поверхности земли и темных скважин воронок. Кругом торчали деревья с обрубленными кронами.
В небо беспрерывно с обеих сторон взвивались на мгновение осветительные ракеты, освещали поверхность земли, и снова наступал белесый мрак. Сделав ладони трубкой, я крикнул три раза: «Пеликанов, Володя! Володя!» Вместо ответа в мою сторону обрушился град пуль, с обеих сторон.
Когда стрельба стихла, я пополз в направлении нашей линии обороны, а затем встал и пошел во весь рост. Напряжение сменилось страшной усталостью. Инстинкт опасности исчез. Я смотрел на небо, звезды, окружающий частокол вместо леса и глупо улыбался. Думал: где же Пеликанов? Такие, как он, не погибают. Для таких немцы еще не придумали ни пуль, ни мин. Наверняка он уже у своих. Слава богу, цель достигнута. У немцев, стрелявших в меня, снова осечка. Гиммельштейн – предатель. Об этом я знал, но почему-то сомневался. Он, как Иуда, умел притворяться. Правильно предлагал Пеликанов, что по дороге надо было его пристрелить.
С тяжелыми мыслями я незаметно вошел в лес. Кругом стояли не тронутые пулями деревья. Они, как мне казалось, пели печальные песни. Я с детства умел слушать лес и понимал его песни. Сегодня он трещал и стонал от мороза. При слабом дуновении ветра упругие снежинки ударялись о замерзшую хвою и тонкие ветки, которые, как струны, издавали свою мелодию. Они пели мне песню о моей родине, о моей родной деревне. Мне казалось, что я слышу голоса отца и матери, лай деревенских собак и веселые наигрыши гармони.
Я не спал почти трое суток и от усталости не чувствовал своего тела. При одной мысли, что я уже дома, тело расслабилось до предела. Я как будто летел над снегом. На самом деле я с трудом передвигал ноги и шел не более километра в час. «Спасибо судьбе», – думал я. «Я дома, дома», – звенело у меня в ушах.
Вышел на тропу, поверхность которой была сплошь окрашена в красный цвет. Первой мне встретилась девушка с санитарной сумкой. Я подошел к ней и спросил: «Как пройти в штаб батальона или полка?» Она, в свою очередь, спросила меня: «Какого?» Я сказал, что мне безразлично какого. «Мне нужно начальство, иду из тыла врага». Она посмотрела на меня с нескрываемым подозрением и сказала: «Пошли за мной». И мы пошли.






