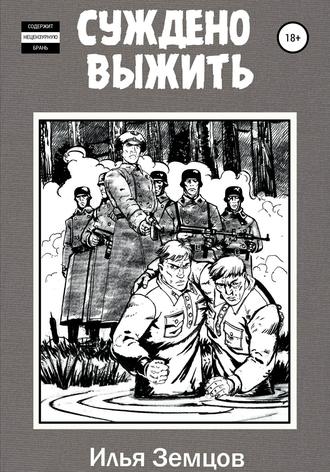
Илья Александрович Земцов
Суждено выжить
Глава двадцать восьмая
Начались проверка и установление наших личностей. В 9 часов утра меня вызвал полковник войск НКВД. Он подал мне два листка бумаги, спросил: «Писать умеешь?» Я кивнул. «Тогда напиши подробную автобиографию с прохождением службы в воинских частях до войны и в войну».
Я настрочил автобиографию и подробно описал свои приключения в войну. Полковник прочитал. Уставив на меня свой непринужденный взгляд, проговорил: «Да! Тертый калач!»
Открыл ящик письменного стола, извлек оттуда пачку почтовых открыток и повелительно сказал: «Напиши письма своим родственникам» – и протянул мне одну открытку. Я ответил ему, что мне нужно четыре, если написать отцу и матери, сестрам. А если писать снохам, тетушкам и двоюродным сестрам, то потребуется не менее двух десятков. Он улыбнулся, протянул через стол еще четыре открытки и сказал: «Почему ты хочешь писать только женскому полу? В твоей родне разве нет мужчин?» Я ответил, что место мужчин сейчас на войне.
Я заполнил четыре почтовых открытки – двум сестрам, отцу с матерью и снохе. Поздравил их с Новым годом и пожелал хорошей жизни. Он взял заполненные мной открытки, прочитал и, немного помолчав, спросил: «Почему не пишешь, что жив и где был?» Я ответил: «Раз пишу, то должны догадаться. Вернулся не с того света. Где был, почему не написал, напишу позднее. В моем распоряжении еще много времени».
«Ты не медик, случайно?» – задал мне вопрос полковник. Я ответил: «Думаю быть медиком, если немцы ненароком не отправят на тот свет».
Он угостил меня дорогой душистой папиросой "Казбек", позвал дежурного и велел отвести. «Не за угол ли вы меня отправляете?» Он улыбнулся. На мою остроту не ответил.
Дежурный привел меня в полуземляное теплое помещение с нарами по обеим сторонам, напоминающее овощехранилище, там находились четыре человека. До нашего появления они что-то горячо обсуждали, а при нас молчали, словно воды в рот набрали.
Дежурный сказал: «К вам в соседи, принимайте и не обижайте». Я повел себя как бывалый солдат, сказал: «Здравия желаю, братцы». Они вразнобой ответили: «Здравствуйте».
Следом за мной привели Темлякова, Гаврилкина и Меркулова. Остальных ребят разместили в других землянках. Я познакомился с соседями, они проходили службу при особом отделе армии. Один оказался мне земляком. Он бывал в гостях у моей старшей сестры, то есть у зятя, и дружил с моим младшим братом. Он говорил, что население этой землянки все время в командировках. Поэтому нам можно жить в ней как дома, но не забывать, что в гостях.
Вечером к нам привели еще одного. Он отрекомендовался: «Иван Зайцев, разведчик, сын кулака». «Почему ты как бы с гордостью произносишь слова "сын кулака"? Мироеды-кулаки уничтожены как класс еще в 1932 году. Здесь партия и правительство сделали большой переворот в сельском хозяйстве», – сказал Меркулов.
«В последних словах ты прав, уважаемый человек, – сказал Иван Зайцев. – В 1930 году в сельском хозяйстве в нашей местности был такой переворот, что мы шагнули, как бы вам не соврать, на 50 лет назад. В 1932 году пришли к финишу: не стало ни мяса, ни молока. Я вам говорю честно, что последующие годы расправы над кулаками были похожи на повсеместный неурожай в течение пяти лет. Я не за кулака. Кулака, может быть, и надо было уничтожить как класс. Проводить раскулачивание надо было под контролем властей. У нас в области доверили все это деревенской бедноте, по сути, лодырям. Вот они-то все дела и вершили. Вместе с кулаком был раскулачен лучший труженик деревни – середняк. Он не эксплуатировал чужой труд. Делал все своими силами, в сезон уборки урожая ночей не спал. Гноил за лето на своих плечах по три холщовые рубашки. У него работали все – старые и малые».
«Ну, а вы куда себя относите?» – спросил Темляков. «Мой отец был настоящий труженик-хлебороб. Работников и работниц у него никогда не было. Хотя нас и раскулачили, но я не считаю себя сыном кулака. Я сын умного деревенского труженика. Иногда ради шутки называю себя сыном кулака. Эта шутка обходится мне дорого. Служил я в полковой разведке, награжден тремя орденами. При дружеской беседе с замполитом полка высказал наболевшее, за что попал под капитальную проверку».
«Брось трепаться, – сказал Павел Меркулов, – зря никого не кулачили».
Иван Зайцев раскрыл рот, хотел что-то ответить, но послышался ровный голос постоянного обитателя землянки – лейтенанта, до этого молчавшего. Он сказал: «Зайцев прав. С этим раскулачиванием мы наломали много дров. Я вам расскажу случай из жизни нашей небольшой деревни в Кировской области. У меня в сознании не укладывалось, за что лучших тружеников выгоняют из своих домов. Отбирают нажитое потом и кровью: скот, мебель, посуду и тряпки, вплоть до пеленок. Мне в то время было 17 лет, мыслил я наравне с взрослыми и мог отличить кулака от середняка. В нашей деревне жил зажиточный мужик Николай Андреевич. Семья его была – 10 человек. У стариков – деда Андрея и бабки Акулины – в руках были бразды правления всем хозяйством. Шесть детей: четыре сына и две дочери. Самой младшей, Шуре, был один год. Старшему Егору было 18.
Хозяйство у них было большое, две лошади, три коровы, пять штук молодняка крупного рогатого скота, семь овец и две свиньи. Круглый год вся семья работала, не зная ни выходных, ни праздников. Дети, начиная с семи лет, участвовали во всех полевых работах вместе с взрослыми. Мужчины, и стар и млад, одевались в самотканые холщовые рубашки и штаны. Женщины носили такие же холщовые платья. За лето на плечах каждого члена семьи сгнивало от солнца и пота по нескольку самотканых рубашек. Все полевые работы велись вручную. Хлеба, которые сеют у нас на севере: рожь, овес, ячмень и редко пшеницу, сжинались, то есть убирались, только серпами. Траву исторически косили ископаемыми косами под названием "горбуша". Такие косы можно встретить только в нашей области и в немногих районах. Коса-горбуша похожа на большой серп. Делают ее из хорошей стали только искусные кузнецы. Косят этими косами в полусогнутом положении. Страшно устает спина, болят ноги. Сгребание сена, копнение, сваживание и стогование считались отдыхом. Бедные дети, а их работало пятеро: Егор, двойни Иван и Вера, Василий и младший 8-летний Илья – в течение целого лета не пользовались ни одним днем отдыха.
В престольные праздники все мужики деревни пьянствовали, ходили нарядные с песнями по деревне. В этой же семье все были трезвые. Съездят в церковь к обедне. Приедут, пообедают и отправятся в лес собирать ягоды, это для них было отдыхом.
На эту большую дружную семью была одна небольшая изба. Первая половина служила прихожей и горницей со сквозными крашеными лавками. Вторую занимали большая глинобитная печь и кухня, отгороженная от общей площади холщовой занавеской. Общая площадь дома – 28 квадратных метров, из них чуть ли не половину занимали печь и кухня.
Мебель – деревянный стол, накрытый старой видавшей виды клеенкой. Он стоял в углу под божницей с множеством больших и маленьких икон. Этот стол служил для приема пищи, шитья и глаженья белья.
Деревянный комод грубой работы стоял лицом к столу и был границей между кухней и избой, от него брала свое начало холщовая занавеска. В комоде хранились чайная посуда и вилки. Чайной посудой пользовались только в особо торжественные праздники – на Пасху и в Рождество. В нижней части комода стоял до блеска начищенный медный самовар.
Самую большую ценность составляла швейная машина с облезшей от времени краской. Возраст и фирму швейной машины по ее дряхлости могли установить только археологи.
Кухня была забита большими и малыми чугунами, горшками, корчагами и ведрами. Холщовое белье не гладили, а катали, наматывая на деревянную скалку, а затем терли деревянным пестиком с искусно вырезанными зубцами.
В целях экономии семья соблюдала все посты. Ели все постное: грибы, ягоды, овощи и льняное масло собственного производства, редко на столе появлялась рыба. После постов в мясоеды разрешалось есть все, но цельного молока семья даже в праздники не пила. Масло, яйца, мясо – все продавалось, хранили деньги, стараясь разбогатеть.
Эту семью можно было сравнить с трудолюбивым ульем или муравейником. Длинными зимними вечерами при тусклом свете керасиновой лампы, а иногда и лучины женщины пряли, крутя ногами прялки или веретена. Мужчины плели корзины и лапти. Спали все вповалку на полатях, кроватей не было.
Вот эта трудолюбивая семья была объявлена кулаками. Я до сих пор очень сожалею об этом. Если бы у нас в России все люди были такими трудолюбивыми, то коммунизм можно было бы построить за 10 лет».
«Я вполне с вами согласен, товарищ лейтенант, – сказал Гаврилкин. – У нас в Сибири тоже творилось ужас что. Козырь был взят на деревенскую бедноту. Нельзя всю бедноту относить к бездельникам, среди них немало было и работяг, которые попали в лапы кулаков, поэтому из нужды выйти никак не могли».
«В нашей деревне многих бедняков я бы назвал бездельниками, – сказал лейтенант. – Если вам не надоело слушать, я могу рассказать вам еще про одну семью». Послышались голоса: «Просим, расскажите».
Лейтенант ровным голосом, как будто читая книгу вслух, заговорил. «У нас в деревне жил умный трудолюбивый зажиточный мужик. Было у него два сына: старший Григорий и младший Тимофей. Хозяйство вел образцово. В доме все ладилось, делалось вовремя. Жили экономно и бережливо. Зимой делали сани на продажу. Женщины ухаживали за скотом, а вечером пряли.
Песчаная и супесчаная земля получала много навоза и давала хорошую отдачу. В отдельные годы получали 100-пудовые урожаи. Скота держали много, поэтому и навоза было много. Хозяйство превращалось в сильно зажиточное, построили кузницу, ветряную мельницу. Копейка оборачивалась в рубль. Крепкий работящий старик трагически умер. Уехал в город продавать сани. Ночью лошадь привезла его к дому мертвого. Обнаружила мертвеца собака. Она сильно завыла и разбудила всю семью.
Наутро вызвали из села фельдшера, который обслуживал, как и поп, весь приход – 24 деревни. Фельдшер бегло осмотрел труп, перекрестился и сказал: «Царство ему небесное, был хороший мужик». От какой причины умер человек – это его не интересовало. Получил за вызов вознаграждение, уехал. Через месяц после смерти старика братья решили разделиться. Дом достался старшему Григорию. Тимофей быстро выстроил на краю деревни у самого леса себе такой же дом. Тимофей был обижен старшим Григорием. Прошло пять лет, беззаботный и ленивый Григорий все прожил, продал кузницу и мельницу. Несеяные его полосы стали зарастать сорняками.
Мужики весной пашут, сеют овес, ячмень, лен и горох, дорожа каждым днем. Григорий отправляется на охоту. Закончив весенний сев, мужики возят навоз в паровое поле, очищая калды и дворы под метлу. Григорий прикидывается больным, он целыми днями лежит на берегу небольшой речушки, купается и загорает. В сенокос вся деревня работает, прихватывая ночи. Григорий со своей Матреной идет собирать лакомые ягоды – землянику и чернику.
Одинокая полоса ржи или овса стоит с поникшими колосьями до глубокой осени на сжатом и убранном поле, любопытные спросят: «Чья?» Деревенские мальчишки ответят: «Это Гришкина». Жена его Матрена разводит руками и говорит: «Что я одна сделаю». Ее жалеют бабы, думают: «Живут и работают без мужей вдовы».
В длинные зимние вечера Григорий на недели отправлялся играть в карты в другие деревни. К началу раскулачивания сделался настоящим бедняком, не только безлошадником, но и безкоровником. Принялся активно репрессировать трудолюбивых мужиков. При раскулачивании большой семьи Николая Андреевича он привел себе корову, привез сена и самым первым вступил в организованный колхоз. Однако и в колхозе он не работал, а ходил бригадиром с год, а потом сторожем, через два и из сторожей выгнали».
Лейтенант резюмировал: «Я согласен с товарищем Зайцевым, действительно сельское хозяйство России шагнуло далеко назад. По ошибке много лучших тружеников деревни раскулачили или вынудили уехать в город, ликвидировать все свое хозяйство. Середняки уничтожили скот и почти весь инвентарь, под угрозой твердого задания по обложению налогом вступили в колхоз. С удовольствием и радостью вступали в колхоз бедняки.
Если в 1929 году было в изобилии всех продуктов сельского хозяйства, то в 1931-1932 годы пришли почти к финишу. Я имею в виду только свою область. Простой пример: в 1929 году в нашей деревне на 35 хозяйств было 180 голов крупного рогатого скота. В 1938 году на то же количество хозяйств было 62 головы. Вы подумаете, я тоже сын кулака, нет! Несправедливости было много, но жаловаться было некому. В 1927 году я вступил в комсомол, принимал активное участие во всех мероприятиях, проводимых нашей партией и правительством.
Хотя нас здесь и немного, говорить обо всем не место. Скажу только одно, мы погубили и нашу землю, веками хранимую мужиком. С появлением тракторов и организацией МТС трактористы с позволения неопытных руководителей колхозов опять же из бедняков и нерадивых середняков небольшой гумусный горизонт похоронили под мощным пластом в 35-45 сантиметров супеси или бурого песка. Затем перемешали его. Для приведения в плодородное состояние почвы нужно 30-40 тонн органического удобрения и 4-5 центнеров минерального. У нас до войны ни того, ни другого почти не было. Отсюда легкие песчаные и супесчаные почвы из плодородных превратились в бесплодные.
Для подъема сельского хозяйства в нечерноземной зоне потребуются долгие послевоенные годы. Многие из нас, может быть, доживут до конца войны, все увидят своими глазами. Извините за откровенный разговор. Мне пора собираться, через час командировка».
Он медленно собрался и ушел, впустив в землянку струю холодного воздуха. Мы молча проводили его взглядами. «Он прав, – сказал Ваня Зайцев. – Я за свои слова попал сюда». Его никто не поддержал, и разговор был переведен на другую тему.
Гаврилкин, прирожденный охотник, сибиряк, рассказывал с большим увлечением про охоту. Под конец он говорил: «Хотите – верьте, хотите – нет, я вам рассказал сущую правду». Все в землянке хохотали на пущенные Павлом Темляковым остроты в адрес охотников и рыбаков. Жильцы в землянке каждый день менялись, одни уходили, другие приходили на ночлег. Нас раз в день вызывал следователь и заставлял писать автобиографию, мы это делали заученно слово в слово. Он брал листок бумаги, внимательно читал, а затем говорил: «Вы свободны». На прощание угощал папиросой. Вся эта процедура длилась не более часа. Кормили нас раз в день. Литровым черпаком повар наливал овсяной кашицы, выдавал два кусочка печенки и 600 грамм хлеба. Чаю досыта.
От нечего делать мы помогали повару, носили воду, готовили дрова. Он нас выручал, кормил досыта, кто сколько хотел.
Времени свободного было много, поэтому с прикрасами рассказывали друг другу похождения из своей жизни, разного рода небылицы и даже сказки.
Гаврилкина через три дня совместного проживания отправили на пересыльный пункт. Зайцева тоже перевели, а может быть, вернули в свою роту разведки.
Мы остались втроем: Павел Темляков, Павел Меркулов и я. Девушек-врачей мы каждый день встречали у следователя. «Жизнь как на хорошем курорте, – говорил Меркулов, – только пива с водкой не хватает».
За четыре дня мы рассказали друг другу всю свою короткую жизнь. На пятый день нам в землянку подселили летчика.
Самолет его был подбит в районе Пскова, он выпрыгнул с парашютом и болотами и лесами добрался до своих. Шел он 22 дня. Его, как и нас, проверяли, устанавливали личность. Он нам отрекомендовался: «Сергей Ваняшин, летчик-истребитель. Родился в деревне в Пермской области, на границе с прославленной Удмуртией». «А почему с прославленной?» – спросил я его. Он ответил: «Разве вы не знаете, как спорили удмурты?» «Нет», – ответил за меня Темляков. «Поспорили удмурт с мордвином, кто немцев от Москвы прогнал. Удмурт говорил: «Наша удмуртская дивизия прибыла, немцы сразу почувствовали недоброе и побежали назад». Мордвин говорил: «Неправда, они вас нисколько не испугались, а от Москвы угнала немцев мордовская дивизия. Мордвины, чтобы сохранить ботинки для будущих боев, поснимали их и положили в вещевые мешки и надели лапти. Обмотки попарно связывали для вешания немцев. При первом наступлении и атаке каждому было дано задание – поймать по одному немцу и повесить. Некоторые перестарались, повесили по три. Озлобленные немцы с ожесточением бросились в контратаку на узкий участок мордовской дивизии, но не тут-то было, спасли лапти. Лапти не буксуют ни в грязи, ни в снегу, а кованые немецкие сапоги забуксовали. Только этого и ждала мордва. Она их наголову разбила и гнала 300 километров. Если бы хлеб да соль не кончились, да лапти не износились, гнали бы до самого Берлина».
«Какой ты забавный, Сергей, – сказал Темляков. – Ну, еще что-нибудь расскажи».
Сергей ответил: «Напои, накорми, а потом расспроси». Сергей действительно был голоден. Он быстро очистил наши котелки и съел не менее килограмма хлеба. Затем, отдуваясь от избыточного наполнения желудка, спросил: «Что вам рассказать?» «Что знаете», – ответил Меркулов. «Только слушайте внимательно, я вам расскажу о неудачной своей женитьбе».
Он начал свой рассказ с того, что нет ни одной женщины верной, не изменяющей своему мужу. Среди нас женатый был один Темляков Павел. Он зароптал, начал доказывать обратное. Ваняшин предупредил: «Если будешь вступать в пререкания, рассказывать ничего не буду».
Темляков замолчал. Ваняшин уральской скороговоркой уверенно начал: «Любил я одну девчонку. Она была красавица и нравилась не только мне, а всем ребятам. Жила она в 3 километрах от нас в соседней деревне. В 1935 году выучилась на киномеханика и ездила по всей округе с разными кинокартинами: «Каштанка», «Чапаев» и «Веселые ребята». Я ее ревновал и поэтому почти ежедневно ездил следом.
Потом посватался, она сначала не соглашалась выходить за меня, но ее родители уговорили. Она дала согласие на замужество и свадьбу. Не откладывая, пир был назначен через две недели. Ее и мои родители жили состоятельно, хорошо. Со слов ее и моих стариков, они всю жизнь мечтали породниться, их мечта сбылась. Началась свадьба по уральским обычаям. Поехали свадебным поездом за невестой. Обвенчались с ней в церкви. После, как и везде, пир горой. По обычаю наших предков, простынь, на которой спят молодожены в первую ночь, утром показывается матери жениха и всем гостям. Это свидетельство честности или нечестности невесты. Наша простынь оказалась абсолютно чистая. Невесту мою бросило в краску. Она превратилась в красный маковый цветок, но не растерялась и сказала, обращаясь с поклоном и улыбкой ко всем: «Мы с Сергеем жили до свадьбы».
Взоры всей полупьяной ватаги гостей уперлись в меня. Я отрицательно покачал головой. В одно мгновение лицо ее стало белое, как простынь. Она закрыла глаза обеими руками и убежала в нашу спальню. Я кинулся за ней, хотел ей объяснить, сам не зная что. Но она оттолкнула меня от себя обеими руками и нежным голосом проворковала: «Какой же ты нахал». Выпроводила меня за дверь, а сама закрылась изнутри на крючок. Многие пытались ее вызвать, она молчала. Свадьба срывалась. Гости с ее стороны, осуждая ее, хваля меня и мою мать, уехали. Ее отец упер свой взгляд в землю, ни на кого не смотрел. Запряг свою лошадь, посадил свою жену, то есть мою тещу, и уехал, не простившись ни с кем. Вся моя родня не думала уезжать от изобилия закусок и спиртного. Изрядно похмелившись, большинство легло вздремнуть часок-другой, только отдельные неспокойные к водке сердца продолжали пить.
Невеста вышла одетой в зимнее пальто, валенки, с накинутой на голову шалью. Пьяной головой я почувствовал что-то недоброе, как тень, подошел к ней и стал ласково упрашивать ее. Мои слова отлетали от нее, как от стены горох. Она молчала, не проронила ни одного слова. Наблюдавшая за нами моя мать окликнула ее, назвав по имени. Она вздрогнула всем телом, но промолчала. Обвела своим ясным взором избу, гостей и убежала на улицу.
Я выскочил в одной рубашке за ней, схватив ее за руку. Она с силой выдернула руку и свысока с презрением посмотрела на меня. Я хотел ударить ее по лицу, избить и силой привести обратно, но ее взгляд парализовал меня. Журчащим, как весенний ручеек, голосом со слезами на глазах она сказала: «Эх ты, жених» – и, тяжело вздохнув, пошла вдоль по нашей деревне.
Я стоял, как оглушенный взрывной волной от тяжелой бомбы, и смотрел ей вслед. Из забытья вывела меня мать, она ввела меня в избу. Пьяные родственники предложили: «Догоним, побьем и привезем обратно». Отец и мать с упреком смотрели на меня. Я согласился догнать, но все время молчавший отец строго сказал: «Не надо. Этого еще не хватало, силой милым не быть». Пьянка продолжалась, гостям было все равно, будет у меня жена или нет, лишь бы свадьба была.
Вечером мы с матерью поехали к ее отцу, но ее дома не было. Мой законный тесть и теща разговаривали с нами, не отрывая своего взгляда от пола. Как будто на полу валялось что-то ценное. Говорили с неохотой, реденько, а сами в душе радовались, что она ушла. Свадьба без жениха и невесты продолжалась еще три дня. Гости успокоились, когда выпито и съедено было все, они сами ходили в погреб в поисках выпивки. Такой уж наш род нахальный.
Через месяц меня вызвали в народный суд. Она подала на развод. Судья-женщина на мои протесты не давать развода до тех пор, пока не оплатит свадьбу, не обращала внимания. Это был детский лепет.
Я цеплялся, как утопающий за соломинку, искал причины ее удержать. За нее я согласен был отдать все свое хозяйство. Во время заседания суда она сидела рядом со мной. Я ощущал ее близость, ее ровно бьющееся сердце. Стройная, красивая, она стояла перед судьями, улыбалась одними глазами и говорила: «Прошу дать развод, так как я с ним не жила и жить не собираюсь. Он опозорил меня перед всем честным народом и всей моей родней, назвал меня нечестной».
Судья спросила: «А все-таки расскажите, как могло случиться. Спали вместе на свадебном ложе, и он до вас не дотронулся?» Лицо невесты покраснело, глаза заблистали злыми огоньками, она стала еще красивее. Грудным голосом заговорила: «По его поведению, он не сам женился, а был где-то на свадьбе. Настолько увлекся выпивкой, что забыл обо мне и вспоминал только, когда кричали "горько". Когда пошли спать, он сам идти не мог, привели его на постель его дядя и мать. Поэтому, когда лег, ему было не до невесты. Он мгновенно уснул. Он мне стал почему-то противен, не дожидаясь, когда проснется, я встала и ушла. Утром вместо того, чтобы найти меня, он стал искать мою честность. Вам, граждане судьи, представлено медицинское заключение, а если оно вам сомнительно, направляйте на любую медицинскую экспертизу».
Тут мои глаза от позора самовольно стали вылезать из глазных орбит. Я вспомнил свадьбу, крики за столом "горько", ее трепетное тело и сладкие доверчивые поцелуи под крики пьяных. Последний выпитый стакан самогона-первача выбил меня из колеи. Тело от головы отключилось, и я ничего не помнил.
Утром проснулся с пересохшими губами и ртом, ее уже не было. Я назвал себя на суде глупым ослом, попросил развода за свой счет и из зала заседания суда выскочил пулей. Многие подумали, что я рехнулся. Но что подумали обо мне девушки, не знаю.
Через полгода она вступила в законный брак с одним симпатичным парнем-автотехником, предварительно рассказала ему о своем первом замужестве».
«Ты с ним встречался?», – спросил Меркулов. «Да! – ответил Ваняшин. – Выпивали вместе. Он подтвердил ее честность искренне. Молодежь, парни и девушки надо мной стали втихаря посмеиваться, где бы я ни появлялся. Девушки на меня смотрели чуть ли не с ненавистью и бежали от меня, как от урода. Пришлось мне уехать из родного дома сначала в леспромхоз, затем в город, где без отрыва от производства окончил аэроклуб».
«Почему ты всех женщин меряешь одной меркой?» – спросил Темляков.
«Нет, я женщин вообще не меряю никакой меркой. Те, с которыми мне приходилось встречаться, легко в меня влюблялись. В леспромхозе работал десятником, женился на девушке, до меня была замужней, разведенной. Она мне напоминала первую, но жили мы только полгода, пришлось уехать от нее. Она была слишком религиозна. Заставляла соблюдать не только посты, но и постные дни недели в питании и во всем. Притом ее излишняя набожность сочеталась с сильной жадностью и скупостью. От ее рациона, которым она кормила меня, одежды и вкуса я стал походить на монаха. Часто просил у лесорубов хлеба под предлогом, что на обед ничего не взял. Она забывала кормить меня, говорила: «Найди, поешь что-нибудь». Зато в получку от нее нельзя было утаить ни одной копейки. Она, как осьминог, своими щупальцами проверяла всю одежду, не говоря о карманах. Я вынужден был просить помощи у отца.
Отец послал мне денежный перевод и написал, чтобы матери купил платье. Я ничего не успел. Присланные деньги она нашла и присвоила. Что ни бывает, когда нервы не выдерживают. Я избил ее и ушел. Она подала на меня в народный суд, где я чистосердечно все рассказал. Вынесли решение – за чистосердечное признание ограничиться шестью месяцами принудительных работ. Денежки так и осели у нее. В городе я снова познакомился с одной и в тот же вечер ушел к ней на квартиру и остался жить на правах мужа».
«Сколько же у тебя было?» – со злостью спросил Павел Темляков. Он любил свою жену, сына и часто вспоминал о них.
Ваняшин, улыбнувшись, ответил: «Много». «А почему ты имени ни одной жены не называешь?» – спросил Меркулов. «Вам все равно, вы их не знаете, а мне при назывании имени становится не по себе. Поэтому, если будете слушать, я продолжу».
«Просим», – сказал Меркулов.
«Совместная жизнь и с этой женщиной не стала клеиться. Она часто вздыхала, задумывалась о чем-то. В нашем городе жила она только один год, поэтому ее прошлое никто не знал. В шифоньере она бережно хранила мужскую одежду – гражданскую и военную. На мои вопросы «Чья?» отвечала: «Моего старшего брата». На вещи она смотрела с грустью, иногда заставал ее плачущей. Она мне очень нравилась, я полюбил ее, но вопрос перед ней пришлось ставить ребром.
После получения зарплаты мы с сослуживцами выпили. Домой я пришел веселым. Она не обиделась на мое появление пьяным, наоборот, ласково спросила, не хочу ли чего поесть. Набравшись хмельной храбрости, вызвал ее на откровенный разговор. «Жить с тобой на правах любовника не собираюсь. Если я тебе нравлюсь, пошли в ЗАГС регистрироваться». Она посмотрела на меня смиренно, как монашка, просящая подачу, и сказала: «У меня есть законный муж, от него два года не было никаких вестей, я считала, что он погиб. Неделю назад узнала, что он жив. Прости за откровенность, вступить с тобой в законный брак не могу».
«Где же твой муж и кто он», – спросил я. «Мой муж был военный, его посадили в 1936 году как врага народа. Но это неверно, он преданный Красной Армии командир и честный гражданин. Его до сих пор не судили. Сидит более двух лет без суда и следствия».
Я внутренне переживал, пьяный мозг горячился, но старался этого не показывать. Сказал: «До свидания» – и ушел. Хотел этим произвести какой-то эффект. Вместо того чтобы просить меня остаться, она сказала: «До свидания». Попросила, чтобы я захватил свои вещи. Я от нее ушел навсегда. Надо признаться, это была культурная, чистоплотная женщина. Жила она в большом достатке, одевалась со вкусом, ни в чем себе не отказывала. Работала преподавателем в каком-то институте. Меня это не интересовало. Грешным делом, я был бы рад смерти ее мужа. После ухода от нее жизнь моя пошла по замкнутой кривой. Одевался со вкусом. Распустился до крайности, хотите – верьте, хотите – нет, ни одна женщина в удобной обстановке не отказывала, замужняя или незамужняя.
В августе 1938 года меня призвали в армию, послали в авиационное училище на переподготовку. В 1939 году во время Финской войны я был летчиком-истребителем, вот и вся моя биография».
Если внимательно присмотреться к нему, он был красивый мужчина, лет 30-ти. Плотного телосложения, мускулистый или, по-русски, жилистый, среднего роста. Несмотря на недавние переживания в тылу врага, голод и холод, выглядел бодро. Широкое лицо, неподдающееся загару, было белым. Вьющиеся цвета льна волосы и большие голубые глаза. Большой, но правильно посаженный нос. Все это притягивало к нему не только женщин, но и располагало мужчин на бескорыстную дружбу с ним.
Историю женитьбы Сергей Ваняшин рассказывал около четырех часов.
Время проводили рассказами о прошлом и мечтами о будущем. Прошло незаметно 10 дней. Нас, Меркулова, Темлякова, Валиахметову Соню, Сазонову Валю и меня, увезли в одно местечко.
В лесу под раскидистыми елями было построено много домов. Все обнесено колючей проволокой, напоминало лагерь для заключенных. В теплой комнате мы жили четыре дня. Нас не охраняли, но и выходить за пределы зоны нам не разрешали. Затем принесли документы на имя каждого. Торжественно их вручили. Дали продаттестат и сказали: «Вы свободны, извините за затянувшуюся проверку».
С лучшими друзьями я расстался в морозное январское утро. Меня направили в офицерский резерв Северо-Западного фронта, Меркулова и Темлякова – на ближайший пересыльный пункт. Девушки уехали в какое-то медицинское управление.
Жизнь начинается заново, как она будет складываться, пока неизвестно. Снова фронт, а может быть, и тыл.
Я ехал в кузове попутной машины по фронтовой зимней дороге. Кругом военные: в шинелях, полушубках, ватниках, летных комбинезонах и танкистских шлемах. Одни едут ближе к переднему краю, другие, наоборот, в тыл, и я ехал в тыл. Прощайте, друзья, вряд ли когда-нибудь сведет нас судьба.






