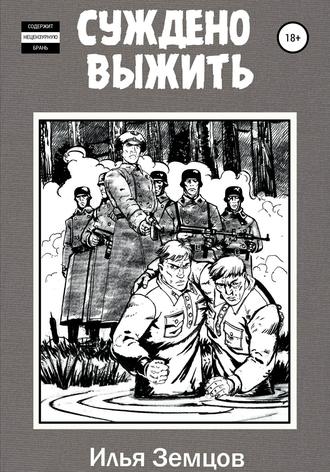
Илья Александрович Земцов
Суждено выжить
Идти мне было очень трудно. Как-то своеобразно болело все тело, а больше всего голова. В голове была одна мысль: отдай все силы, но не отставай. Отстать, упасть значит больше никогда не подняться, умереть. На помощь обессилевших, голодных товарищей надеяться нельзя. Надо считать шаги плохо подчиняющихся ног, отвлечь сознание от бессилия. Двигаясь по шоссе Новгород-Шимск, миновали пустыри и развалины, земляной вал и поле.
Несмотря на ругань и подгоны немцев, лай собак и щелканье затворов, шли медленно. Разговоров в строю не было. Каждый думал о своем. Одни радовались, что остались живы и невредимы. Думали, что плен – временное явление, война вечно не будет. Как-нибудь переживем, а там и семью увидим. Другие сокрушались, думали о позоре пленения, у них была одна мечта – бежать. Умереть, а бежать. Не мало было и таких, кто думал только бы наполнить желудок, а там будь, что будет.
Через 6-7 километров в одной деревне сделали привал, не ради военнопленных, а ради немецкого конвоя. Привал для меня был своевременен, ибо дальше идти я не мог.
На привале началась торговля путем обмена между немцами и военнопленными. На компас я выменял у немца кусок хлеба и четыре сигареты. Хлеб разломил пополам и одну часть предложил Клокову, он категорически отказался и приказал мне съесть все.
К вечеру нас пригнали в деревню Борки, в километре от деревни располагался лагерь. Лагерь был в скотном дворе, обнесенном колючей проволокой. Нас выстроили, и начался тщательный счет. Считал невзрачный немец маленького роста в желтой форме с нашивкой на рукавах. Он принимал. Сдавал длинный сухопарый немец с вытянутой шеей и большим кадыком. Оба ходили и громко считали, не сходились во мнениях и пересчитывали. Пересчет производился два раза. Все живое лагеря наблюдало за сдачей и приемкой новых узников и жертв.
Жадные звероподобные немцы, именовавшие себя людьми, притом культурными, на пленных смотрели как на никому не нужные вещи или считали удовольствием их убить, заморить с голоду.
Население всего лагеря составляло не более 100 человек. Зато по другую сторону лагеря по косогору к долине реки Веронды стояло множество деревянных крестов, а в центре их один большой 8-метровый. Под каждым крестом лежали десятки жертв, умерших от голода и холода за колючей проволокой. Когда нам разрешено было войти за колючую проволоку, нас окружили люди в когда-то прожженных шинелях, а сейчас настолько изорванных, что шинель нельзя было назвать шинелью, она больше походила на безрукавку, обтягивающую одну грудную клетку. Брюки и гимнастерки от множества неумело пришитых руками мужчин заплат напоминали что-то неописуемое. Обувь у большинства развалилась и была связана веревками и проволокой.
В такой одежде небритые, обросшие, грязные люди, истощенные до полной дистрофии, походили на какие-то мифические создания, а передвигались они, словно тени в загробном мире.
Военнопленные до нашего прихода только что получили ужин. Мы тоже не были забыты гостеприимным комендантом лагеря. Ломая русские слова на немецкий лад, он объявил становиться в очередь на кухню для получения пищи.
У большинства из нас не было ни котелков, ни кружек. Многие побросали защитные каски, как бы они сейчас пригодились для получения похлебки. Мы стояли в очереди вместе с Клоковым, но получать нам было не во что. Выручил нас небольшого роста, тощий, до синевы бледный паренек. Он принес закопченную гильзу артснаряда большого калибра с приспособленной из проволоки ручкой. «Возьмите, – глухим голосом сказал он, – это моего друга. Он умер две недели назад». Клоков поблагодарил и спросил: «А моему другу ничего не сумеете найти?» «Попробую, – ответил он. – Может быть, вы найдете закурить?»
Я протянул ему целую немецкую сигарету, еще выменянную на часы. Он не взял, а с жадностью выхватил ее из моих рук и исчез в бараке. Через минуту появился с каской, приспособленной под котелок.
Повар Митя Мельников, к которому мы подошли, не жалел похлебки и с добавкой налил мне полную каску, а Клокову полную гильзу. По кусочку непропеченного немецкого хлеба, похожего на непросушенную глину, раздавал сам комендант лагеря. Похлебка была приготовлена из неочищенной, мелкой, с примесью полугнилой картошки, заправленной какой-то мукой, попадались мелко нарубленные кости и конина.
Мы с большим аппетитом съели всю бурду и с наполненными животами пошли искать места в бараке. Люди знакомились, искали своих земляков, знакомых. Происходили торговля и обмен гимнастерками, брюками, шинелями, сапогами и ботинками. В придачу шли русские и немецкие деньги, кусочки хлеба, окурки сигарет и даже сэкономленная похлебка. С помощью паренька, который дал нам гильзу и каску, оборудованные под котелки, мы нашли себе место, и неплохое, на втором этаже нар, рядом с ним. Он сказал, что не так давно на этих нарах было тесно, спали 12 человек, сейчас осталось двое. Остальные все умерли.
«Откуда ты? – спросил Клоков. – Как тебя зовут и где воевал?» Он внимательно посмотрел в глаза Клокову, затем скользнул взглядом по моему лицу, глухо выдавил из себя: «Саша Сенников, из Кировской области. Был мобилизован в июле 1941 года. Попал в формировавшуюся в Кирове 311 дивизию. В начале августа 1941 года попал в плен. В боях за станцию и поселок Чудово полк был окружен немцами, или просто была поднята паника. Красноармейцы вместо организованного выхода из окружения или отступления под команды провокаторов «Спасайся, кто как может!» разбежались по лесу и без сопротивления сдались, наткнувшись на немцев в поисках пищи в населенных пунктах».
Саша Сенников коротко за три минуты рассказал о пребывании на фронте и тяжело вздохнул: «Я живой свидетель боев 311 дивизии под разъездом Торфяное, рядом со станцией Чудово». Я сказал, что тоже служил в 311 дивизии, но был направлен в тыл к немцам. Глаза Саши приобрели блеск, и он спросил: «А в каком полку вы служили?» Я ответил. Он сказал: «Ваш полк формировался в Кирове, а наш – в городе Котельнич». Саша хотел задать мне еще один вопрос, но Клоков его перебил: «А сколько вам лет?» Саша ответил, что 24. «Кадровую служил?» «Да, – сказал Саша. – Демобилизовался в ноябре 1940 года». «Где служил?» – спросил Клоков. «Связист», – ответил Саша.
В это время военнопленные расположились и стали выходить из своих ниш, именуемых комнатами. В барак вошла группа немецких офицеров. Среди них был какой-то военачальник в макинтоше без погон, офицерской фуражке и очках с толстыми стеклами, прикрывающими мутный взгляд. Комендант лагеря чувствовал себя так, как будто сидел на иголках. Офицеры обошли барак, заглянули на кухню. Их начальник говорил только "гут" да "гут".
Раздалась команда: «Вновь прибывшие, выходи строиться». Люди не спеша выходили и становились в строй. Когда все встали, послышались армейские команды: направо, смирно, равняйсь и так далее. От группы офицеров, стоявших поодаль, отделились двое в очках без погон и обер-лейтенант в форме СС с черепными нашивками на рукавах. Обер-лейтенант заговорил на чисто русском языке. «Генерал Власов, бывший командующий вашей армии, добровольно сдался, перешел к немцам. Вы – храбрые русские солдаты, при любых условиях драться умеете, – звонким артистическим голосом говорил переводчик. – Среди вас есть военные специалисты, саперы, механики, топографы, имеющие русские воинские звания. Переходите к нам. Мы вам сохраним ваши звания, создадим хорошие жизненные условия. Цель у нас одна – уничтожить коммунистическое государство и создать свободную независимую Россию». Затем он голосом заправского командира крикнул: «Саперы, три шага вперед».
Вышел только один человек, повернувшись кругом, встал перед строем. Обер-лейтенант спросил: «Кто ты?» Он бойко ответил: «Сапер». «Звание?» «Старший сержант». «Отлично, кругом и десять шагов вперед».
«Саперов больше нет?» – с визгом крикнул обер-лейтенант. «Топографы! Два шага вперед!» Никто не вышел. «Механики, три шага вперед!» Тоже никто не вышел.
Разгневанный обер-лейтенант и его шеф кричали, угрожали, но, по-видимому, все это им надоело, и они ушли. Растерянный комендант лагеря не находил решения, что делать, и усталых людей держал в строю более часа. Вышедшего из строя сапера не решался ставить обратно, но затем, махнув рукой, подал команду пойти в лагерь.
Спал я как убитый. Разбужен был странным звуком – ударом железного отрезка о подвешенный кусок рельса. Этот сигнал служил отбоем и подъемом. Отбоя я не слышал, так как уже крепко спал. Раздалась команда выходить строиться на завтрак. Завтрак состоял из кусочка хлеба, чайной ложки повидла и навара из неизвестной травы. После завтрака раздалась команда русского коменданта Ивана Тимина: «Выходи строиться». Ветераны лагеря, подбадривая новичков, шли и говорили: «На работу, на дорогу».
Строили отдельно новичков и ветеранов. При выходе из лагеря в калитку сквозь колючую проволоку каждого прощупывали взглядом комендант лагеря и врач Иван Иванович. Меня признали "кранк", то есть больным, и вернули в лагерь. Я встал к стене барака и наблюдал за построением, затем за подсчетом. Помимо военнопленных около 50-ти человек было конвоиров с собаками. Из новых отсчитали 60 человек и присоединили к старым, угнали по направлению деревни Борки на работу.
Следом за ними погнали окруженных конвоем с собаками остальных новых, среди них были мои друзья, в том числе Клоков. Несвоевременная болезнь, ранение и контузия навсегда разлучили меня с однополчанами, а главное, с Клоковым. Их угнали, со слов коменданта, в другой лагерь для военнопленных.
Больных в лагере было 12 человек, четверо из них лежали, передвигаться не могли. Ухаживал за ними по распоряжению врача Ивана Ивановича санитар, назначенный из больных. В лагере наступила полная тишина. Больные после завтрака лежали, я тоже попробовал полежать и заснуть, но в голову назойливо лезли воспоминания об ошибках и удачах на фронте, в коридоре смерти, завершившиеся полной катастрофой для нас.
Поэтому я встал и вышел погреться на солнце. На посту стоял один часовой у проходных ворот. Он внимательно смотрел на мою забинтованную голову, затем на чисто русском языке крикнул: «Ранен что ли?» Я утвердительно ответил. Затем он сквозь сжатые зубы со злобой процедил: «Что, большевички, довоевались? Быстро к финишу пришли!» Я притворился, что ничего не слышу, и показал ему на уши.
В пререкания вступать с убежденным врагом советской власти было бесполезно и даже опасно. Снимет винтовку с плеча и шлепнет, за что еще получит благодарность от своих шефов. Ко мне подошел Митя Мельников и полушепотом сказал: «Пошли в барак». В бараке мы сели к печке, сделанной из бочки, чуть-чуть теплой. Я спросил Митю, что это за часовой. Он ответил: «Лагерь охраняют эстонцы, а это русский эмигрант, еще до революции сбежавший в Эстонию и добровольно вступивший в эстонский легион. Он вреднее всей охраны. Поживешь – увидишь».
Затем он поинтересовался моим ранением. Расспрашивал положение наших войск на фронтах. Интересовался жизнью нашего народа. Я знал о нашем народе немногим больше, чем он. Я хорошо был осведомлен из печати о наших успехах на всех фронтах и уверенно говорил ему: «Немцами молниеносная война проиграна, она превратилась в затяжную. Враг будет разбит, победа будет за нами».
В барак вошел невысокого роста человек с густыми длинными белесыми бровями и бойкими голубыми глазами. Он глухим басом приветствовал нас и сел рядом. В его походке, взгляде, лице и всей фигуре было что-то знакомое. Он быстрым взглядом окинул сначала мою фигуру, затем мою голову и проговорил как бы между прочим: «Сильно ранены?» Я ответил, что легко отделался, рана скоро заживет. Митя Мельников с уважением относился к этому человеку и называл его Павел Васильевич. Когда он ушел от нас, я спросил Митю, кто это и почему он называет его по имени и отчеству.
Митя в упор смотрел в мои глаза своими черными, как смородина, немигающими глазами и говорил: «Это инженер Меркулов, который пользуется большим авторитетом у коменданта лагеря и всей охраны. Он восстановил из руин электростанцию и мельницу».
Меркулов быстро вернулся и опять сел рядом с нами. Первый мой вопрос к нему был: «Где я вас видел?» Он ответил: «Мы с вами встречались два раза, но поговорим об этом позднее. Мой долг сейчас оказать вам помощь. У меня есть бинт и йод. Сейчас я сменю вам повязку». Он встал на ноги и, как искусный медик, осторожно отодрал от моей головы присохший кровяной бинт. Рану по краям намазал йодом, голову забинтовал чистым бинтом. Поверх чистого обмотал старым, грязным, с запекшейся кровью. Я поблагодарил его и, ссылаясь на головокружение, ушел и лег на свое место на нарах. Меркулов вышел из барака, в двери крикнул, что встретимся вечером.
Разговор заводить в присутствии Мити Мельникова было опасно. Моя зрительная память оказалась значительно слабее, чем у Меркулова. Я вспомнил встречи с ним только после его слов, ударивших мое сознание, как молотом: «Мы встречались два раза». «Что нужно от меня Мите Мельникову? Этому аккуратному небольшого роста человеку с тщательно выбритыми лоснящимися щеками и подбородком бархатисто черного цвета», – подумал я. Митя снова пришел ко мне, сел рядом на нары. Озираясь по сторонам, как воришка, лезший в чужой карман, он положил к моей голове пачку маргарина и полбуханки хлеба. Шепотом, почти доставая мою ушную раковину губами, сказал: «Быстро спрячьте все». Я сел на нары и спрятал в карманы шинели. Митю поблагодарил за оказанную мне помощь. Он полушепотом ответил: «Ничего не стоит» – и, не теряя времени, скороговоркой начал рассказывать свою несложную биографию.
Родился и всю недолгую жизнь жил в Москве. Работал дворником. Исполнился в этом году 31 год. Разменял четвертый десяток. Воевал немного, всего три дня. Сидели в окопах под Новгородом и ждали немцев. При появлении немцев всем взводом без боя сдались в плен, так как сопротивление было бессмысленным. Разозленные немцы могли бы перестрелять всех. «Вот ты каков, – подумал я. – Шкурник, перебежчик, добровольно сдавшийся в плен». Я даже представил себе, как Мельников с немецкой листовкой, на которой был нарисован пропуск на русском и немецком языках для добровольной сдачи в плен, шел к немцам с поднятыми руками, держа наготове листовку.
Все это высказать значило бы оттолкнуть от себя человека, предлагающего дружбу и нужную помощь. Поэтому я молчал, а в знак согласия кивал ему головой. После короткого повествования о себе, Митя спросил меня: «А ты откуда?» Я ответил, что из Кировской области из деревни. Служил в кадровой. Воевал с первого дня войны. Был ранен, лежал в госпитале. После выздоровления снова на фронт. Закончил пленом.
Митя несколько оживился, с улыбкой проговорил: «Что вы огорчаетесь? Плен – это в данный момент спасение жизни. На фронтах условия немного лучше, чем здесь, и каждую минуту жди смерти. Здесь спокойно, и притом еще охраняют». Я не мог выдержать хвальбы. Показал ему в окно на кладбище, на множество деревянных крестов и, повысив голос, сказал: «Они тоже сохранили свою жизнь. Сколько их там лежит, если не секрет, вы должны знать?»
Митя ответил: «Более двух тысяч человек. В лагере я с момента его организации». «Если бы они воевали, то, я уверен, многие из них были бы живы и еще увидели бы своих матерей, жен и детишек. При любых наступлениях, атаках убитые составляют менее 50 процентов от числа раненых». Здесь Митя меня перебил и со злобой сказал: «Тут ты здорово загибаешь и прикрашиваешь». Я, в свою очередь, спокойно сказал: «Лучше быть убитым в бою, чем умирать от голода, холода и нечеловеческих условий в концлагере».
Мельников дал понять кивком головы, что согласен, проговорил: «Мне пора» – и не спеша пошел на кухню. Выйдя на середину барака, громко сказал: «Сейчас условия жизни значительно изменились в лучшую сторону, и смертности в лагере не будет». Чей-то хриплый голос ему ответил: «Для вас, Митя, условия сменились, а для нас они остались прежние». Мельников прибавил шаг, не вышел, а выскочил из барака.
В 17 часов пригнали с работы, началась раздача ужина. Я встал в очередь к котлу, где раздавал Митя Мельников. Он мне зачерпнул одной гущи со дна, но добавки не прибавил, так как в дверях стоял комендант лагеря и внимательно наблюдал за раздачей.
Я принес в барак полученную порцию похлебки, половину съел, остаток поставил на нары. На душе скребли кошки.
Почти всех моих однополчан угнали в другой лагерь, а главное, Клокова, к которому я так был привязан. Друзей у меня никого не было.
Митя Мельников, мне казалось, напрашивался на дружбу с какими-то целями. Я мог строить разного рода догадки и предполагать. Обстановка была незнакомая, люди – чужие. Спрашивать у первого встречного, кто такой Митя Мельников, было неприлично, да и могли ему передать.
Одно было для меня ясно. Он добровольно сдался в плен. Устроен поваром. Снова мне вспомнился хриплый голос. «Все ясно, – пришел я к выводу. – Митя провокатор, ухо держать с ним надо востро».
После раздачи похлебки Мельников снова пришел ко мне. Спросил: «Не найдешь ли закурить?» У меня сохранилась еще целая пачка русской махорки, немного табаку и табачной пыли, что представляло большую ценность. Дал это все Клоков. Курить я бросил третий день, как это было ни тяжело, но при моем состоянии это было необходимо. Одна закрутка махорки и сигареты стоила дневной порции хлеба. Я дал Мите махорки на папиросу. Он прикурил и с удовольствием затянулся.
Выпуская клубы дыма изо рта и носа, Митя сказал: «Ты думаешь, я набиваюсь тебе с дружбой с какими-то целями, нет! Ты просто мне напоминаешь моего двоюродного брата. Сходство поразительное». У меня пронеслось в голове: «Он читает мои мысли». Митя продолжал: «Я ни с кем почти не дружу, но стараюсь кое-кому помогать остаться в живых. В условиях лагеря, где в течение семи месяцев остались в живых не более пяти-шести процентов, быть живым и здоровым сложно».
Судя по разговорам, Митя был начитанным человеком: «Немецкие конвоиры и коменданты лагеря, а они сменились пять раз, все действуют по выражению Гете: «Учитесь ненавидеть, уважать ненависть, любить злобу». Все это у них получается превосходно. Ненависти у них на нас хватает с лихвой. Кормят гнилой картошкой и дохлой кониной. Хлеба дают половину порции, установленной для военнопленных. Крупы, сахар, мясо, макаронные изделия и жиры, полученные для лагеря, отсылают посылками домой в Германию. Променивают населению на ценные вещи, на серебро и золото. Они рады, что люди умирают от голода и болезней. В течение всей зимы ни один человек из лагеря не мылся в бане, не менял белья, включая поваров и русское начальство лагеря. Ненависть они умеют уважать, а больше – любить злобу. До февраля вечером приходили в лагерь с березовыми и резиновыми палками и избивали каждого встречного. Избиение производили мадьяры, финны и эстонцы, а немцы кричали, смеялись и хлопали в ладоши. Эстонцы лагерь охраняют не очень давно, но отдельные из них ненавидят и уважают ненависть не хуже немцев. В любви злобы у них надо поучиться даже мадьярам». Митя тяжело вздохнул и докурил папиросу.
«Откуда вы знаете, что немцы воруют продукты военнопленных?» – спросил я. Митя посмотрел на меня черными, пронизывающими насквозь глазами, ответил: «Я несколько раз ездил в Новгород вместе с помощником коменданта получать продукты и видел, что получали и что поступало на кухню. Кроме того, я каждый день получаю со склада лагеря хлеб, траву вместо чая и так далее, поэтому вижу, что там есть. На складе и сейчас висит ветчина на один центнер, ее даже повара не видели, а сколько было мяса! Да что там говорить, только расстраиваться. Если бы все продукты поступали на лагерную кухню, многие лежавшие в братских могилах под деревянными крестами были бы живые, а может, и вернулись бы домой».
После откровенного разговора с Митей я понял, что он не провокатор, а просто хочет помочь.
Павел Меркулов появился в лагере вечером и сразу пришел ко мне на нары. Спросил: «Как дела?» Я ответил, что хорошо. «Пойдем, поговорим. Здесь не совсем удобно, могут подслушать».
Он привел меня в маленькую комнату, отгороженную в левом углу барака при входе. «Здесь мы живем втроем: врач Иван Иванович, русский комендант, точнее полицай, Иван Тимин и я».
В комнате стояли два деревянных топчана у стен и посредине наспех сколоченный деревянный столик с крестообразными ножками. Топчаны были застланы набитыми соломой грязными матрацами. На столе лежали книги классиков дореволюционной России, в основном на религиозные темы. В комнате никого не было, хотя она и была открыта.
Меркулов закрыл дверь на крючок изнутри. Подошел ко мне и крепко пожал мою правую руку. «Как я тебя увидел сегодня, целый день голова занята тобой. Я думал, обознался. Но сейчас вижу, что нет. Но ведь вас в селе Теребуц расстреляли. Я в это время был в лагере военнопленных и видел вас всех много раз, как водили на допрос, на кухню кормить и как повели стрелять. После этого автоматные очереди и крики».
Я ему коротко рассказал, как было в действительности. Меркулов задумчиво сказал: «О побеге немцы говорили, что сбежали два еврея, сильно ножом поранили часового венгра. Об этом больше ни слова». Я не сказал Меркулову о Гиммельштейне, так как я его почти не знал, и было подозрительно: он ходил без конвоя, значит, немцы ему доверяли.
Я спросил Меркулова, что представляет собой Митя Мельников. Павел улыбнулся, обнажив ровные белые зубы, сказал: «Повара народ болтливый».
«Я знаю, что он повар. Я спрашиваю о другом. Он не провокатор?» Меркулов на мгновение задумался, затем полушепотом сказал: «Не знаю, но мне кажется, что нет. Комендант и охрана лагеря уверены в победе. Они считают, что война будет окончена этим летом, поэтому не очень-то обращают внимание на военнопленных, о чем они думают и говорят, их не касается. Мне не так давно говорил мой шеф Сатанеску: «Иван Тимин жаловался коменданту в его присутствии. Он говорил, что Морозов и Шишкин ведут агитационную работу и хотят организовать побег». Комендант ответил: «Далеко не уйдут, поймают и расстреляют. Их агитация нам не страшна. Если им нравится, пусть болтают своими языками, сколько угодно. От нас никуда не скроются, мы их и в Америке догоним».
«Какая уверенность даже в мировом господстве этого невзрачного жалкого идиота с образиной человека», – сказал я. «Да, мечтают о мировом господстве, – ответил Меркулов, – но подавятся одной Россией». «Да, и в недалеком будущем».
Дверь с силой рванули, с потолка комнаты посыпался мусор и опилки. Меркулов открыл дверь, она раскрылась, в маленькую комнату ввалился врач Иван Иванович, он невнятно пробурчал: «Извините. Я вам помешал». Павел ответил: «Нет, нет, пожалуйста, проходите, садитесь».
Я сейчас только внимательно рассмотрел его. Это высокий тощий человек с небольшой округлой головой, напоминающей тыкву. С черными коротко стрижеными волосами, такими же бровями, с впалыми щеками. С небольшим прямым носом и маленьким ртом, красивыми серыми глазами. Голова на длинной тонкой шее поворачивалась с большой быстротой, что создавало впечатление неестественности. Мертвенно-бледная кожа лица и рук напоминала о загробном мире.
Меркулов представил ему меня: «Это мой фронтовой друг. Вместе воевали недолго, только два месяца». Иван Иванович бегло обвел меня взглядом и пробурчал себе под нос: «Знаком, мой больной номер один». «А почему номер один?», – снова спросил Меркулов. «Сегодня комендант лагеря интересовался, как раненый. Если рана грозит опасностью, то велел доложить, чтобы отправить в госпиталь». «С каких это пор начал проявлять заботу», – воскликнул Меркулов. «Нет, это не забота, – резко ответил Иван Иванович. – В госпиталях, которые можно назвать лагерями смерти, для раненых условия не лучше, чем здесь, медпомощи нет, всюду антисанитария. Он этим хочет доказать, что у них тоже существует Красный Крест.
Я предложил ему отправить четверых тяжелобольных, одного с раздавленным тазом, того москвича, что на днях попал под машину. Он отказал: «Их туда не примут». «Что же вы сказали про меня?» «Я сказал, что рана чистая и скоро зарубцуется. Есть небольшая контузия, но это быстро пройдет. Будет пригоден на работу через восемь-десять дней. Он сказал свое обычное "гут" и ушел».
Легкими рысьими шагами в комнату вошел Иван Тимин, полицай. Его называли русским комендантом. Невысокого роста, с пухлой красной рожей и опущенной аккуратной бородкой, длинными темно-русыми волосами. На одной голове этого прообраза человека волосы были двух цветов: борода рыжая, голова русая. На остальных частях тела было не видно, но волосы явно имели еще один цвет.
Тимин ласково вкрадчивым елейным голосом поприветствовал всех сидящих. Троекратно перекрестился, прошептал несколько слов молитвы, сел, устремив взгляд своих маленьких быстрых юрких глаз на меня. Снова елейным голосом спросил: «Где добрый молодец воевал и откуда сам?» Я только открыл рот для ответа, Меркулов меня опередил: «Это мой старый фронтовой друг. Такие встречи редки, но, как видите, бывают». «Очень приятно, очень приятно, Павел Васильевич, друзьям встречаться, но время-то какое. При такой встрече по русскому обычаю надо бы по рюмочке пропустить, но, увы, Господь Бог за наши тяжкие грехи сурово нас карает».
«Да брось ты со своими грехами, – перебил его Меркулов. – Лучше бы рассказал последние известия, что там свободные люди говорят?»
«Разное говорят, – снова послышался елейный голосок. – Немцы с уверенностью заявляют: к осени "русь капут". Эстонцы почти все придерживаются мнения немцев. Испанцы, их сейчас много квартирует в деревне Борки, из них многие стараются изучать русский язык, говорят, что немцам русских не победить, ссылаются на сомнения самих немцев. 1942 год будет переломным годом для победы русских. Но я этим цыганским племенам не верю. Отдельные из них заявляют, что они при первой возможности готовы перейти к русским, так как якобы они сами коммунисты».
В завершение он сказал, что победа будет без сомнения за немцами, война в августе кончится. После его слов наступила тишина. Первым проговорил Меркулов: «Мне нужно к шефу» – и, попрощавшись, мы с ним вышли. Он направился к выходу из барака, а я на свое место.
Спал я ночью очень крепко, проснулся от неприятных тревожных звуков удара железной палки о рельс. В деревнях такими звуками объявляют о пожаре и других несчастных случаях.
После сигнала «Подъем» пришел ко мне врач Иван Иванович, осведомился о здоровье, а затем спросил: «В лазарет не собираешься?» Я сказал: «Нет». «Так и доложу коменданту», – проговорил Иван Иванович, как призрак, исчез, но голос послышался уже у другого больного с таким же вопросом.
После получения завтрака пришел Павел Меркулов. Он принес ведро горячей воды с кухни и тазик. Заставил меня вымыться, сначала верхнюю часть тела до пояса, а спустя полчаса и нижнюю часть тела. Он обрил на моей голове волосы вокруг раны. Иван Иванович промыл рану доселе неизвестным мне лекарством и перевязал, используя старые бинты. Вымытый, с обработанной раной и дополна набитым желудком, я спал до прихода военнопленных с работы.
За получением похлебки я встал в очередь к повару Гришке. Когда подошла очередь, я близко к нему поставил неудобный котелок, сделанный из гильзы. Он его бросил на землю, замахнулся на меня для удара черпаком, но не ударил. Спас меня чей-то грубый голос: «Не трогай его, не видишь, что ранен».
Я поднял тяжелый котелок и поставил его на указанное им место. Он налил мне одного бульона, при этом зычно с татарским акцентом проговорил: «Морю голодом».
Вечером мимоходом зашел ко мне Митя Мельников, принес кусок хлеба и предупредил, чтобы я не становился больше к Хайруллину за получением обеда. Митя собрался уходить, как пришел Меркулов. Он сказал мне, что завтра обязательно надо выходить на работу, иначе комендант отправит меня в лагерь для раненых. «Я через своего шефа договорился с комендантом, выйдешь работать на кухню».
Я рассказал Меркулову, как повар Гришка грозился заморить меня голодом. Меркулов сказал: «Тебе нечего бояться Гришки, выполняй свои работы. Он трус и подхалим. Напомни ему, что ты поставлен самим комендантом лагеря для учебы поваром. Он все поймет, он подумает, что это ход конем под него». «Как думаешь, Митя?» – Меркулов обратился к Мельникову. Он мгновение помедлил и ответил: «Хайруллин Галимбай или Гришка неплохой парень, но очень раздражительный, нервный». Митя что-то еще хотел сказать, оглядываясь по сторонам, не подслушивает ли кто разговор, но Меркулов его перебил: «Не создавай ему авторитет, мы знаем, что он шкура». Затем, обращаясь ко мне, сказал: «Будешь работать у него, узнаешь». «Может быть, после увоза его друзей и личной охраны Ахмета и Мухаммеда, он понял, что такой же военнопленный, как и все», – тихо сказал Митя. «Ничего он не понял, – ответил Меркулов. – У него мозги вывернуты вверх тормашками. Это же спекулянт, не брезгующей кражей. Он сам говорит: до войны только и мечтал о деньгах, и если бы не война, то деньги были бы».
Павел намеревался подробнее рассказать о шеф-поваре Хайруллине Галимбае, как появился его брат Изъят. Увидев Митю, он тихонько сказал «Тебя просит зайти Гришка».
Мельников слез со второго этажа нар и скрылся за дощатыми дверями. Меркулов тоже собирался уходить, но я его остановил и спросил: «Не может быть, чтобы здесь не было шпионов и провокаторов, которые доносят коменданту обо всем». Меркулов тихо ответил: «Я тебе уже говорил, что комендант и его помощник в этом не нуждаются и ни на что не обращают внимания. Это люди недалекие, тупо верят в победу. Военнопленных считают за скот, не способный мыслить. А сейчас пора», – поднялся и ушел.






