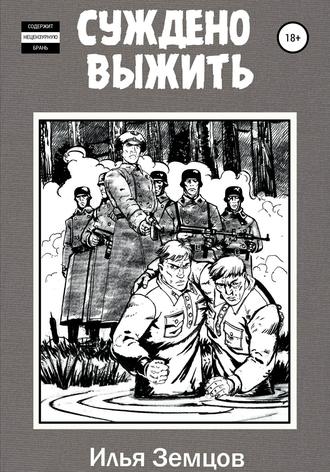
Илья Александрович Земцов
Суждено выжить
Как правило, пока одни человеческие умы направлены на порабощение других народов, другие, как в Советском Союзе, на оборону и изгнание врага за пределы родины. Нельзя всех немцев отнести к фашистам. Среди них есть немало честных людей, и воюют они только потому, что их заставляют. Изобретают оружие, делают оружие, потому что это их работа и кусок хлеба. Но большинство из них поверило, как в святыню, в мировое господство и единственную чистую немецкую расу, которая создана самим богом для мирового господства. Они превратились в деспотов и палачей. Среди них я знаю когда-то умных ученых, подававших надежды на большие успехи, сейчас они облачены в офицерские и генеральские мундиры. Забыли даже свое человеческое обличие. Превратились в кровожадных тигров и пантер».
В кабине дышать стало нечем, несмотря на открытые дверные стекла. Жар и чад от горевшего масла в перегревшемся моторе проходил через кабину. Автомашина без ведома шофера остановилась, так как мотор сильно перегрелся. Я выскочил наружу и открыл капот. Из горловины картера валил клубом дым, как из паровозной трубы, а из горловины радиатора, я не успел повернуть пробку, как вышибло ее из моих рук, повалил пар. К счастью, не обожгло ни лица, ни рук.
Наш конвоир сидел в кузове, смотрел бессмысленным взглядом выцветших глаз то на меня, то на пар и дым и кричал во все горло: «Мосье, ты круглый дурак», чередуя слова с вульгарными немецкими ругательствами.
Мирошников вылез из машины, невнятно огрызнулся конвоиру и подошел ко мне. Конвоир кричал и ругался, но Мирошников показал ему увесистый кулак и спокойно сказал: «Ты замолчишь или нет?» На конвоира это подействовало, он плотно прижал винтовку к своему телу, перестал возмущаться. Мирошников спросил меня: «Ну, что будем делать?» Я ответил: «Первое – нужно найти воды и залить ее в радиатор, второе – проверить уровень масла в картере и долить, третье – отрегулировать зажигание и найти причину неработы одного цилиндра. Воду и масло берите вы на себя, а остальное попробую впервые в жизни я».
Мирошников принес воды и залил. Автола у него была полная жестяная банка – долил до уровня. Я не знаю, может быть и у меня бы получилось, но остановился любопытный русский военнопленный шофер, в течение пяти минут отрегулировал зажигание, устранил все неисправности мотора и завел. До лагеря мы доехали без всяких приключений. Разгрузили хлеб.
Я, рискуя жизнью, понес в лагерь наган и патроны. На посту стоял Ян Миллер. Эстонец по-русски говорил слабо, но все обиходные слова знал. Он никогда никого не подозревал и никого не обыскивал. При входе в лагерь настроение у него всегда было веселое, так как при встрече и разговоре с немцем, русским или эстонцем лицо его расплывалось в равнодушной улыбке. Долг часового он исполнял строго. Безропотно подчинялся начальству, то есть был службист.
Наган и патроны я тщательно завернул тряпками толстым слоем и зарыл в землю в кухонном сарае. Не успел еще выровнять и замаскировать поверхность почвы, в кухонный сарай вошел фельдфебель комвзвода патрульной охраны пленных на работе и в пути следования. Он считал себя чистым арийцем, но, судя по фамилии, был славянского происхождения. Внешний вид его тоже напоминал больше поляка, чем немца. Звали его Гельмут Комаровский. Его сопровождал комендант Кельбах. Он внимательно, уже не в первый раз, осмотрел кухонный сарай и его примитивное оборудование. Щелкнул фотоаппаратом. Запечатлел на пленку непобеленные закопченные котлы и печи, на фоне которых и я попал в объектив. Комендант лагеря Кельбах показал на меня взглядом Комаровскому и сказал: «Пригнали его в лагерь всего обмотанного бинтами, грязного, худого. Я думал, более суток не проживет. Внимательнее посмотри, выглядит слишком бледновато, но выздоровел, раны заросли и, главное, бодр. А еще эти свиньи жалуются, что в лагере плохо. На днях в одном из выкопанных котлованов сделали баню, завтра пустим в эксплуатацию. Привезли из Бельгии солдатское обмундирование, шинели, солдатские костюмы и даже белье. Приказано все выдать этим грязнулям и оборванцам. Я бы лично не дал, но приказ есть приказ, и надо его выполнять».
«Простите, что я вас перебил, – сказал Комаровский, – но с чем это все связано, то уничтожали целые лагеря, например, в Луге было 25 тысяч человек, осталось не более тысячи, и это повсюду. Я здесь уже в пятом концлагере. Во всех лагерях все построено было, чтобы все умирали, и вдруг перемена».
Кельбах не нашелся сразу, что ответить, подумал и сказал: «Мне кажется, это только для прифронтовых лагерей предложено улучшить условия. Сюда русская разведка проникает, а правительство коммунистов шумит на весь мир, что мы палачи. Кроме того, уничтожают всех немцев, попавших в плен. Войны без плена не бывает, поэтому и немцев немало в плену в России. Самое главное, в случае побега всегда по бельгийской форме можно узнать, что это военнопленный. А без формы иногда трудно доказать, из лагеря он убежал или от коммунистов сбежал, сдался в плен».
Разговор их прервал вошедший в кухонный сарай переводчик Юзеф Выхос. Он поприветствовал обоих немцев словами «Хайль Гитлер». Затем попросил разрешения уйти из лагеря на допрос в полицию. Я понял, что Выхос обслуживает в роли переводчика и полицию. Выход из лагеря Кельбах ему разрешил и дал пропуск. Юзеф Выхос ушел, и интересный разговор между двумя немцами прекратился.
Комаровский попросил Кельбаха вывести меня из лагеря, а для какой цели, я не понял. Комаровский, путая русские слова с немецкими в предложениях, сказал мне: «Пойдешь со мной». Я подумал, что берет он меня на работу на кухню или на погрузку и разгрузку.
Мы вышли из лагеря, на посту все еще стоял Ян Миллер. Он за безделушки и хлеб подменял многих эстонцев. От лагеря пошли в противоположном направлении от деревни Борки. Миновали совхозную баню, где я помогал банщику два раза накачать воды ручным насосом, затем подошли к железнодорожному зданию, окрашенному в желтый цвет. Все окна были выбиты, однако на дверях висели здоровенные замки.
Комаровский шел чуть впереди. Его объемистая фигура рабочего происхождения чуть покачивалась. Шагал он легко, ногу при каждом шаге ставил осторожно, как бы боясь споткнуться. Во всей его фигуре чувствовалась физическая сила. Лицо было изрыто густой сложной сетью ранних морщин. Длинные жилистые руки при ходьбе висели, как плети. Солдатского в нем не было ничего.
Мы вошли на полотно железной дороги и направились к разрушенному железнодорожному мосту через реку Веронда. За рекой и мостом был виден сплошной лес. С большой нежностью смотрел я туда и думал: «Как бы хорошо быть сейчас в лесу, свободным, по принципу: «Закон – тайга, прокурор – медведь». Комаровский прочитал мои мысли или по выражению лица определил, а может, по моему жалкому виду и спросил: «Мечтаешь о свободе?» Я ответил по-немецки: «Нет на свете живого создания, которое не любило бы свободу».
Мы с ним свободно говорили на все темы, так как он знал много русских слов, в свою очередь, в моей голове прочно держалось до 500 немецких слов. Ежедневно я прислушивался к разговорной немецкой речи, и запас слов в памяти пополнялся с каждым днем. Сначала мы с ним говорили об окружающем – о поле, железной дороге, лесе. Он подбирал нужные русские слова, а я немецкие, и у нас получалось очень легко.
Не доходя до моста 100 метров, Комаровский остановился и сказал: «Дальше нельзя ходить». Несколько помолчав, спросил: «Как думаешь, кто победит в войне?» Я не ожидал такого прямого вопроса, поэтому, не задумываясь, сказал: «Не знаю».
«Вот ты согласился бы пойти добровольно в немецкую армию и воевать против своих?» – снова спросил Комаровский. Я ответил: «Нет!» «А почему?» – последовал вопрос. «Я не хочу убивать своего отца и братьев». «У тебя на войне отец и братья?» – спросил Комаровский. «Да, – ответил я. – Три брата, отец, два зятя, два племянника и пятнадцать двоюродных братьев на войне». «О, ты богат, – ответил Комаровский, улыбаясь, – а все-таки, почему не хочешь вступить в немецкую армию? В войне на территории России участвуют более 30 миллионов человек. Поэтому со своей родней ты не встретишься. Такие случаи исключены по теории вероятности».
Подбирая нужные слова, я ответил: «Любой русский, будь он из Перми, Омска, Владивостока, он мне свой – друг и брат. У нас с ним один язык, одни нравы и одни обычаи».
Я еще хотел сказать, но Комаровский меня перебил: «Если ты не хочешь воевать с русскими, тебя могут направить по желанию в Индонезию, Францию, Югославию, где ты заменишь немецкого солдата». «Никогда в жизни, пусть я лучше умру, но не вступлю в немецкую армию». Я показал рукой на хорошо видимые кресты на лагерном кладбище. В горле у меня пересохло, и я выдавил из себя: «За что более двух тысяч человек умерщвлены в течение зимы? Что плохого вам эти люди сделали? У них у всех семьи: отцы, матери, жены, ребятишки. По ним по всем льются слезы».
Комаровский снова меня перебил: «А если немецкая армия победит Россию и воевать будет с Америкой, тогда вступил бы в немецкую армию?» Я ему ответил, что если немцы победят – тогда видно будет. «Ты не уверен в победе немецкой армии?» – спросил Комаровский. «Да, я не уверен, и, несмотря на наши неудачи, русские не поддаются немцам».
«Ты слишком откровенен. Я тебе плохого не желаю, но будь осторожен. При немцах держи язык на привязи. Иначе такие разговоры кончаются плохо».
Я почувствовал прилив крови к лицу и, несколько волнуясь, сказал: «Вы же меня сами вызвали на откровенный разговор». Комаровский улыбнулся и сказал: «Спасибо за откровенность».
Мы медленно возвращались в лагерь, говорили уже только с целью изучения языка. Зачем он меня водил целых три часа, что он от меня хотел, я не знаю. Когда подошли к лагерю, он на прощание подал мне руку.
Глава двадцатая
Красиво июньское утро на древней новгородской земле. Деревья одеты в светло-зеленый молодой убор. Вся поверхность земли покрыта ярко-зеленым покрывалом. Везде цветы: синие, белые, голубые, красные. Яркие, бледные, обыкновенные. Природа наделила их всеми цветами радуги в различных сочетаниях. Воздух наполнен щебетанием птиц и соловьиными трелями. Все жило, все радовалось. Органы обоняния ловили запахи тонких ароматов цветов и меда. Несмотря на истощение и вечно пустой желудок, сердце наполнялось необъяснимой радостью. Хотелось, как птице, быть свободным, летать в поднебесье, искать необъяснимый мир счастья и любви. Это утро сохранилось в моей памяти. Ночь я спал в кухонном сарае. С 3 часов кипятил воду, начиная с 6-ти через каждые десять минут выходил из кухонного сарая и ждал Комаровского.
Я ждал от него чего-то таинственного, помощи для побега. Мне казалось, что при вчерашней прогулке он что-то хотел мне сказать и не сказал. Я думал, что сегодня он обязательно скажет.
В 7 часов в лагерь пришли комендант Кельбах со своим помощником Шнейдером в сопровождении целого взвода немецких конвоиров. Среди них был и Комаровский. Он не только на меня, а даже в сторону, где я стоял, не взглянул.
С большой спешкой был объявлен досрочный завтрак. После короткого завтрака в стоячем положении все, кто мог чуть-чуть передвигаться, были выгнаны из барака. Пригодные к труду тут же были отправлены на дорожные работы. Больные, повара и весь обслуживающий персонал, включая переводчика и полицая, были выстроены.
В лагере остались двое: я и москвич Шилин Иван, у которого был раздавлен таз, по нему проехала немецкая автомашина. Ходить он совсем не мог и лежал без движения, ожидая смерти. Я лежал в забытьи после ночного дежурства на деревянном топчане в кухонном сарае. Топчан нам служил столом для разделки продуктов, скамейкой для сидения, а в ночное время кроватью.
Очнулся от немецких криков и ругани. Посмотрел в щель в стене. Из лагеря угоняли всех. Вблизи лагеря толпилось до сотни немцев и эстонцев, ожидая чего-то. Чтобы не обращать на себя внимания, я спрятался за печку, так как комендант Кельбах выходил из барака и внимательно осматривал территорию всего лагеря, ища чего-то. На крик офицера «Всех отправил?» он ответил, что в лагере остался только один больной с раздавленным тазом. Он лежит без движения и, по-видимому, если не сегодня, то завтра отправится на тот свет.
Послышался шум моторов автомашин. К лагерю подъехали, судя по звукам две. Моторы заглохли, и наступила тишина.
Кельбах быстро убежал с территории лагеря. Я вылез из своего убежища и подошел к дощатой стене сарая с множеством больших и маленьких сквозных щелей. Найдя удобное отверстие для глаз, я увидел две автомашины, нагруженные стоймя людьми: мужчинами, женщинами и детьми. На всех, кроме детей, были надеты наручники. Началась разгрузка живого товара с автомашин. Эстонцы помогали детям и женщинам. Немцы кричали: «Скорей, скорей». Немецкие овчарки выли, предчувствуя что-то недоброе. Но люди не спеша вылезали из кузова, в недоумении озираясь по сторонам. Большинство были цыгане. Они, как стадо баранов, сгрудились плотно в одну кучу. Из кузова вылезли, помогая друг другу, восемь русских парней в военной форме. Среди них трое были ранены – двое в ноги и у одного была на привязи рука. Они встали чуть поодаль от сгрудившихся цыган. Затарахтели моторы, и автомашины, медленно разворачиваясь, обдавая пылью и газом всех стоявших, ушли в направлении деревни Борки.
Всех привезенных в окружении немцев и эстонцев погнали к объемистому котловану. Я перешел к другой стене кухонного сарая, отыскивая удобную щель для глаз. Котлован был вырыт рядом с лагерной стеной из трех рядов колючей проволоки и не более 4 метров от кухонного сарая. От противоположного края котлована до колючей проволоки полукольцом плотно стояли немцы. Восемнадцать эстонцев были выстроены параллельно краю котлована шеренгой по одному в 8-10 метрах, держа наперевес винтовки, как бы готовясь в атаку. Подгоняемая толпа цыган была остановлена в 20 метрах от котлована, только русские военные, поддерживая раненых товарищей, подошли вплотную к котловану, остановились на краю и повернулись лицом к палачам. Дальше путь был прегражден навечно. Двое раненых в ноги, охватив шеи товарищей, висели на них. Эстонец Клехлер, отменно владевший русским и немецким языками, выступая в роли переводчика, крикнул повернуться спиной.
В ответ послышалось: «Стреляйте, палачи. Прощай, Россия, прощай, Москва. От расплаты вы не уйдете».
Время шло томительно медленно. Стоявшие на краю котлована после выкриков запели "Варяга", но, не окончив первого куплета, раздалась команда: «Пли».
Нечеткий протяжный залп из 18 винтовок, и пять человек упало, двое остались лежать на краю, трое свалились в котлован. Еще залп, и упали остальные трое. Только после двух залпов цыгане поняли, куда их привезли, и подняли страшный, дикий разноголосый рев, оглашая окрестности на несколько километров.
Это зрелище было настолько потрясающим, что в первую минуту немцы и эстонцы стояли, как под гипнозом. Эстонец Ян Миллер бросил винтовку, протиснулся сквозь ряды немцев, заткнул пальцами уши, усердно работая на первый взгляд длинными непослушными ногами, быстро побежал по направлению к дому, где жила охрана, в одно мгновение скрылся там. Немецкий подполковник выхватил пистолет и хотел выстрелить в убегающего Яна, но вовремя подоспевший начальник охраны, эстонец, что-то крикнул, а затем с улыбкой что-то сказал. Подполковник тоже улыбнулся. Пистолет вложил в кобуру и приказал бросить тела в котлован и вести следующую партию.
Добровольно вышли и встали на край ямы мужчины-цыгане, более 20 человек разных возрастов, среди них стояли две молодые цыганки.
Душераздирающий рев цыганок и детей не стихал, набирая новые обороты, усиливался. Снова послышался бас Клехлера повернуться спиной к стреляющим. Вместо исполнения команды от цыган послышались проклятия в адрес немцев на русском и цыганском языках. Из-за криков и воя цыганят и цыганок голоса начальника охраны не было слышно. Поэтому он махнул рукой, и раздался залп. После каждого залпа часть цыган падала, а многие оставались стоять, и лишь после пятого упали и свалились в котлован последние два цыгана.
У стреляющих эстонцев дрожали не только руки, но и ноги. Цыганки и дети не подходили добровольно к котловану. Немцы их хватали и тащили, они сопротивлялись, кусались и царапались, хватались цепкими руками за одежду немцев. Все сопровождалось неописуемым визгом и ревом.
Притащенные к краю котлована дети и женщины бежали обратно за немцами. Эстонцы стрелять были не способны и почти в упор не попадали, мазали. Офицеры нервничали. Эстонцы были удалены немцами или сами, не выдержав, ушли и встали в полукольцо заграждения позади немцев. Озверевшие немецкие офицеры во главе с подполковником и трое солдат хватали цыганок и цыганят, тащили к котловану, живыми кидали на трупы мужей, сыновей, отцов и братьев и из автоматов расстреливали уже в котловане.
Маленькая черноглазая кудрявая девочка в возрасте 2,5-3 лет, понимая своим детским умом творившееся, крепко схватила маленькими ручонками, по-видимому, братишку, чуть больше ее. Они вместе подошли к подполковнику, понимая, что он начальник, и схватили ручонками за брюки. Подполковник сначала брезгливо отвернулся, затем начищенным до зеркального блеска сапогом пнул безвинных детишек, которые с криком упали. Длинный сутулый солдат с лицом гориллы схватил обоих, мальчика и девочку, за воротники платья и рубашки, поднял их и на вытянутых руках донес до котлована, бросил на тела отца и матери. Следовавший за ними подполковник из пистолета пристрелил обоих.
Это зрелище потрясающе действовало не только на меня, но и на эстонцев и немцев. Многие солдаты, несмотря на окрики офицеров, затыкали уши и отворачивались.
Вот подтащили к котловану последнюю старуху-цыганку, у нее с перепугу от нервного потрясения отнялись ноги, ее положили на край котлована. Она молча лежала на сырой земле, черными пронизывающими глазами смотрела на немцев. Раздалась автоматная очередь, старуха вытянула вперед руки, как бы собираясь встать, затем вытянула ноги. Два немца тяжелыми коваными сапогами столкнули ее тело в котлован.
Отбой – работа окончена. Немцы и эстонцы как по команде вытащили портсигары и закурили. Слышался сдержанный тихий разговор на немецком и эстонском языках.
«Почему они не расходятся», – думал я. Значит, ждут еще кого-нибудь. Но вот в руках эстонцев и немцев появились лопаты, в котлован повалилась земля, навечно прикрывая трупы. В течение половины часа усердно работали лопатами 20 человек, а затем все ушли.
Наступила гнетущая тишина с запахом крови и порохового дыма. Опасаться было некого, стоял на посту у лагеря один часовой.
Я вышел из кухонного сарая и подошел к будке часового, которого от меня отделяла трехрядная колючая проволока. На посту стоял молодой эстонец Лехтмец. Он отлично говорил по-русски, пел русские песни и прекрасно играл на губной гармошке.
Он стоял ко мне спиной, о чем-то глубоко задумавшись. Я тихонько поприветствовал его. Он вздрогнул всем телом и повернулся ко мне лицом. «Ох, как напугал», – проговорил он медленно. Затем уже более резким голосом спросил: «Как вы здесь оказались, ведь сегодня утром всех увели из лагеря?» Я ответил, ночь дежурил, а утром уснул и ничего не слышал, когда всех угоняли. Он снова спросил меня: «Вы все видели? Как это ужасно».
Я утвердительно ответил и спросил: «За какие грехи такие муки?» Он глубоко вздохнул, ответил: «Все это ужасно, а за что стреляли – не знаю. Якобы цыгане перерубили телефонный кабель, соединяющий чуть ли не с Берлином».
Он разрешил мне выйти из лагеря, угостил сигаретой. Я подошел к котловану, все трупы были засыпаны тонким слоем земли, из-под которой местами были видны части одежды. Там, где люди ожидали вызова на казнь, я подобрал два шелковых кисета с самосадом и вернулся обратно в лагерь. На сердце у меня была тоска. Перед глазами стояли то русские солдаты, то цыгане, принявшие смерть как должное. С воспоминаниями о женщинах и детях появлялась головная боль, и учащенно билось сердце.
В лагерь первыми вернулись переводчик Юзеф Выхос, обер кох Гришка с братом Яшкой, Митя Мельников, врач Иван Иванович и комендант Иван Тимин. Следом за ними пришли и все больные. Все были потрясены и с усталым видом. Митя Мельников спросил меня: «Ты остался здесь?» «Да». «Ты все видел?» Я утвердительно кивнул головой.
«Мы видели, как их везли на машинах. Среди них было много женщин и детей. Нас загнали в гараж, и, чтобы ничего не было слышно, завели трактор. Трактор тарахтит и сейчас».
В лагерь раньше обычного пригнали с работы две группы военнопленных – человек 50. Привезли на лошади лопаты. Работа закипела под однообразные крики немцев и эстонцев. Они как бы спешили спрятать свои злодеяния от ярко светившего июньского солнца, от ветра, облаков и глаз людей.
Я тоже кидал рыхлую землю в котлован, не ощущая в руках лопаты. Земля в котловане, как при землетрясении, то поднималась, то опускалась. Среди растерзанных жертв многие были, по-видимому, живые, но тяжелораненые, а сейчас задыхались под толстым слоем земли. Люди с ужасом смотрели на дышавшую могилу. Котлован с погребенными людьми сравнялся с поверхностью земли, затем появилась конусообразная как бы дышавшая живая горка. Работа закончена. Люди шли в лагерь в глубокой задумчивости и трауре.






