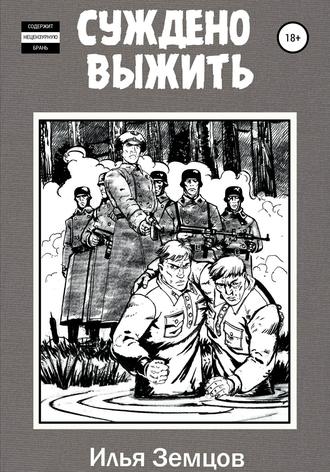
Илья Александрович Земцов
Суждено выжить
Мы вошли в Борки и завернули за первый дом в направлении Шимска. Скрылись от глаз наблюдательного фельдфебеля. Леньку заинтересовало и напугало наблюдение фельдфебеля, он вернулся и из-за угла дома взглянул, стоит ли он. Фельдфебеля не было, он ушел в мастерскую. Я не хотел раззадорить Леньку, но сказал: «Твоя излишняя неосторожность и чрезмерная храбрость до хорошего не доведут. Незачем было заходить в избу». Ленька побагровел, ни слова не говоря, сдал меня патрулю, стоявшему на перекрестке дорог, проверяющему документы у всех прохожих и быстро ушел в оружейную мастерскую немцев, найдя неисправности у винтовки.
Я попросил разрешения у неразговорчивого, надутого, как индюка, немца сесть рядом с кюветом, на покрытую толстым слоем пыли лужайку. Немец в знак согласия кивнул мне.
Ленька ходил недолго, вернулся в хорошем настроении. Поблагодарил немца за охрану меня на двух языках: эстонском и русском. Немец ни одного слова не понял.
Мы с Ленькой снова пошли пыльной обочиной дороги в хутор, что по ту сторону реки. Навстречу двигались редкие немецкие автомашины и испанские двуколки, запряженные парами тощих лошадей.
В хутор можно было пройти по мостам шоссейной или железной дороги. На обоих мостах стояла охрана. Река была шириной не более 30 метров, но у самых берегов была глубокой.
Мы с Ленькой выбрали мост шоссейной дороги. Охранявший его солдат потребовал пропуск. Ленька предъявил документы, и мы снова пошли по шоссейной дороге, а затем свернули к одинокому дачному домику, стоящему на высоком берегу реки и опоясанному с трех сторон лесом. По дороге Ленька рассказал, что возвращался в избу, где немцы ремонтируют оружие, обменял у фельдфебеля свою винтовку. Он видел там не только винтовки, но и автоматы и пулеметы.
Не доходя 20 метров до дома, встретил нас рослый старик с опрятной небольшой бородой, изредка украшенной седыми волосами. Широкое скуластое лицо и серые большие глаза как-то по-особому располагающе притягивали к себе. Ленька напросился войти в дом. Дед басом ответил: «Добро пожаловать» – и распахнул дверь сеней и избы. Мы вошли. На стенах в больших самодельных рамках грубой работы висели фотографии. Ленька без стеснения стал разглядывать свежие и пожелтевшие от времени фотокарточки и задавать деду вопросы. «Это сын, это тоже…» – дед охотно отвечал на Ленькины вопросы. Он, глубоко вздохнув, сказал: «В армии у меня два сына, один летчик, другой – ветврач. От обоих с первого дня войны ни одного письма. Третий сын учился в Тимирязевской академии в Москве на втором курсе, тоже нет ни одного письма от него».
Ленька с дедом разговаривали на разные темы, я молчал. Видя мою застенчивость, дед спросил: «Давно в плену?» Я ответил: «Три месяца». «Где взяли или сам сдался?» – уже более мягко спросил дед. Я ответил, посмотрев искоса на Леньку: «Закон солдата биться до последнего патрона. Лучше смерть, чем плен, но! Бывает и но».
У деда лукаво блеснули глаза, он улыбнулся и проговорил: «Раненого что ли подобрали?» «Нет, – хмуро ответил я, – контуженого». По выражению лица деда я прочитал его мысли. Он думал, знаем мы вас, меня не проведешь. Он нас с Ленькой принял за полицаев, а может быть и хуже. Все разговоры с Ленькой сводил на хвальбу немцев и их порядков. По напыщенному тону его слов можно было понять – на душе у него другое. Дед угостил нас свежей картошкой с малосольными огурцами и травяными лепешками.
По возвращению в лагерь уже по знакомой дороге Ленька мне в третий раз рассказал свою биографию и сказал: «Считай меня другом. Всегда выручу» – и подал мне руку.
Я поблагодарил его за дружбу, не заслуженную мной, и спросил: «А если придумаю бежать и не один – выпустишь из лагеря?»
Ленька, не задумываясь, ответил: «Всегда при первом удобном случае. Я бы и сам с вами ушел, но боюсь одного, что наши мне не простят службу в эстонском легионе». Советовать ему что-либо подобное я боялся, так как он мог быть и провокатором. Я ему сказал: «Ты хороший, наш парень, плохого никому из узников не делал, поэтому бояться наших тебе не следует».
Ленька мотал головой и говорил: «Я больше твоего знаю. Если не расстрел, то вся молодость в тюрьме». Я тоже подумал: «Ленька прав, его немцы втащили принудительно в безвыходное положение. Появись он у наших, пощады не жди».
Так мы, обмениваясь редкими словами, каждый думая о своем, дошли до лагеря. Ленька довел меня до проходной в лагерь, перекинулся десятком непонятных мне эстонских слов со стоявшим на посту Лехтмецем, неторопливо пошел в свою казарму.
На следующее утро уже стала ощущаться августовская прохлада. Серебристые капельки росы стали дольше держаться на траве. Прохлада и сырость реки чувствовалась в лагере.
В 6 часов утра к лагерю подъехал Мирошников. На шум автомашины я вышел из кухонного сарая, где мы с Митей Мельниковым кипятили воду. Мирошников крикнул: «На ловца и зверь бежит, я договорился с комендантом забрать тебя на должность грузчика». Он попросил у часового разрешения выпустить меня из лагеря. Стоявший на посту Клехлер мотнул головой в знак согласия, а мне крикнул: «Выходи».
Я сел в нагретую от мотора кабину, и мы не спеша поехали.
Мирошников первый спросил: «Разведал оружие?» «Да», – ответил я и показал рукой на полуразрушенную избу, рядом с которой проезжали. «Не может быть, – улыбаясь, загадочно сказал Мирошников, а потом серьезно добавил, – восемь винтовок, два автомата, два цинка патрон и двадцать штук русских гранат-лимонок лежат рядом с полотном железной дороги, спрятаны под лежащий на боку вагон под откосом за баней в километре от лагеря. Там же, в другом конце вагона, найдете немного продуктов».
Я крепко пожал Мирошникову запястье правой руки, лежавшей на руле, и сказал: «Спасибо. Как удалось?»
Мирошников ответил: «Ни о чем не спрашивай, я тоже русский, и Россия мне так же дорога, как тебе и любому другому русскому, любящему Родину».
Он подъехал к дому, служащему складом, и проговорил: «Помоги забросить в машину ящики, наполненные пустыми грубыми немецкими мешками и порожними бутылками, я отвезу тебя обратно в лагерь».
Мы с ним быстро нагрузили кузов, я подавал, он укладывал. Снова сели в тесную кабину и поехали. По дороге к лагерю он сказал мне только несколько слов. «При случае вспомни меня добрым словом, как русского отщепенца. Желаю успеха в намеченном. Дай вам господи дойти до своего дома, до своих родных». Он крепко пожал мне руку. С ревом развернул автомашину, уехал, оставив за собой столб пыли.
Вечером в лагерь пришел Павел Меркулов, он жил в одной комнате с Сатанеску. Я сказал ему, что решил бежать при первом удобном случае, а с кем из осторожности не сказал. Павел начал отговаривать, говорил, что рано, сначала надо наладить связи с надежными людьми и пробираться в леса в верховье Шелони к партизанам. «Линию фронта, не зная расположения немцев, переходить сейчас опасно, это верный провал и гибель».
Он говорил, что у него эти связи начинают налаживаться. Я ответил: «Прошу дать добрый совет и наставления, на днях убегу». Павел задумчиво полушепотом сказал: «Если доведется по заданию или по своему хотению быть здесь, ясно нелегально, связь держите через мою сестру Аню. Пароль: «Мы из Сергово. Нет ли продажной соли». Живет она в школе, знаешь где. Скромную помощь и интересующие вас сведения получите через нее. Если решено, ни пуха ни пера. Мне бежать запрещено, – как-то загадочно сказал он. – Самое главное – при любых неприятностях не паникуйте». Уходя из лагеря, он сказал: «Давай простимся, может быть, больше не увидимся». Мы ушли в крайнюю пустую комнату и поцеловались, крепко пожав друг другу руки.
Вечером все готовящиеся к побегу собрались вместе. Для отвлечения наблюдательных взглядов любопытных начали торговлю вещами. Нас было восемь: Темляков Павел, Лалетин Иван, Лалетин Алексей, Шишкин Виктор, Смирнов Толя, Морозов Саша, Егор и я.
Мы все стояли в темном, слабоосвещенном углу барака, в котором до войны жили коровы. Разговор был короткий, я сказал, что для побега все готово, нужно быть готовым к нему в любое время. Старшим единогласно был избран Егор. Приняли клятвенную присягу не выдавать друг друга, если кто-то из нас окажется в лапах палачей. Лучше смерть, чем предательство и трусость.
Когда к нам подходило много любопытных, тогда мы торговались. Морозов Саша подходил к непрошеному гостю, брал за плечи и говорил: «А ну поворачивай и шагай». В лагере его все боялись, поэтому без лишних слов уходили. Побег усложнялся. Все работали не в одно время и в разных местах. Егор и Темляков Павел – на электростанции, притом в разные смены. Братья Лалетины и Шишкин Виктор – на дороге. Смирнов Толя – в похоронной команде, Морозов – в гараже. Я был прикован к лагерю и все время находился под наблюдением не только немцев и эстонцев, но и своих лагерных шпионов. Поэтому побег был возможен только из лагеря, а не с работы. После побега группы Петра, Мити Санникова и Салема лагерь стал охраняться бдительнее. По ночам вместо двух часовых стали дежурить трое. Часовые ночью менялись через каждые два часа. Днем, как правило, стоял один и менялся через четыре часа. Побег днем из лагеря был невозможен, поэтому бежать нужно было только ночью при первом удобном случае.
Мне как постоянному обитателю лагеря, знающему всю охрану, было поручено следить за часовыми и точно установить смены караулов.
В тот же вечер я приступил к выполнению поручения. Дождался ночного дежурства Леньки, на посты пришло сразу трое. Я подошел к Леньке, стоявшему у проходной, и попросил у него оставить докурить. Тот нарочито громко обозвал меня свиньей, сунул окурок сигареты сквозь проволоку. Полушепотом сказал: «Завтра дежурю с десяти утра» – и тут же крикнул: «А ну, пошел отсюда». Я ушел в кухонный сарай и лег спать. Ленька пришел на пост ровно в 10 часов. Он разрешил выйти с территории лагеря к его будке, посмотрел по сторонам и почти шепотом сказал: «Если готовы, сегодня ночью бегите. Двое приехали из отпуска из Эстонии, привезли много спирта. Пьянка уже началась. Не подают пока Яну Миллеру и Кулаку, их готовят ночью на посты вместе со мной».
Я сказал Леньке, что дежурство Кулака, этого белого эмигранта, так ненавидевшего советскую власть и всех русских, не предвещает ничего хорошего. Ленька, улыбнувшись, сказал: «Я постараюсь ему вечером стаканчик подать, а там видно будет. Будьте на боевом взводе, а ты не выходи из кухонного сарая весь вечер и ночь».
День в ожидании ночи тянулся медленно. Я сложил все съедобные припасы в вещевой мешок, который спрятал в дровах кухонного сарая. По возвращении с работы всем ребятам было объявлено быть готовыми.
Вечером лагерь посетили высокие немецкие особы. Они интересовались бытом лагеря. Поблагодарили коменданта Кельбаха за хорошие условия, созданные для русских. На прощание сказали: «У коммунистов условия намного хуже, чем в плену».
Переводчик Юзеф Выхос увивался около них, как экскурсовод в музее перед иностранцами. Одна особа со слащавым бархатным лицом, в очках в золотой оправе сказала Кельбаху: «Надо подобрать из числа этих свиней более разумных. Создать им настоящие человеческие условия. Они помогут нашей доблестной армии освободить Россию от коммунистов и от самих себя».
Военнопленных построили по зову переводчика Выхоса в широком коридоре лагерного барака, одна особа отлично, почти без акцента заговорила по-русски: «Господа, из вас большинство пришло в плен добровольно. Вы сдались потому, что ненавидите коммунистов и советский строй. Мнения немцев с вами сходятся. Поэтому давайте общими силами вместе с доблестной германской армией будем свергать власть коммунистов и строить новую хорошую жизнь для русского народа». Он говорил долго, любуясь своим красноречием. Люди слушали его внимательно, затаив дыхание, иначе было нельзя.
Когда он окончил свою речь, смелый и дерзкий на язык Митя Мельников, выйдя вперед всех, сказал: «Простите за дерзость, господин офицер. Откуда вы отлично знаете русский язык?» Немец пренебрежительно кинул свой взгляд на Митю и, подбирая с растяжкой слова, сказал: «Если вас так интересует мое прошлое, могу ответить. Я русский по родине, по крови немец. Россия мне так же дорога, как и вам. Родился я в Петербурге в семье видного царского генерала, верного стража и друга его императорского величества. Так что здесь я вам не враг, а ваш соотечественник, земляк и старший товарищ, несмотря на то, что в жилах у меня течет чистая арийская кровь. Люблю я Россию и люблю трудолюбивых русских людей. Я окончил Петербургский университет. В России у меня было много друзей и однокашников по университету. Петербург будет скоро освобожден, и я буду в нем».
Он хвалился непобедимостью немецкой армии, скорой победой немцев. Под конец предложил военнопленным добровольно вступить в немецкую армию.
«В настоящее время генерал Власов организует русскую армию для скорой победы над общим нашим врагом – коммунизмом, желающие вступить могут записаться у коменданта лагеря для прохождения комиссии».
«Здорово, – подумал я. – Они будут принимать в армию не всех желающих, а только отменно здоровых людей».
Свита покинула лагерь и удалилась в направлении деревни Борки. После ухода немцев я обошел и предупредил всех, кто побежит. Не было Егора, его увели работать на мельницу. Братья Лалетины начали колебаться. Павел Темляков и Морозов Саша обозвали их трусами, а затем сказали: «Если вы останетесь, мы напишем немцам записку, что вы тоже собирались бежать».
«Писать никакой записки мы не будем, – сказал я, – но после нашего побега вряд ли сумеете убежать, а лагерь есть лагерь, в любое время жди всяких неожиданностей».
Лалетин старший сказал: «Мы подумаем».
В 12 часов ночи на пост пришел один Ленька. Он сменил Яна Миллера. Кулака, стоявшего на пару с Яном, не меняли. Кулак подождал минут 15, никого не было, подошел к Леньке и сказал: «Тихо, бежать никто вроде не собирается, я пошел отдыхать. Стой сутки, двое подряд, от немцев кроме деревянного бушлата и креста ничего не дождаться».
Он еще раз предупредил Леньку о бдительности и легкой рысьей походкой ушел.
Я вышел из кухонного сарая, Ленька полушепотом сказал: «Действуйте». Я сходил в барак, сказал Морозову: «Сборы на кухне, только быстро». Первым пришел на кухню Темляков, за ним собрались все остальные, включая Лалетиных. Ленька ходил, насвистывая какую-то арию, в то же время прислушивался к ночной мгле. К кухонному сараю подошли еще двое, Грушенков Иван и Гаврилов Миша, невзрачные, истощенные парни, лет 20-ти. Я вышел и спросил, что им нужно. Грушенков тонким ребячьим голосом проговорил: «Возьмите и нас. Мы вам не помешаем». Я быстро затянул их в кухонный сарай. Обсуждать кандидатуры не было времени. Шишкин Виктор шепотом сказал: «Возьмем, парни хорошие».
Ленька зажег зажигалку и неторопливо прикуривал. Это было его сигналом бежать. Проволочная дверь была открыта. Мы с большим волнением вышли из лагеря, завернули за угол к кладбищу и направились к железной дороге. Естественные шаги казались ударами молота. Сердце стучало, как церковный колокол в престольный праздник. Быстро добежали до железнодорожной насыпи, где рядом лежал остов вагона, навалившийся одним боком на насыпь.
Я нащупал руками под вагоном оружие и боеприпасы, гранаты и все раздал. В другом конце под вагоном обнаружили целый мешок галет, сухарей и концентратов супа. Быстро все распихали по вещевым мешкам. Погоню с собаками немцы могли устроить не раньше 6 утра, пока не хватятся меня, и я предложил Морозову Саше сходить вместе со мной в земляной склад, сделанный вроде погреба, где комендант лагеря хранил мясо. Там у него висели окорока, приготовленные для отправки в Германию. Морозов с большой охотой согласился. Павлу Темлякову было поручено вести всех к берегу реки, переправляться и ждать.
Мы с Морозовым, вооруженные немецкими автоматами и нашими гранатами Ф-1, легкими бесшумными шагами пошли к складу. Он находился в 200 метрах от лагеря и в 50 метрах от дома, где жил комендант.
Склад был закрыт легким замком, который я открыл гвоздем. В погребе висело четыре окорока по 12 килограмм. Мы с Морозовым забрали все четыре и напрямую вышли к реке, где нас ждали товарищи. Темляков со вздохом сказал: «А я думал, вас поймали, так долго вы ходили». За время нашего отсутствия они все семеро переправились на плоту на другой берег. Плот поднимал только двоих, поэтому мы переправились с Морозовым на нем, а Темлякову пришлось прицепляться и плыть за нами.
Не широкая, но глубокая река Веронда форсирована. Окорока разрезаны и ровными частями разложены по вещевым мешкам.
Мы двинулись в глухие дебри Новгородской области к берегам Шелони, в края партизан. Шли небыстро, чувствовали себя не беглецами, а хозяевами русской земли, так как при случае могли дать карателям хороший отпор.
За ночь мы прошли не менее 15 километров и устроили в лесу привал. Командиром отряда единогласно был избран я. Старшиной и экономом – Саша Морозов. Все продукты были взяты на строгий учет, решено их расходовать экономно.
Глава двадцать пятая
Исчезновение девяти военнопленных при загадочных обстоятельствах было бы большой сенсацией. Главное, что побег совершен сразу же после посещения лагеря большими особами.
Коменданту Кельбаху, его помощнику Шнейдеру и начальнику эстонской охраны обер-лейтенанту пришлось бы болтаться на виселицах. Немецкое командование сурово обращалось с подчиненными.
Поэтому обер-лейтенант и комендант утром нашли общий язык. Решили побег пока держать в секрете. Убежавших людей в отчете списать умершими. Утром сразу же после получения хлеба, но без горячей воды они тщательно пересчитали всех выстроенных. Здоровых отправили на работу. Обошли все углы лагеря, сосчитали больных, не хватало девяти человек.
Для успокоения совести и небольшой надежды обнаружить беглецов комендант вызвал карательный отряд, распространив ложные слухи, что за рекой на опушке леса видели четырех вооруженных человек, что подтверждал и эстонец обер-лейтенант.
В два часа дня каратели с собаками прочесали близлежащий лес, но никого не нашли.
Побег первым обнаружил повар Хайруллин Галимбай. Утром комендант Кельбах доверял ему бросать в котел с кипяченой водой порцию зеленой сухой травы вместо чая. Галимбай приходил за полчаса до раздачи травяного навара и бросал траву. Утром по уже отработанной привычке он пришел с очередной порцией травы в бумажном мешке. Открыл деревянную крышку котла – вода холодная. Печь не затоплялась. Он подумал, что я проспал и продолжаю спать. Взял тонкое полено, предвкушая удобный случай произвести отменный удар по моим костям, как кошка за мышью, на цыпочках двинулся к топчану, где я всегда спал. Вместо меня там спал его брат. Удар, произведенный от души по широкой спине Изъята, с глухим хлюпаньем огласился в пустом сарае. Разбуженный татарин сначала взметнулся вверх ногами и, упершись руками, на мгновение оказался висящим в воздухе. Затем взревел, как бык при ударе ножа, вскочил на ноги, прищурив раскосые черные глаза, наотмашь со всей силой двинул правой рукой Галимбаю в скулу. Тот, как футбольный мяч, отлетел к дощатой стене сарая, уткнувшись в нее, со стоном упал. Братья снова ринулись с кулаками друг на друга, но тут появился Мельников. Митя с изумлением крикнул: «Вы что, белены объелись?» Сверкая черными глазами, братья разошлись. Галимбай по-татарски попросил у брата прощения. Он сказал, что принял его за другого. Он по-русски спросил: «Где Илья, и как ты попал сюда?» Изъят ответил: «Илью не видел, я еще ночью обнаружил свободное место, на котором так удобно спать, лег и сразу же уснул». В побег Галимбай не верил. О моем исчезновении и, главное, о неподготовленном кипятке доложил своему другу Юзефу Выхосу. Переводчик в приказном порядке сказал: «Найти».
Искать кинулись Митя, Галимбай и Изъят. При тщательном осмотре всего лагеря меня не обнаружили. Выхос доложил коменданту Кельбаху. Галимбай за неподготовку горячей воды был избит комендантом Кельбахом. Комендант и эстонская охрана злобу срывали на военнопленных. Они без причины избивали каждого, кто попадался на глаза.
Исчезновение из лагеря девяти человек хотя и не распространялось за пределы эстонской охраны и немецкого коменданта с помощником, но виновников в побеге найти пытались. Шкурники-предатели из лагеря поодиночке вызывались к коменданту, и с них снимались допросы.
В помощи беглецам комендант Кельбах подозревал Меркулова, но Сатанеску эти подозрения развеял. Он доказал Кельбаху, что Павел к побегу не причастен, так как Меркулов нужен был ему каждый день как специалист и как верный охранник его богатств.
Леньку никто не подозревал. Утром Кулак хвалился обер-лейтенанту, что стоял на посту две смены с Яном Миллером и Ленькой. Когда было объявлено, что ночью сбежали девять человек, Кулак слезно просил Леньку, чтобы он говорил, что стояли на посту вместе. Обер-лейтенант выстроил всю охрану, начались разбирательства. С 22 до 24 часов стояли Кулак и Ян Миллер. С 0 до 2 часов – Кулак и Ленька. С 2 до 4 часов был Ян Миллер вместо Клехлера, который нанял его за десять марок. С 4 до 6 часов стояли Лехтмец и один новичок.
Обер-лейтенант сделал резюме. Побег совершен в дежурство Яна Миллера, который уснул на посту. Тот невнятно говорил, что на посту не спал, зорко охранял лагерь, в его дежурство не мог никто убежать. Его слова были как глас вопиющего в пустыне.
Егор после ночной работы был приведен в лагерь утром. О побеге он узнал от Меркулова еще на электростанции. В лагере Егора допросили переводчик Юзеф Выхос и повар Хайруллин Галимбай, но ничего путного не добились.
Вечером все живое лагеря было выстроено. Военнопленные стояли в строю по стойке смирно. Немцы и эстонцы злобствовали. Без причин били кулаками и пинали ногами беззащитных людей. Комендант Кельбах не говорил, а кричал. Переводил его крик Сатанеску, артистически подражая интонациям. Юзеф Выхос, Хайруллин Галимбай, врач Иван Иванович – все впервые за весь период существования лагеря стояли в строю.
Кельбах выкрикивал: «Вы все русские не только свиньи, но и коммунисты. Я напоминаю всем, при попытке к бегству, неподчинении и непослушании немецким властям – расстрел. С сегодняшнего дня всех людей распределяем по три». Он вывел из строя переводчика Юзефа Выхоса, мертвецки побледневшего, и приказал ему всех переписать по три. «Кто из трех сбежит – двое будут расстреляны за то, что вовремя не доложили немцам о побеге товарища».
Придя в себя, Выхос начал записывать всех столбиком, выделяя троих, объявляя каждой тройке, кто за ней закреплен.
Снова появилась нитрокраска светло-голубого цвета. На гимнастерках, кителях немец грубо писал порядковый номер и ниже ставил буквы "Kgf.".
Запись по тройкам и рисование на спинах давно закончились, от стоявших пахло краской, но людей не распускали по непонятным причинам. Немцы и эстонцы кого-то ждали.






