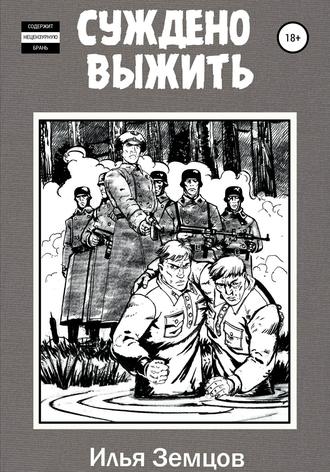
Илья Александрович Земцов
Суждено выжить
Глава двадцать третья
Вечером в день побега восьми человек к лагерю на легковой автомашине и трех мотоциклах с люльками подъехали немцы. Пришли и эстонцы – охрана лагеря во главе с обер-лейтенантом. По территории лагеря, нервно шагая, ходил обер-лейтенант Дик в сопровождении фельдфебеля Комаровского, коменданта лагеря Кельбаха и его помощника Шнейдера.
Военнопленные, предчувствуя что-то недоброе, укрылись в своих кельях. Из легковой машины вылез майор и направился к калитке на территорию лагеря. Юркий немец, сержант, обогнал его и быстро открыл калитку. Майор вошел на территорию лагеря, приблизился к ожидавшим его немцам, после коротких приветствий "Хайль Гитлер" приказал выстроить всех военнопленных.
Комендант Кельбах вбежал в барак, пронзительным голосом закричал: «Русь, быстро, быстро». На его крик выскочил из своей кельи услужливый Кузьма Брагин. Он и переводчик Юзеф Выхос в два голоса закричали: «Выходи строиться». Люди, невзирая на подгон немцев, медленно выходили и становились в строй. Выстроены были все, кто мог стоять на ногах. Больные опирались на плечи товарищей, сжав от слабости и боли зубы. Смотрели на собравшихся немцев и эстонцев. В лагере закон такой: заболеть можно в любую минуту, выздороветь дорога закрыта. Немецкие солдаты и младшие командиры встали полукругом к строю военнопленных.
Майор в сопровождении обер-лейтенанта Дика, коменданта Кельбаха, помощника Шнейдера, эстонца обер-лейтенанта и Сатанеску медленно обходил строй голодных, измученных людей, внимательно разглядывая каждое лицо. Многие военнопленные смотрели на них с испугом и покорностью, не выдерживали холодного взгляда майора и его сопровождающих. Но были и такие, которые бесстрашно, с неописуемой враждой взирали в бесцветные глаза врагов. Те, не выдержав, отворачивались. Майор остановился напротив уральца Мити Санникова, обросшего густой черной бородой, смело смотревшего на него большими черными глазами. Его длинное лошадиное лицо расплылось в кривой улыбке, сжав зубы, он сказал: «Иуда».
Митю вывели и поставили лицом к строю. Внимательный осмотр продолжался, снова остановка – напротив ингуша Салема. Сквозь зубы майор процедил слово "Иуда". Салема поставили рядом с Митей. Комендант лагеря Кельбах и эстонец обер-лейтенант пытались сказать, что это не еврей, а кавказец, но, встретив бычий взгляд бесцветных глаз, замолкли.
Через переводчика Выхоса майор перед строем военнопленных произнес грозную речь. Он сказал: «По следам сбежавших идут каратели, двоих уже поймали и сразу же расстреляли. Не сегодня-завтра все будут пойманы и убиты. Если кто из вас будет пытаться бежать, обязательно поймают и расстреляют». Он крикнул: «Смерть комиссарам, коммунистам и евреям». Показав длинной рукой на Санникова Митю и Салема, пробурчал: «Эти двое иуд будут расстреляны сегодня».
В этот момент подъехал немец-сержант на мотоцикле и доложил что-то срочное. Майор, садясь в машину вместе с сопровождающими офицерами, сказал коменданту Кельбаху, чтобы Салема и Санникова посадили, а куда не сказал.
Предприимчивый Кельбах отвел их в овощехранилище и закрыл увесистым замком. Строго предупредил обер-лейтенанта об охране. Входная дверь в овощехранилище находилась в 10-12 метрах от часовой будки. Эстонец, улыбнувшись в знак согласия, мотнул головой и галантно заявил, что никуда не денутся.
Военнопленные, вздыхая, медленно шли в барак. На сердце осадок – дума о двух товарищах, которых если не сегодня, то завтра ждет расстрел.
Утром следующего дня при построении всего живого на проверку и на работу снова появился майор в сопровождении тех же офицеров. Машина резко затормозила у самого строя. Все офицеры не спеша вылезли. Коменданту Кельбаху было приказано привести Санникова и Салема. Кельбах почти бегом добежал до двери овощехранилища и трясущими руками стал открывать замок. Не одна сотня глаз с замиранием сердца ждала появления жертв. Открыв дверь, Кельбах громко крикнул: «Русь, бистро ходи». Но выходить из овощехранилища никто не хотел. Майор, сжав зубы, проговорил: «Трусы» – и крикнул немцам-солдатам: «Привести».
Четверо немцев наперевес с винтовками кинулись в атаку в овощехранилище. Следом за ними вбежал эстонец обер-лейтенант. Обшарили все овощехранилище – оно было пусто. Эстонец растерянно доложил, что там никого нет.
Майор сам вошел в овощехранилище, где при помощи электрофонарика, хотя в раскрытую дверь поступало достаточно света, обнаружил разобранную наполовину полусгнившую заборную стену и прокопанное узкое отверстие.
Майор выскочил из сарая, как бешеная собака из конуры. На лицах военнопленных появилась непредвиденная радость.
Военнопленным была дана спешная команда: «На работу». Между немцами и эстонцами шла крупная перепалка. Комендант Кельбах, понурив голову, растерянно стоял, глазами сопровождал уезжающих немцев и уходящих на работу военнопленных. Эстонец обер-лейтенант и помощник коменданта Шнейдер стояли у открытой двери овощехранилища, поджидая кого-то.
Через полчаса появились трое немцев с собаками, одна из собак, взяв след, повела к реке, и, не дойдя до реки, потеряла. Повторяли три раза, три раза брала след и на одном и том же месте теряла.
Мы с Павлом Меркуловым наблюдали сквозь щели кухонного сарая и думали: «Молодцы, Салем и Санников Митя».
Когда все немцы ушли, остался на посту один часовой – эстонец Ленька. В лагере наступила тишина, только изредка из темного угла барака доносились стоны и всхлипывания москвича Ивана Шилина. Его раздавленный таз приковал его к холодному сырому полу. Без посторонней помощи он не мог ни сесть, ни встать. Благодаря крепкому организму жизнь не покидала его. Помощи ему никто не оказывал. Врач Иван Иванович каждый день прикреплял разного больного для ухода и приноса пищи с кухни. Прикрепленный помогал Шилину сесть. Передавал ему в руки пищу, стараясь не дышать, и быстро уходил. На Иване Шилине вместе с телом гнила его одежда, которая никогда не просыхала. Отведенное ему место в темном углу для последних дней жизни служило ему жильем и уборной. Боли его были невыносимы, надо было иметь железные нервы, чтобы истерически не кричать. Иван Шилин от приступа сжимал зубы, сквозь которые изредка вылетали редкие стоны.
По гражданской специальности он торгаш, работал долгое время директором универмага. В начале войны добровольно ушел в армию, оставив в Москве жену и 17-летнюю дочь. Начал воевать в псковских Жилых Болотах. С первого дня по приезду на фронт было объявлено, что часть, в которую они прибыли пополнением, окружена. Вместо того чтобы объединиться и организованно выходить из окружения, была подана предательская команда: «Спасайся, кто как может». Вся воинская часть вместе с пополнением мелкими группами разбежалась по лесам и болотам Псковщины.
Ивану Шилину с группой в восемь человек удалось добраться до Шимска, где в одном из населенных пунктов все были взяты в плен. Из всех восьми москвичей доживал последние дни он один. Остальные семь еще зимой в разное время умерли.
Иван Шилин несмотря на крепость организма доживал свои последние дни. Жизнь его должна оборваться, и он об этом знал. В памяти его, как кинолента, восстанавливалась жизнь с раннего детства. Порой в забытьи ему казалось, что он находится среди своей семьи, в своей двухкомнатной квартире в окружении жены и белокурой дочки. Он разговаривал с женой, затем вздрагивал, приходил в сознание. Снова оказывался гниющим и беспомощным, в темном углу барака с тлетворным запахом от своего тела и одежды.
Ему не хотелось в это верить, он старался представить, что это сон, а не действительность. Лишь приступы страшных болей возвращали его в реальность, и невольно изо рта с пересохшими губами вылетали всхлипывания. Тяжело человеку в здравом уме чувствовать полную безнадежность, когда все нити жизни обрываются. Жизнь человеку дается один раз, а проживают ее по-разному. Одни живут без несчастий и приключений до глубокой старости. У других с самого детства следуют несчастия за несчастиями. У одних жизнь течет спокойная, тихая, как река, всего в изобилии, она кажется короткой. Другие, наоборот, переносят холод, голод и унижения, дни кажутся длинными, нестерпимо тягостными.
Самое большое несчастье выпало на долю нашего народа – это вероломное нападение фашистской Германии. Сотни тысяч молодых людей томятся в концлагерях, обречены на страшную голодную смерть. Тысячи человек ежедневно погибают на фронтах и в партизанских отрядах. Сотни тысяч женщин, детей и стариков в осажденном Ленинграде умирают от голода.
Наши люди хорошо стали знать, что такое фашизм, претендующий на мировое господство. Нет! Этого не будет, сказал русский народ. Наш народ на подъем тяжел. В каждой войне сначала русских хорошо отдубасят, и, только почувствовав боль, народ-великан поднимается во весь свой исполинский рост, расправляет богатырские плечи и обрушивается со всей силой на врага.
Враг вылетает с территории России, как пробка из бутылки с шампанским. То же самое в скором времени будет и с зазнавшимися немцами. Если бы народ-великан претендовал на мировое господство, он мог бы его обрести еще в первой половине XIX века.
Наш народ любит свободу, и он справедлив по отношению к другим народам. Все народы мира должны быть свободными, независимыми друг от друга. Не должно быть на Земле колонистов и колонизаторов.
Леньку, довольного побегом Мити Санникова и Салема, на посту сменил Лехтмец, 19-летний парень родом из города Тарту. Сын почтенных родителей. Отец – кандидат наук, мать – преподаватель. Сам он окончил гимназию. Лехтмец прекрасно понимал, что попал в бандитскую шайку по истреблению ни в чем не повинных людей. Выхода у него пока не было. К пленным он относился хорошо. Открыто возмущался поведением немцев и в их победу не верил.
Мы с Павлом Меркуловым вышли из кухонного сарая. Павел отправился на электростанцию. Я приблизился к Лехтмецу и спросил, что нового. Он сквозь колючую проволоку протянул мне сигарету, озираясь по сторонам, нет ли немцев.
По его словам, в побеге обвиняют эстонцев и, в частности, обер-лейтенанта, так как установить нельзя, в чье дежурство убежали Салем и Митя.
Лехтмец рассказал: «За ночь дежурило четыре человека, в том числе я с Ленькой. Подозрение есть на Леньку, что он прокараулил, но доказать этого нельзя. Немцы грозят меня, Леньку и Клехлера отдать под суд. Не знаю, чем все это кончится. Ленька родился в Лужском районе Ленинградской области. Отец его эстонец, мать – латышка. До войны он учился в Ленинграде в ремесленном училище. Немцы, узнав его эстонское происхождение, мобилизовали его в эстонский легион в марте 1942 года. С тех пор он в охране лагеря. Он слишком беззаботен и несерьезен. Военнопленным говорил, что был комсомольцем. Вместе с ним стоял Ян Миллер, от природы дурак, поэтому его в счет виновных не брали. За проявленную халатность обер-лейтенант в присутствии немцев отпорол Яна плетью. Сейчас он крепко спит».
Лехтмец глубоко вздохнул и снова заговорил, подбирая нужные слова: «Яну Миллеру побои принимать не впервые. Его всю жизнь бьют, об этом он, не скрывая, говорит сам. Родился он незаконно. Мать его жила в прислугах у одного богатого фермера, от него Ян и родился. Рождение Яна стало большим горем и несчастьем для матери. Она как шлюха была выброшена из дома фермера на улицу. Ходила в поисках работы, побиралась и через два года от простуды, издевательств и непосильного труда умерла. Маленького Яна подобрал отец-фермер и поместил его жить с батраками. С семилетнего возраста сам стал батраком. Всю жизнь батрачил, не имея ни дома, ни семьи, ни друзей. Частые побои, непосильный труд сделали его послушным рабом, лишили его на всю жизнь человеческого мышления. Он был превращен в послушное животное, которое использовалось как орудие унижения и уничтожения людей. Ян, не задумываясь, по науке хозяев стрелял в упор в узников лагеря. Был выдрессирован послушным, действовал на посту согласно заученным правилам. Узники лагеря об этом знали и при его дежурстве держались осторожно».
Лехтмец отлично знал всех соотечественников, зорко охранявших лагерь. Коротко делился мнениями со мной. Он мне верил. Своих же он боялся.
На ступеньках своего особняка, служившего складом и жильем, появился комендант Кельбах. Я взял ведра и пошел к колодцу ему навстречу. Подойдя ко мне, Кельбах сказал: «Русь, бистро, бистро». Я показал на ведра и спросил, нужны ли они. Он утвердительно кивнул головой и что-то невнятно пробурчал. Я пошел за ним. Он привел меня в расположение какой-то воинской части. Автомашины и орудия были замаскированы маскировочными сетками и ветками деревьев. Проводились учения солдат. Кельбах подвел меня к полевой кухне и сдал длинному худому горбоносому фельдфебелю. Фельдфебель русские слова мешал с немецкими, объяснил, что надо делать. Я его прекрасно понял и приступил к работе, стал носить воду на кухню.
Находчивый фельдфебель для охраны меня выделил солдата с автоматом. Солдат следовал за мной от колодца и обратно в 2-3 метрах, но скоро все это ему надоело. Он сел между колодцем и кухней, зорко следил за каждым моим шагом, держал автомат на боевом взводе. Ствол автомата был направлен все время на меня. Я наносил воды в две полевые кухни и изрядно устал, но фельдфебель отдохнуть мне не предложил. Тут же передал шоферу для очистки автомашины от грязи. Я принес два ведра воды, сырыми тряпками протер капот и кабину и вместе с шофером залез под машину соскребать грязь с мостов карданов и рамы.
Шофер спросил меня по-немецки, применяя пальцы и мимику, чтобы я понял: «Сколько тебе лет?» Я ответил по-немецки, что 23. «О, вы можете говорить по-немецки, это хорошо, – сказал шофер. – Будем работать, когда появится начальство, а сейчас отдыхай». Он угостил меня сигаретой, говорил, что ему тоже 23 года. Родился в Берлине. Специальность его шофер. Война и русская земля ему не нужны. Хватало места ему и в Берлине. Был бы рад любому ранению, лишь бы только не служить в армии.
При появлении у автомашины фельдфебеля или офицеров мы делали вид, что работаем. Он проклинал Гитлера и все немецкое командование. Я не понимал всего, о чем он говорил, а догадывался по смыслу отдельных слов.
Во время обеда он принес с кухни котелок горохового супа и грамм 400 хлеба, озираясь по сторонам, не следит ли кто за ним, отдал все мне. В течение трех минут я расправился с хлебом и супом и поблагодарил его. Он ответил: «Принес бы еще, но боюсь за тебя. Истощенному от голода человеку много есть нельзя, можно умереть». Я понял, что со мной рядом под машиной лежит не враг, а настоящий друг.
По окончании чистки автомашины, с которой мы дотянули до конца дня, я был доставлен в лагерь этим шофером с туго набитым животом, буханкой хлеба и пачкой сигарет.
У лагеря он подал мне руку и сказал: «До свидания, камрад, пожелание остаться живым».
Стоявший на посту Ленька подозвал меня и, улыбаясь, сказал: «Что, друга нашел?» Он внимательно смотрел на уходящего немца, на его стройную фигуру и солдатскую походку. Затем задумчиво, как бы между прочим, сказал: «И среди немцев много хороших людей, не все же они фашисты и людоеды».
«Лень, ты немцев называешь правильными именами. В этом ты прав, но почему же тебя потянуло на их сторону? Ты облачен в мундир немецкого приспешника и вооружен их винтовкой, чтобы стрелять при побеге нашего брата», – выпалил я.
«Осторожнее на поворотах, – повысив голос, заговорил Ленька еще почти не сформировавшимся мужским голосом. – Ты не знаешь, кто я. Я, может быть, самый честный советский человек, а ты приравнял меня к немцам».
Из-за поворота появился Клехлер, шедший на смену. Ленька скомандовал мне: «Марш за проволоку». Уходя, я сказал: «А ты, Лень, докажи, что настоящий человек». Ленька ответил: «Вот посмотришь, и докажу».
Глава двадцать четвертая
Наступил благодатный август, и шагал он медленно, не торопясь, отсчитывая первые часы и сутки. Он, как старый профессор, читающий лекции, повторял из года в год одно и то же с небольшими добавлениями и отклонениями.
В 1942 году он дал многое. Накормил голодных людей, многим спас жизни. Выбил веру у немцев в их легкую и молниеносную победу над Россией. Многие немцы и сами говорили, что война проиграна.
Немецкие конвоиры стали значительно лучше обращаться с военнопленными. В лагере всем выдали по одной паре белья. Один раз в декаду всех из лагеря угоняли в баню. Выдавали немецкое мыло, похожее на глину.
Немцев заставила наводить чистоту эпидемия тифа. В лагере было уже несколько случаев этого заболевания. Тифозных больных сразу же изолировали и отправляли неизвестно куда. Ходили слухи, что всех стреляли.
Питание в лагере оставалось на одном уровне, давалось раз в день 200 грамм хлеба с ложкой повидла на завтрак, в обед литр похлебки из неочищенной картошки с мукой. Конины ни соленой, ни свежей не стало. Отношение большинства немцев изменилось в лучшую сторону еще и потому, что многие прекрасно понимали: усилилась боевая мощь советской армии. Наша авиация стала появляться днем и бомбить военные объекты.
Частые воздушные бои завязывались над оккупированной территорией. Немецкие летчики стали уже не такими нахалами, как в мае. Они уже боялись наших самолетов. Немцы говорили, что на русских самолетах появились скорострельные пушки, и легкая броня их самолетов стала бесполезна.
Знаменитые кукурузники без всякого опасения, тарахтя, как дюжина пустых консервных банок на хвосте бежавшей собаки, бороздили небо над головами немцев. При появлении "Мессершмиттов" и "Фокке-Вульфов" оказывали сопротивление и часто выходили победителями.
1 августа над дорогой, где работали военнопленные, появился наш двукрылый ПО-2. Следом за ним, строча из пулемета, на бреющем полете шел "Мессершмитт". Короткими пулеметными очередями, искусно планируя, отбивался ПО-2. Немец три раза пролетел над головой неизвестного нашего летчика, который в момент опасности штопором пускал машину к земле и летел в 8-10 метрах над лесной дорогой.
Немец, видя, что добыча ускользает, снизил свою машину метров на 20 от земли и ринулся к фанерному самолету. Наш летчик, понимая замысел фашиста, круто повернул машину и вошел в лесную просеку, рискуя обломать крылья о кроны деревьев. Фашист с воем проскочил над лесной дорогой, при попытке поворота на просеку врезался в телеграфный столб. Наш летчик, видя гибель фашиста, набрав высоту, круто развернулся и, тарахтя, полетел по намеченному маршруту.
Узники концлагеря были восхищены смелостью и смекалкой тихоходного воздушного извозчика. Немецкие конвоиры, злясь на неудачу своего аса, кричали: «Русь, бистро, бистро, работа».
Вечером в лагерь в сопровождении офицера и двух солдат был приведен Миша Сусеров. Весь оборванный, измазанный сажей, обросший, грязный, с впалыми глазами.
Все живое лагеря было выстроено. Перед строем напоказ выставлен Миша Сусеров, ждавший своей участи. Комендант Кельбах долго изливался своим красноречием, при каждой фразе показывая пальцем в сторону Миши. Переводчик Юзеф Выхос переводил. Он говорил, что все сбежавшие из лагеря пойманы и расстреляны.
Сусерову Мише жизнь сохранена лишь потому, что он сам явился к немцам и чистосердечно раскаялся в своем поступке. Немцы не расстреляли Мишу потому, что хотели показать военнопленным, что бежать некуда, все равно их схватят или они погибнут от голода. Мише приговор вынес комендант Кельбах – 50 ударов вицей, то есть розгами.
Не распуская выстроенных людей, был сооружен топчан из досок. С полуживого Миши сдернули брюки и задрали рубаху на голову. Ян Миллер с засученными рукавами, как палач, взял приготовленные ивовые вицы из пучка, высоко взмахнул, ударил со всей медвежьей прилежностью. На теле образовалась белая полоса, в одно мгновение она посинела.
Старательный Ян ударял, вкладывая всю свою силу. Приготовленные ивовые вицы выдерживали три-четыре удара. Ян был усерден. Миша молчал, не издавая ни одного звука.
Немецкий офицер оказался сердобольным, на 27-м ударе приказал прекратить бить. Миша лежал без сознания и всех 50-ти ударов он не перенес бы.
В барак лагеря его внесли на руках и бережно положили на нары, на то самое место, где он спал до побега. По лагерю среди узников распространялись разные слухи. Одни говорили, что он предал своих товарищей, за это немцы его не расстреляли. Другие утверждали, он не предатель, зачем немцам стрелять, после полученных ударов розгами вряд ли он будет жить. Заступничество офицера было для всех загадкой.
За весь вечер к Сусерову кроме врача Ивана Ивановича и переводчика Юзефа Выхоса никто не подходил. Все на него смотрели как на больного чумой. Зато переводчик о чем-то тихо расспрашивал почти до самого отбоя. Утром, когда всех узников угнали на работу, Миша подозвал меня и попросил принести воды. Я принес ему в его закопченном котелке холодной воды. Заикаясь, глотая слова, он спешил рассказать мне всю историю побега, думал, что я слушать не буду. Я успокоил его, сказал: «Не спеши, у меня времени хватит, так как я дежурил на кухне ночь и сейчас свободен».
Я поудобнее уселся рядом с лежащим Мишей. Он мне рассказал коротко о скитаниях в побеге. Разделившись на группы, с Сусеровым пошли Кропачев и Званцев. Направление взяли к Любани.
Сергей Кропачев служил в разведбатальоне. Ему часто приходилось участвовать в разведках в глубоком тылу немцев. Он вел всех уверенно. В лесу ориентировался хорошо, но у группы не оказалось ни карты, ни компаса. Поэтому часто приходилось ожидать часами на дороге одинокого путника и расспрашивать о немцах и населенных пунктах. Шли ночами. Голод заставлял заходить в деревни. Делали это ночью по одному. Население добровольно почти ничего не давало, приходилось отбирать и воровать. Днем спали в лесу, тщательно маскируясь в дебрях. Из прифронтовой полосы все население немцами было выселено и угнано в Германию. Поэтому спрашивать о дороге было некого. Шли наобум, куда выведет тропинка или дорога, ориентируясь по доносившимся редким артиллерийским канонадам.
О продуктах нечего было и мечтать, поэтому пищей служили съедобные травы и грибы: щавель, лесной пупырь, жевали молодые липовые листья и побеги. Силы всех покидали. Наступило полное истощение организма. Идти долго не могли. Проходили не более 13-14 километров в сутки. В прифронтовой полосе почти в каждой деревне жили вооруженные до зубов немцы. Пойти в деревню значило погибнуть.
Для отдыха выбрали место на опушке леса недалеко от деревни. Рядом виднелось большое картофельное поле. Ребят не интересовало, чья это картошка. Мысли всех были прикованы к ней. С большим трудом дождавшись ночи, все трое, забыв об осторожности, пошли за молодой мелкой картошкой. В первую ночь было накопано три полных вещевых мешка.
Выбрав в лесу небольшой овраг, за ночь переварили и почти всю съели. День спали с дополна набитыми животами, на следующую ночь снова пошли, принесли по вещевому мешку картошки. Званцев решил проверить огороды заботливых немцев. Принес вещевой мешок моркови, огурцов и лука. Устроили настоящий пир. Днем надо было уходить вглубь леса и пробираться к переднему краю, но сытость и вялость взяли свое. Днем проспали, а ночью решили еще раз попробовать накопать картошки. Немцы, по-видимому, обнаружили кражу и выставили часовых. За картошкой вызвался сходить Миша Сусеров.
Званцев и Кропачев решили еще раз проверить немецкие огороды. Но, не дойдя до деревни, Званцев нюхом разведчика обнаружил немецких часовых и вместе с Кропачевым пришел на место привала ждать Мишу, а затем бежать. Сусеров не спеша добрался до картошки и приступил к копке, как дома на своем огороде, но не успел накопать и котелка, как услышал голоса немцев и крики: «Русь, руки вверх». Бежать было поздно. Сусеров встал и поднял руки и тут же был доставлен в деревню. При допросе выдал своих товарищей. Он предал Званцева и Кропачева, которые с нетерпением ждали его возвращения.
При появлении на горизонте небесного светила отряд немцев в 25 человек с тремя собаками в сопровождении Сусерова вышел из деревни и прямо по заросшему сорняками пустому полю направился в лес. Званцев и Кропачев сидели в небольшом овраге под развесистыми елями. До их слуха донеслось множество ударов тяжелых сапог о землю и взвизгивание собак. Званцев вскочил на ноги и глухо выдавил из себя: «Бежим, немцы».
Бежать было поздно. Немцы шли в 30 метрах от их расположения. Званцев с Кропачевым кинулись бежать, застрочили немецкие автоматы, и, не пробежав 10 метров, оба были убиты. За предательство товарищей Миша Сусеров был возвращен в лагерь.
Не случайно немцы сохранили ему жизнь. Он кончил свой рассказ и глухо выдавил: «Я предатель и трус. Ради сохранения своей жизни погубил товарищей».
Я смотрел в его серые глаза и думал: «Действительно, ты предатель и притом глупый, открытый. От тебя в любое время можно ожидать всего».
Спросил его: «Как думаешь, другие группы дошли или нет?» Немного подумав, он ответил: «Мне кажется, должны дойти. Не размениваясь на картошку, мы тоже сейчас были бы у своих».
К лагерю, тарахтя, подъехала полуторка. Я бегом выскочил из барака, нужно было увидеть мосье. В кабине сидел Петр Мирошников с помощником коменданта. Шнейдер, высунув голову в раскрытое окно кабины, кричал мне: «Русь, быстро, шнель».
Я вышел из лагеря и приблизился к машине. Мирошников мне сказал: «Позови Яшку-татарина, сейчас поедем в Новгород за хлебом». Яшка не заставил себя долго ждать. Он услышал наш разговор и вышел из кухонного сарая. Мы сели с ним в кузов. Машина развернулась и, набирая скорость, бежала, раскидывая дорожную пыль. Шнейдеру быстро надоело сидеть в душной кабине. Он остановил автомашину и залез в кузов. Мирошников высунулся наполовину тела из кабины и пригласил меня. Шнейдер в знак согласия мотнул головой.
Я быстро сел в кабину, и поехали дальше. Сразу приступил к деловым разговорам, спросил Мирошникова, как достать оружие для побега. Петр, на мгновение задумавшись, сказал: «Надо попытать счастье. Но где его взять, на дороге ни одной винтовки не валяется». Не называя имени, я сказал, что один эстонец из охраны лагеря разведает, где оружие. «Если можно будет достать без риска, я все сделаю». Я ответил, что сейчас война и без риска ничего не делается. Мирошников утвердительно качнул головой и сказал: «Будет все сделано. Позабочусь и о продуктах. На сколько рассчитывать?» Я ответил: «На 10-12 человек». «Дай вам бог удачи, – сказал Мирошников и перекрестился. – Не забывайте меня».
В Новгород съездили без всяких приключений, привезли немецкий хлеб пятилетней давности.
Подготовка к побегу и начиналась, и продолжалась, от слов переходили к делу. Добычу оружия пришлось втайне ото всех брать на себя.
Эстонец Ленька из охраны лагеря часто заводил со мной разговор об оказании помощи в побеге. Я ему не верил и поэтому решил его преданность испытать на деле.
Вечером Ленька пришел на пост один. Багрово-красное солнце скрылось за горизонт, что предвещало изменение погоды. Я подошел к Леньке, нас отделяли три ряда колючей проволоки, и показал ему рукой на солнце. Ленька посмотрел в сторону уходящего за горизонт солнца и сказал: «Ну что из этого?» «Дождь будет», – ответил я. «Это можно было ожидать. Дождь, как правило, бывает, не когда просишь, а когда косишь, – сказал Ленька и добавил. – Пришел просить покурить?» «Нет, другое», – ответил я. «А что?» – перебил Ленька. «Ты как-то говорил мне, надо быть готовым встретить наших достойно, то есть взять в руки оружие».
Ленька оглянулся кругом. Никого поблизости не было. Проговорил полушепотом: «Что конкретно надо?»
«Разведать, где можно на этот случай достать оружие». «Только и всего, – ответил Ленька. – Это я знаю. Рядом с гаражом от поворота с деревни Борки к лагерю есть небольшой полусгнивший домик с двумя окнами, решеткой и дощатой дверью. Там сложено много немецких винтовок и ящики с патронами. Немцы там ремонтируют винтовки и другое оружие, протирают патроны. Днем там работают три-четыре немца. Ночью охраны нет, кроме патрулей. Завтра могу показать лично тебе и устроить разведку-прогулку по всем касающимся вопросам, а сейчас ауфвидерзейн».
Из дома, где жила вся эстонская охранка, браво вышел Ян Миллер. Расправил свои мощные рабочие руки и плечи, шел на пост. Обыденный шаг от избытка сил чередовал со строевым. Я скрылся в кухонном сарае, где, как правило, спал.
Ленька не обманул, в 9 часов утра он пришел к лагерю с винтовкой на плече и с нарукавной повязкой полевой жандармерии. Он предъявил стоявшему на посту Клехлеру пропуск на вывод меня из лагеря. Он как конвоир вывел меня по всем правилам. Мы шли с ним не спеша. При встрече с немцами он вел себя высокомерно по отношению ко мне, кричал с немецким акцентом. Недалеко от гаража стояла небольшая рубленая изба. Раньше, по-видимому, служила для сторожа и подогрева воды для тракторов и автомашин. Не один десяток раз проходил, проезжал по этой дороге, соединявшей раньше совхоз "Заверяжские покосы" с дорогой Новгород-Шимск, а сейчас концлагерь, но на избу рядом с гаражом не обращал внимания. Я знал, что она стоит на этом месте, доживает свой век, то есть догнивает.
Мы поравнялись с избой, затем с гаражом. Внутри под наблюдением немцев работали военнопленные слесари. Слышен был стук молотков, музыкальное пение пил и напильников о железо и редкие немецкие ругательства.
Ленька остановился и сказал: «Ты стой здесь, а я схожу к избе, загляну внутрь». Я не успел раскрыть рта, сказать об осторожности, Ленька был уже у избы и обходил ее кругом, заглядывая в дверные щели и решетчатые окна, забитые редкими досками для сохранности стекол.
Дверь избы была плотно закрыта, на пробойную петлю наложена накладка и вместо замка вложена деревянная палка. Обойдя кругом избы, Ленька открыл дверь, вошел внутрь и тут же выбежал обратно. Закрыл дверь и быстро подошел ко мне. Прошептал: «Все в порядке, там лежит много винтовок и несколько раскупоренных цинковых ящиков с посиневшими патронами».
Не успели мы пройти и десяти шагов, как нас остановил немецкий фельдфебель и спросил Леньку по-немецки: «Что ты тут делаешь?» Ленька, не зная немецкого языка, улыбнулся ему, сказал: «Гут». Что-то проговорил по-эстонски, показал пальцем на деревню, затем на меня и сказал: «Нихт фертштейн. Картошка». Фельдфебель скупо ему улыбнулся, показав свои длинные желтые зубы, и сказал: «Идите». Мы медленно пошли по дороге в Борки. Фельдфебель стоял возле избушки и наблюдал за нами.
Я сказал Леньке: «Спешка знаешь, где нужна?» Он ответил: «При ловле блох, но только мокрыми руками». Ленька на словах храбрился и говорил, что все это ерунда, пусть смотрит и наблюдает, но по его тону было слышно другое.






