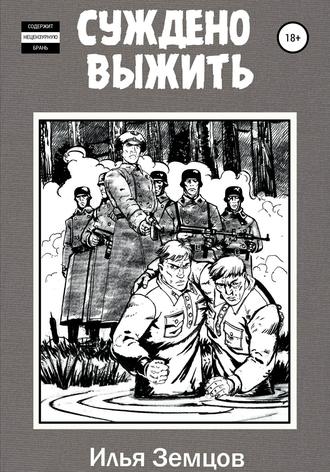
Илья Александрович Земцов
Суждено выжить
Я разбудил командира роты Григорьева. Он грубо спросил, что случилось. Доложил, что исчезла лошадь Тембр. По-видимому, он не понял моих слов, грубо меня обругал, угрожал расстрелять, отдать под суд военного трибунала.
От его ругани проснулась замполит Тихонова и подошла ко мне. Следом за ней из ее избушки вышел, как пойманный невовремя, лейтенант Гамальдинов и скрылся за домом. Григорьев собирался долго, заскрипел засов, открылась дверь, появился командир роты. Я коротко доложил, что пришел на пост, обнаружил исчезновение лошади. Путро я не выдал, сказал, что он стоял на посту.
Начался допрос. Путро путался, говорил невпопад. Наши показания расходились.
Григорьев выругался и с горечью сказал: «Круглый дурак и вдобавок идиот». Путро, вытянувшись, ответил: «Так точно, товарищ старший лейтенант». «Много в жизни видел дураков, но такого не видел». Путро снова повторил: «Так точно».
Григорьев сказал Гамальдинову: «Посадить его на гауптвахту до выяснения обстоятельств и больше до поста не допускать». Путро вяло отрапортовал: «Есть на гауптвахту» – и не спеша пошел на старое место досыпать. Мне было приказано тщательно охранять Путро. Он дошел до склада, лег на тюки сена, закутавшись шинелью, сладко захрапел.
Надвигался рассвет. Белая полоса света, занявшаяся на восточном горизонте неба, медленно начала расширять свои границы, затем из бледной стала превращаться в розовую. В лесу запели птицы. Где-то рядом пролетели вальдшнепы. Затянул басовитую песню тетерев. Все как в мирное время. Лишь глухо доносившаяся с переднего края пулеметная стрельба напоминала о войне.
Весть о пропаже лошади Тарновского обошла весь личный состав транспортной роты еще до подъема. С подъемом все были на конюшне. Чистили своих лошадей, кормили и поили. Тарновский стоял в пустом стойле, низко склонив голову. К нему подошел шорник, тихо сказал: «Не вешай голову, не печаль хозяина». От слов шорника Тарновский как бы проснулся, окинул всех черным магнетическим взглядом и скрылся за деревьями. Он пошел к командиру роты и попросил у него разрешения отправиться на поиски лошади, на что получил согласие.
Вернулся Тарновский через полутора суток на новой лошади. До позднего вечера он ее чистил, обрезал копыта, хвост и гриву, то есть проводил полную обработку животного вплоть до окраски части волос. Лошадь стала неузнаваемой.
Путро сидел на гаупвахте, отсыпался на сене на конюшне. Я ему носил завтрак, обед и ужин, двойные порции. На пост мне было приказано становиться вечером.
Лейтенант Гамальдинов обещал смену в два часа ночи, но никому конкретно не сказал. Я, считая длинные ночные секунды, которые медленно складывались в минуту, достоял до двух часов ночи. Смены не было. Пятый час стояния на посту был для меня вечностью. Спать хотелось так сильно, что явь сливалась со сном, то есть засыпал на мгновение стоя. Поэтому старался быть все время в движении.
В половине четвертого у меня не выдержали нервы, я три раза выстрелил из винтовки вверх, объявил тревогу.
Первым прибежал старший лейтенант Григорьев и почти следом за ним пришли Гамальдинов и Тихонова. За объявление ложной тревоги меня отвели на гауптвахту к Путро. Я лег рядом с ним и, закрывшись толстым слоем сена поверх шинели, сразу же крепко уснул, не думая о последствиях. Разбудила нас повар Аня. Она принесла нам завтрак. Пока мы ели, она ласково нам говорила: «Я буду просить вас на поруки, днем работать на кухне». Путро ей сердито ответил: «Не делайте глупостей, дайте нам хорошо отоспаться». Аня ушла от нас в подавленном настроении. После обильного завтрака мы с Путро нырнули в мягкое душистое сено и снова уснули.
Путро освободили после обеда, так как Тарновский якобы нашел лошадь. Она не походила на прежнюю лишь по полу, но вывески "Тембр" он не снимал и звал ее мужским именем, хотя это была настоящая кобыла.
Путро с большой неохотой уходил с гауптвахты. Он обещался навестить меня при первой возможности. В 10 часов вечера он пришел на пост, а в половине 11-го лег рядом со мной спать. Ночью я его разбудил, но он ушел и снова завалился в кормушку в свободном стойле.
Утром я спал долго. Разбудил меня грубый окрик Григорьева: «Встать». Я вскочил на ноги, поднимая на себе целую копну сена. Стряхнул его и встал под стойку смирно. С Григорьевым был замполит полка Барышев. Он, улыбаясь, сказал: «Вольно» – и сразу перешел на дружеский разговор. «Ну, как дела, старшина». Я продолжал стоять по стойке смирно, ответил: «Отлично, товарищ подполковник». Командир роты Григорьев расхохотался. Часто глотая при смехе слова, сказал: «Лучшей жизни товарищ подполковник не придумает. Спит – сколько душа пожелает. Кормит лично повар Аня. Она взяла над старшиной шефство, приносит ему завтрак, обед и ужин, никому не доверяя. Даже мои распоряжения не выполняет. Придется и ее сажать на гауптвахту, и она согласится при условии – вместе с ним».
Барышев с улыбкой ответил: «Молодость горяча, а иногда и безрассудна, – а затем серьезно заговорил, обращаясь ко мне. – Что с вами, старшина. Я вас не узнаю. Почему-то считал вас дисциплинированным, выдержанным, как бывшего и будущего офицера Красной Армии. Я хорошего мнения о вас по операции под Новгородом, хорошо знаю вас как разведчика взвода разведки. Когда мне доложили, что вы под арестом, я не поверил и решил лично проверить. По моей личной рекомендации вас как бывшего офицера, может быть, незаслуженно лишенного звания, назначили старшиной батальона. После перевели во взвод разведки, где вы оправдали наше доверие. Я думаю, что в вас не ошибся».
От его ласковых слов у меня на глазах появились слезы, и я, как женщина, готов был расплакаться. Барышев сделал паузу. Воспользовавшись ей, я отпарировал: «Извините меня, товарищ подполковник, клянусь жизнью, больше ничего подобного не будет. Разрешите вам задать один нескромный вопрос».
Лицо Барышева вытянулось, и он очень серьезно протянул: «Пожалуйста», догадываясь о моем вопросе.
«Почему меня так неожиданно выгнали из взвода полковой разведки?» Лицо Барышева побагровело, и он, сдерживая себя, ответил: «Вас не выгнали, а временно перевели. Из армии в войну никого не выгоняют, и вы знаете, что делают, объяснений не требует. Произошло небольшое недоразумение, а может быть так и надо. Вам выразил недоверие начальник особого отдела, после того как двое из противотанковой батареи ушли к немцам, захватив с собой замки от двух орудий».
Я с горечью ответил: «Не верит, ну и пусть». «Не принимай близко к сердцу, все это временно. На твое место в транспортную роту пожелали бы многие с переднего края да с взвода разведки, так что береги свою жизнь, она еще пригодится для более ответственных дел и операций. Вы лучше расскажите, за что вас посадили на гауптвахту».
Командир роты Григорьев строго посмотрел на меня, дал понять – молчи. Я ответил: «Виноват, на шестом часу стояния на посту объявил тревогу. Что-то показалось подозрительным» – и показал на заросли молодой ели.
Барышев укоризненно посмотрел на Григорьева, но ничего не сказал. На целую минуту воцарилась тишина, все молчали. Первым проговорил Григорьев: «Вы свободны». Я отрапортовал: «Есть быть свободным» – и, повернувшись, пошел к лейтенанту Гамальдинову за ремнем, обмотками и винтовкой.
Гамальдинов стал ко мне относиться заискивающе дружелюбно. Недоверия с его стороны больше не было. Наши отношения стали хорошими.
Поступило экстренное распоряжение командира полка – доставить какой-то секретный груз с железнодорожной станции на передний край. В сопровождении Гамальдинова выехали на двух лошадях в 14 часов. Расстояние от нашего расположения до станции 15 километров, а от переднего края – 20 километров, из них 3 километра болотами по деревянному настилу.
Меня вооружили автоматом, тремя лимонками Ф-1. Григорьев велел зорко следить за окружающим, так как на обратном пути на передний край мы должны проехать поздно вечером, а может даже ночью.
На станции одну повозку загрузили тяжелыми длинными деревянными ящиками, другую – продуктами. Пара сытых коней легко тронулась с места, но на небольших пригорках вкладывала всю силу. Воз с ящиками был тяжелым. Ездового с продуктами Гамальдинов отпустил, он поехал впереди и быстро скрылся из виду. Ездовой с Гамальдиновым ехали, а я шел пешком позади, в 10-15 метрах от брички. Лошади ступали тяжело, двигались со скоростью не более 4 километров в час. К болоту с деревянным настилом подъехали ночью, в 23 часа. Ездовой объявил, что лошадям надо отдохнуть.
Я попросил у Гамальдинова разрешения пойти вперед и дожидаться их где-то в 1,5-2 километрах, то есть на середине дороги из деревянного настила.
Гамальдинов сначала колебался, но после моих обоснованных доводов согласился. Я почти бесшумно прошел около 2 километров и сел на пень на обочине. Через несколько минут по настилу затарахтела бричка с грохотом, доносившимся на несколько километров. От усталости мои глаза, не подчиняясь сознанию, закрылись сами. До слуха донесся сдавленный разговор, похожий на команду. Я напряг свой слух. Были слышны осторожные шаги, шорох ветвей и редкий треск хвороста. Кто-то шел по дороге. Я спрятался за стволом толстой ели. Автомат снял с предохранителя, держа гранату в правой руке. Три человека, не доходя 10-12 метров до меня, замаскировались почти на самой обочине. «Немцы», – пронеслось у меня в сознании.
Бричка продолжала тарахтеть по настилу дороги, она была уже недалеко, как послышалась тихая немецкая речь. Вдали показались силуэты лошадей, вот они приблизились на 50-60 метров. Надо действовать. Я бросил две гранаты в предполагаемое место, где залегли немцы, и спрятался за ствол ели. Два человека вскочили, побежали в лес, на ходу стреляя по дереву, за которым стоял я. По убегающим я стрелял длинными очередями, но не попал, немцы скрылись. Обойдя более полукилометра, я подошел с другой стороны к месту, где маскировались немцы. Один немец лежал мертвый. На всякий случай я потрогал грудную клетку, работы сердца слышно не было. Взял его руку, она была холодной, пульс отсутствовал.
Я вышел на дорогу, лошади стояли, ни ездового, ни Гамальдинова у повозки не оказалось. На мой крик никто не отозвался. Когда я подошел к бричке и крикнул, из леса показались Гамальдинов и ездовой. «Слушай мою команду», – сказал я. Приказал положить на повозку мертвого немца и его оружие. Гамальдинову держаться в 50 метрах от повозки сзади. Сам пошел впереди в 100-150 метрах. Переднего края достигли, груз сдали вместе с мертвым немцем и в 3 часа ночи вернулись в расположение роты.
На следующее утро Гамальдинова вызвали в штаб полка, что он там говорил, для меня неизвестно. Через три недели на его груди сверкал орден Красной Звезды. С тех пор он ко мне стал относиться с уважением и большой заботой. Часто со мной советовался. Командир роты Григорьев тоже теперь по-человечески со мной разговаривал, взгляды его на меня изменились.
Моя жизнь в транспортной роте вошла в колею. На пост, как раньше, каждый день я не ходил. В ночное время лошадей не пас. Стало много свободного времени.
Недоверия я больше не ощущал. Часто ходил с поручениями в штаб полка. В середине июня по пути туда встретил комбата Шишкина. Встал по стойке смирно, уступив ему тропинку, и поприветствовал. Шишкин остановился, сказал «Вольно» и по-дружески протянул мне руку, спросил: «Где, старшина, служишь?»
Я по-военному ответил: «В транспортной роте, товарищ старший лейтенант». «Нет, уже капитан, товарищ старшина», – возразил Шишкин. «Разрешите вас поздравить с присвоением звания», – с оживлением проговорил я. Шишкин сказал: «Спасибо». Посматривая на меня, удивленно спросил: «Почему ты в транспортной? Ты же был в полковой разведке?» «И сам не знаю почему, по-видимому, черное пятно с плена с меня долго не смоется», – ответил я. «О, да, помню-помню, когда ты еще был в моем батальоне, замполит Скрипник говорил про плен, – сказал Шишкин. – Прошу, если не спешишь, присядем, расскажи о себе». Мы отошли от тропинки на 10-12 метров и сели на лужайку. Коротко рассказал свою заученную биографию с начала войны.
Шишкин очень внимательно выслушал. После небольшой паузы сказал: «Пойдем ко мне командиром пулеметного взвода». Я ответил: «Очень рад за доверие, согласен, но только вряд ли из этого что-то получится». Шишкин возразил: «Сейчас пойду к командиру полка, и вопрос будет решен».
Мы встали и вместе пошли в штаб полка. Я сдал рапорт командиру роты, дежурному офицеру, вышел и лег на лужайку в ожидании Шишкина.
Через 15 минут он вышел, по его угрюмой физиономии я понял, что ему отказали. Шишкин подошел ко мне и глухо проговорил: «Ты прав, ничего не вышло. Командир полка в принципе не возражал, а когда вызвал начальника штаба Басова, тот ответил – подписан приказ о назначении старшим команды подсобного хозяйства. Но не вешай головы, я еще раз попробую, вопрос будет решен».
Пока он говорил, я еще раз внимательно рассмотрел его лицо и фигуру, как же он был похож на Виктора Шишкина, с которым мы вместе бежали из плена, воевали в партизанском отряде. Выдержки у меня не хватило, я спросил: «Извините за нескромность, у вас есть брат?» Шишкин смутился, ответил: «Да. Зовут его Виктор. Он погиб еще в 1941 году, в начале войны пришла похоронная». «Если только этот Виктор ваш брат, то он жив и здоров, воюет в партизанском отряде. Родом он из Кирова». Шишкин вздрогнул всем телом, лицо его покраснело, и он сказал: «Все сходится». Он попросил рассказать, как выглядит Виктор. Я коротко обрисовал: среднего роста, широкоплечий, с выдавшейся вперед грудной клеткой, с длинным туловищем и короткими толстыми ногами. Прямой широкий нос посажен на скуластом лице. Большие серые глаза. Лоб высокий, но затылок чуть сплюснутый. Шишкин чуть слышно пробурчал: «Он». Подал мне на прощание руку и ушел.
В расположение роты я шел медленно, в голове роилось много хороших и плохих мыслей. В основном все сводилось к догадкам, куда же меня хотят перевести. Войдя в домик командира роты, я доложил: «Задание выполнил, бумаги передал дежурному офицеру». Только после доклада я заметил, что у Григорьева сидел пожилой старший лейтенант, в нем было что-то знакомое.
Григорьев сказал: «На помине ты легок, только что разговор вели о тебе, а сейчас его продолжим. Тебя назначают старшим команды, которую создает старший лейтенант Ефимов Евгений Иванович. Ты переходишь в его полное распоряжение. При его отсутствии будешь подчиняться Гамальдинову. Старший лейтенант Ефимов назначен начальником подсобного хозяйства нашего полка». Улыбаясь, Григорьев добавил: «Не выходишь и из моего подчинения». «В твоем распоряжении, – сказал Ефимов, – будет пока семь человек, потребуется больше, добавим». «Чем же мы будем заниматься?» – спросил я. «В основном заготовкой кормов для полка, то есть сена и веников. Пока трава не выросла, готовьте веники на корм и ловите рыбу в Волхове. Бредень и сети со временем приобретем, а пока дадим небольшой 15-метровый, – ответил Ефимов. – Тебя на постоянное место расположения отведет лейтенант Гамальдинов. Землянки там хорошие, ремонта не требуют. Вот, кажется, и все, а сейчас иди и собирайся с вещами». Я отрапортовал: «Есть идти», повернулся, стукнул каблуками и вышел.
В мое распоряжение дали вместо семи троих: старика Корякина, саратовского грузчика Трошина, совершенно глухого после контузии, и сибиряка Гаврилова, здоровенного 27-летнего парня.
Мы получили сухих продуктов на неделю. В сопровождении Гамальдинова выбрали недалеко от Волхова большую землянку с сохранившейся железной печкой. Она была расположена почти на самом берегу небольшой реки, впадающей через 300 метров в Волхов. С землянки была видна сожженная дотла железнодорожная станция Андреевка. Для нас началась курортная жизнь. Ежедневно вечером мы ловили по два-три ведра рыбы. Варили ее, жарили и пекли. В 2 километрах от нашей землянки располагался медсанбат. С первого же дня установили с ним дружественную связь. В обмен на рыбу медики давали нам хлеб, сахар, картошку, а иногда и спирт. Для закрепления тесной дружбы ребята у них украли невод, без пользы висевший на заборе. Ловля рыбы была организована по всем правилам, стали ловить уже пудами. Для себя и на обмен с медсанбатом выбирали покрупнее, остальную отправляли в полк. Через неделю за спанье на посту прислали нам Путро, выздоравливающего Моисеева. Нас стало шестеро. Днем мы на совесть вязали веники из молодой поросли березы, ивы и липы. Перед обедом купались и загорали, вечером ловили рыбу. Кругом шли упорные бои, а под Киришами отдыхали не только мы, но и вся наша 80 дивизия.
Был полный штиль, как говорят моряки. При нормальных условиях жизни время бежало быстро, подросла трава, наступила сенокосная пора. К нам в команду добавили 12 человек, и нас стало 18.
Вместе с ними пришел сержант Бахарев, он был прислан из ПФС полка. Почему-то себя он определил старшим всей команды. Спорить из-за должности я не стал, но знал, что меня от этого никто не освобождал. Все указания и команды от Ефимова и транспортной роты шли на мое имя, но из-за скромности я ему уступил свое первенство.
Мы приступили к сенокошению. Из 18-ти косцов нашлось только шесть. Оказалось, большинство косы в руках не держало. Отбивку и правку инструмента возглавил Моисеев. Он искусно отбивал и правил, то есть лопатил косы. Косил он медленно, но его коса, как бритва, срезала все, лишь оставляя еле заметную стерню. Я умел косить первобытной горбушей, которая прочно привилась только в части Кировской области. Обыкновенную косу у нас часто называли литовкой. При каждом взмахе, но вслух этого не говорил, так как боялся солдатских насмешек, я думал: если ее называют литовкой, значит, она произошла в Литве, но тут же в голову приходила другая мысль, литовка – литая, а не кованая.
Косить литовкой мне было тяжело из-за неумения. На руках быстро образовывались болезненные кровяные мозоли. Сильная боль была особенно ощутима утром. По мере взмахивания косой руки постепенно разминались и теряли чувствительность.
Мне, как старшему группы, надо было показывать пример, поэтому, надеясь на выносливость и физическую силу, я шел впереди. К счастью, в первую очередь косили тимофеевку на полях. Она была редкой, косить ее было легко, на ней я освоился с литовкой. Нам была установлена норма кошения 0,25 гектара. Сгребание в валы – 1 гектар.
Перешли в пойменные луга Волхова, где трава была густая, полная, даже по росе коса с большим трудом прокашивала всю ширину захвата. Норма на пойменных лугах осталась старой. Косить начинали с 3 часов утра, работали до 8-ми. С 8 до 13 часов завтракали, отдыхали и обедали. Затем сгребали сено, копнили и стоговали. Работал плохо один Путро. Он не выполнял и 50 процентов нормы. Жаловался на болезнь спины, ног и рук, но зато усердно пел песни, преобразуя их на свой лад.
Раз в неделю нас навещал командир транспортной роты Григорьев. Часто приезжал с ним и замполит полка Барышев. Наш непосредственный начальник Ефимов уехал за пополнением – узбеками и таджиками. Дела у нас шли отлично, погода позволяла. Стога сена росли на лугах и в расположении транспортной роты в лесу.
Работа спорилась, трудились все, даже часто посещавший нас лейтенант Гамальдинов с азартом кидал сено вилами на повозку или стог. Бездельничал один Бахарев. Ловил удочкой рыбу, загорал на песке на берегу Волхова, купался. Полезным трудом он занимался раз в неделю, получал для всей команды продукты и привозил их.
Бахарев обладал хорошим качеством – мог спать по 15 часов в сутки. Ему достаточно было лечь, как сами по себе закрывались глаза, и он видел приятное сновидение.
Стоял яркий июльский день. Мы сгребали в валы сено, копнили и стаскивали на деревянных шестах в стог. К вечеру пришел Бахарев. Он напомнил, что на данном участке работу надо закончить сегодня, так как ожидается дождь. Бахарев сел на кочку и, выбрав удобную позу, уснул в полусогнутом положении.
Мы спешили, таскали сено и кидали его вилами в стог. Раздался писклявый голос Путро. Он бежал и кричал: «Змея, змея». Я остановил его и крикнул: «Назад». Путро остановился, дрожащей рукой показывал и говорил: «Вон там». Я вернул его, он с неохотой пошел за мной, не доходя 10 метров, сказал: «Вон» – и снова ринулся убегать.
На кочке лежал, свернувшись кольцом, здоровенный уж и грелся на солнце. Я взял его за шею, встряхнул и направился к спящему Бахареву. Откинув голову назад, с полуоткрытым ртом он крепко спал. Пуговицы ворота гимнастерки были расстегнуты. Я одной рукой отделил половину ворота, из другой руки выпустил под гимнастерку соскучившегося по свободе ужа, который в одно мгновение скрылся под одеждой. Сам быстро отскочил в сторону, сделав деловой вид.
Бахарев через минуту почувствовал холодного ужа. Сначала, как подобает после приятного сна, потянулся, приводя в жизненное состояние свое тело, затем из гортани вылетел звук, похожий на рев осла, он подпрыгнул всем телом, почти не опираясь ногами и руками о землю, на высоту более 1,5 метра. С быстротой застигнутого врасплох зайца вскочил на ноги и, как балерина, закружился в вихрастом танце на месте, издавая нечленораздельные звуки. Во всю силу легких начал кричать: «Змея, змея, спасите».
Работать все бросили, сбежались к Бахареву и, надрываясь от смеха, окружили его. Вместо сожаления, оказания помощи и сочувствия бездельник увидел насмешки и злорадство, поэтому взял себя в руки, дрожащими пальцами расстегнул ремень и рывком выдернул из-под брюк майку.
Не ожидавший такого поворота уж, в последний раз скользнув по пухлому телу Бахарева, упал на землю и как ни в чем не бывало пополз в ближайшее убежище.
Увидев ужа, Бахарев закричал: «Мама, спаси, Господи. Я умру, она меня укусила», затем быстро заработал отдохнувшими ногами и скрылся за крутым берегом реки. Все люди команды, надрываясь, со слезами на глазах хохотали, хватаясь за животы. В это время никем не замеченный пришел старший лейтенант Ефимов. Увидев его, я крикнул: «Смирно». Отрапортовал: «Команда в количестве восемнадцати человек убирает сено». Ефимов сказал: «Вольно. Вижу, чем вы занимаетесь. Продолжайте работу». Все разбежались по своим местам. Я тоже хотел уйти, но Ефимов сказал: «Вы останьтесь». Затем строго посмотрел на меня и грубо заговорил: «Кто посадил Бахареву под рубашку ужа? Почему вокруг него собрали всех?»
«Я посадил, потому что он лодырь и тунеядец. Работать не хочет, корчит из себя начальника, но его на это никто не уполномочивал. Он просто самозванец. Народ вокруг него я не собирал, все пришли сами, и это неплохо. Люди от души нахохотались и, как видите, работают, не жалея своих сил».
Ефимов улыбнулся и мягко проговорил: «Успокойтесь, волноваться вредно». Он достал из кармана пачку папирос, протянул ее мне, ласково проговорил: «Возьмите». Я взял папиросу, пачку протянул обратно Ефимову, но он снова сказал: «Возьмите всю пачку».
Вдыхая в глубину легких ароматный душистый дым "Беломорканала", я как бы подавился им, с большим трудом выдавил его из себя.
«Считаю, что поступок правильный и пойдет на пользу», – сказал Ефимов. Улыбаясь одними глазами, медленно, почти по слогам проговорил: «Я его заставлю работать вместе со всеми». «Давно пора», – ответил я.
Неторопливо подошел Бахарев. Он успокоился и был доволен, так как укусов не обнаружил, отлично покупался в теплой воде Волхова. Подойдя к Ефимову вплотную, Бахарев сказал: «Все в порядке, товарищ старший лейтенант, все работают». Лицо у Ефимова сделалось багрово-красным, вытянулось, и он крикнул: «Вы за кого меня принимаете? Смирно! – Бахарев вытянулся по стойке смирно. – Кругом, шагом марш». Бахарев с неохотой, но команду выполнил.
«Теперь вернитесь, доложите», – крикнул вслед Ефимов. Бахарев снова подошел, лениво приложив руку к пилотке, доложил: «Команда в полном составе занимается уборкой сена». Ефимов спокойно выслушал и спросил: «Вы, сержант Бахарев, до войны в армии служили?» «Нет», – ответил тот. «Когда призвали в армию?» «В декабре 1941 года». «Где проходили службу?» «Все в 77 стрелковом полку в ПФС». «Кто тебя назначил старшим команды?» «Начальник ПФС, старший лейтенант Айзман». «Чем вы занимаетесь?» – задавал вопросы Ефимов. «Руковожу командой», – отвечал Бахарев. «Но ведь вы на это никем не уполномочены. Руководит командой старшина Котриков, ему это поручено командованием полка. Поэтому приказываю вам все команды Котрикова безоговорочно выполнять».
Обращаясь ко мне, Ефимов спросил: «Почему не заставляете работать, старшина?» Я доложил, что Бахарев по прибытии в команду объявил себя командиром, формально руководство взял на себя, фактически не руководил, а исполнял роль каптенармуса и отдыхающего на лоне природы: спал, купался, загорал и ловил рыбу. Я еще хотел высказать накопившееся, но Ефимов перебил: «Мой приказ ясен для вас обоих. Котриков может не работать, а руководить». «Ясно», – ответил я. Бахарев, надувшись, молчал. «Ну что, товарищ Бахарев, пошли работать, хватит дурака валять», – наивно громко сказал я.
«Я буду жаловаться, – не выдержав, крикнул Бахарев. – Не имеете права командовать мной. Я подчиняюсь только начальнику ПФС». Ефимов снова побагровел и крикнул: «Молчать! Выполняйте мое распоряжение. Шагом марш на работу».
Я идущему рядом Бахареву с иронией сказал: «Ты, сержант, жаловаться можешь. Такого права у тебя никто не отнимает, но в то же время бери вот эти деревянные вилы и начинай подавать сено в стог».
Бахарев, краснея, взял вилы, под устремленные на него взгляды начал усердно подавать сено в стог. Работа кипела, к вечеру почти все сено было застоговано, и команда утром перешла к новому месту жительства, в лесные деревянные домики, сделанные руками солдат, примерно в 5-7 километрах от великого Волхова.
Бахарев через два дня из команды исчез и появился снова удрученный. Все мои распоряжения стал выполнять безоговорочно. Ребята над ним часто подтрунивали, но я не показывал вида и не поминал о его самозванстве.
Жили все в одной деревянной избушке. Часовых и дежурных не выставляли, все работали. Такое было распоряжение Григорьева и Ефимова. Под свою личную ответственность с 22 до 3 часов ночи я выставлял на пост человека, и мои опасения подтвердились.
Со второй половины июля ночи стали заметно темнее и прохладнее. Лето уступало дорогу осени. В лесу появились в большом ассортименте и количестве грибы. Каких только не встретишь: белый, подосиновик и подберезовик, сыроежка, рыжик, волнушка, груздь, опята, шампиньоны и яркие нарядные мухоморы. Все это наполняло лес своими запахами. Грибы в меню были первым и вторым блюдом.






