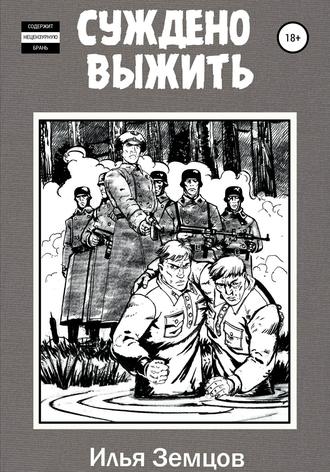
Илья Александрович Земцов
Суждено выжить
Вернер не сказал, а прорычал: «Немедленно найти!»
Врач Иван Иванович скрылся на минуту и, выходя, тихо доложил: «Он мертв». Переводчик и комендант не поверили, быстро скрылись и мгновенно вернулись из-за тесовой перегородки и громогласно объявили: «Виновник построения Вася Пономарев умер».
Все невольно потянулись к пилоткам. Как магнитом стянуло со всех голов головные уборы. Даже немцы, комендант, его помощник и конвоиры на мгновение сняли.
Первым спохватился комендант Вернер, он тут же надел и визгливо закричал: «Надеть головные уборы!»
Переводчик перевел, но все стояли, хмуро смотрели и в первый раз не выполнили приказ коменданта. Он бегал, горячился, бил подряд по щекам, но люди стояли, как каменные истуканы, по стойке смирно с высокоподнятыми головами.
Рука его быстро устала, он приказал разойтись. Люди расходились, высоко держа головы без пилоток.
Виктор Каширин сидел у печки, низко опустив голову, о чем-то думал. В строй ему становиться было запрещено. За ним все время наблюдали два волчьих глаза коменданта Ивана Тимина.
Люди разошлись и скрылись за тесовыми перегородками. Комендант Вернер с помощником потоптались на месте одно мгновение, смотря в сторону печки, затем круто повернулись вместе с конвоирами, выколачивая тяжелыми коваными сапогами по деревянному настилу барака, вышли.
Тимин с врачом Иваном Ивановичем ушли в свою келью. В бараке воцарилась тишина. Храбрый поступок и смерть Васи Пономарева удручающе действовали на обреченных людей.
Павла Меркулова в тот вечер не было в лагере. Он вместе с Темляковым дежурил в машинном отделении мельницы и электростанции. Сильно хлопая, выпуская кольцами дым в трубу, стучал двигатель. Дрожали не только окна машинного отделения, кажется, дрожал и весь мельничный корпус. Из-за шума ничего не было слышно. Через каждые пять минут дверь машинного отделения открывалась и закрывалась, внося в теплое помещение струи холодного воздуха.
Это входили и выходили немецкий патруль и часовой мельницы. Они заходили по очереди, закуривали, глотали с наслаждением дым, затем плевали на оставленный окурок сигареты и прятали его в карман.
Сатанеску в этот вечер много раз заходил в машинное отделение, как бы намереваясь что-то сказать. По минуте стоял, смотрел на Меркулова, а затем, как бы раздумав, шел к себе в комнату наверх.
Когда Сатанеску уходил, Темляков подмигивал Меркулову и на ухо кричал: «Твой шеф и фрицы надумали покинуть наши гостеприимные холодные земли» – и заливался веселым смехом. Павел Меркулов говорил ему в ответ: «Не к добру, парень, смеешься. После веселья всегда слезы близких».
После окончания смены, в 10 часов вечера, Темлякова и еще трех человек доставили в лагерь.
В бараке было оживленно, вокруг печки шла торговля хлебом, сигаретами, тряпками и ботинками. В товарообмене участвовали деньги – русские рубли, немецкие марки и французские франки. Где вся эта денежная валюта бралась, трудно даже предположить.
Среди коридора барака под электрической лампочкой в двух местах играли в очко в карты на деньги. Активное участие в игре принимал Аристов Степан. Виктор Каширин был безучастен ко всему. Он сидел у печки, низко склонив голову, его никто не тревожил. Люди подходили к печке, просили погреться, грелись и уступали свое место следующему пришедшему.
Виктор не обращал никакого внимания на часто сменяющихся соседей. Зато за ним внимательно следили две пары глаз, то из одного, то из другого конца барака. По приказу коменданта все время посменно следили Иван Тимин, переводчик Юзеф Выхос, обер кох Хайруллин Галимбай.
Степан Аристов первым обнаружил это дежурство. Он шепнул Саше Морозову, чтобы передал Каширину: «Пусть лезет на потолок барака по моему сигналу. Сигналом будет служить прекращение игры в карты и выключение света».
Саша Морозов подошел к печке и занял очередь на место рядом с Виктором Кашириным. С другой стороны Виктора место занял Темляков. Морозов шепотом сказал Каширину: «Не вешай головы, действуй, за тобой следят. Следи за Аристовым. Прекратит игру в карты, приготовься, уходи от печи. Аристов отвлечет внимание шпионов».
Каширин поднял голову и в знак согласия качнул головой, Темляков и Морозов освободили место ожидающим. Морозов ушел поближе к выключателю. Темляков остался стоять недалеко от печки. Степан Аристов встал и скомандовал: «А ну, ребята, пора кончать». Многие говорили, что еще немного, кона два и все.
«Все», – крикнул Степан и пошел к стоящему на посту шпиону, переводчику Выхосу. Он заигрывающе попросил дать покурить, заслоняя собой сидящих у печки. У Выхоса задрожала нижняя губа, он крикнул Степану: «Вон отсюда». Но Степан ему поднес под нос кулак и сквозь зубы проговорил: «Иди отсюда, Иуда, в свою келью, пока у тебя вместо носа не получилась масса мяса, перемешанного с соплями».
Выхос неуклюже попятился назад, затем по-военному обернулся назад и скрылся в своей комнате. Тут же появился с Хайруллиным Галимбаем. Не доходя трех шагов до Аристова, Хайруллин крикнул: «Уморю голодом». В это время погас свет. Переводчик Выхос бросился к выключателю, не доходя до него 5 метров, Саша Морозов нанес ему приличный удар в челюсть с подножкой.
Выхос плашмя растянулся на полу, но тут же вскочил на ноги, трусливо изо всех сил побежал в свою комнату, на пути сшиб двух человек, налетел на Аристова, который пинком помог ему по-пластунски доползти до своей комнаты с глухими стонами "спасите".
На помощь прибежали Хайруллин Галимбай, его брат Изъят, Ахмет и Мухаммед. Выхос, как большая ценность, был внесен в комнату и положен на кровать.
Свет загорелся через 10 минут после выключения. В коридоре барака никого не было, кроме Каширина Виктора, который сидел у печки в том же безучастном положении.
В одно и то же время из комнат, расположенных в противоположных частях барака, выглянули два человека: Тимин Иван и Хайруллин Галимбай. Увидев у печки Каширина, оба улыбнулись. На их сердцах стало легко. Жертва, обреченная на завтрашнюю смерть, не защищается, то есть бежать не собирается.
Выхос лежал на кровати, стонал, на вопрос Галимбая «Кто тебя?» ответил: «Сам запнулся и упал».
Хайруллин с татарской находчивостью быстро оценил обстановку. Он догадался, что его друг Юзеф не запнулся и упал, а кто-то приложил сильные руки. Он приказал Изъяту, Ахмеду и Мухаммеду по очереди следить за Кашириным, на всякий случай. Сообщил об этом Ивану Тимину, чтобы он спал спокойно. Тяжело на сердце было у Аристова, Морозова и Темлякова. Они по-азиатски сидели на нижних нарах, курили одну сигарету, которая сначала переходила из рук в руки их троих, затем к ней из темноты потянулись руки, и она безвозвратно ушла. С каждой затяжкой огонек вспыхивал ярко, сигарета становилась все меньше и затем, обжигая губы, сгорела дотла.
Остерегаясь неспящих людей, они рассказывали друг другу разные истории из жизни, выходили по очереди взглянуть на еле тепленькую печку, так как в ней все прогорело, и на Виктора, сидящего в одной позе.
Гриша Темнов шептал на ухо Морозову, как он выключил свет. Морозов его спросил: «А кто же включил свет?» Гриша ответил, что не знает, но когда свет был включен, он недалеко видел врача Ивана Ивановича. По-видимому, он и включил свет.
«Пора, братцы, спать, – сказал Морозов, широко раскрывая рот. – Утро вечера мудренее».
«А его, по-видимому, не воскресить, – Темляков глубоко вздохнул и полушепотом добавил. – Человек решил добровольно умереть, как под гипнозом». «Спать, спать, братцы», – снова сказал Морозов.
В 6 часов утра Иван Тимин, как и всегда, стуком железного обрезка о кусок рельсы, подвешенной в бараке, объявил подъем.
Люди медленно выходили из-за дощатых перегородок, шли к топящейся печке, терли руки, крутились около нее, подставляя разные части тела теплу, затем шли к умывальнику, умывались нагретой водой. Грели у печки портянки, переобувались. Ждали команды на завтрак. Холодное время медленно, но шло.
С приходом коменданта Вернера объявили о завтраке. Повара в специальном деревянном ящике с приспособленными ручками принесли хлеб, нарезанный на кусочки в 250 грамм. Норма хлеба с нового 1942 года была увеличена на 100 грамм. Вместо 150 грамм стали получать 250. Люди, выйдя на улицу, становились в очередь. Сам комендант Вернер давал по кусочку хлеба, его помощник Гувер из ведра клал на хлеб пол-ложки повидла, повар Митя Мельников, маленький, верткий, с черными цвета смородины глазами, наливал по пол-литровому черпаку травяной заварки. Рядом с ним стоял Хайруллин Галимбай, следил глазами то за выдачей хлеба, то за черпаком Мельникова. Когда все здоровые получили, последними подошли Тимин Иван и врач Иван Иванович. Врач объявил столько-то больных, на сей раз Вернер поверил, не пошел пересчитывать, выдал хлеб и наложил в алюминиевую кружку повидло. Врачу пайку дал отдельно.
Иван Тимин получал две пайки хлеба, он получил на себя две, и Вернер дал две Каширину. Затем отсчитал поварам, переводчику, кухонному рабочему Хайруллину Изъяту, на оставшийся в ящике хлеб водрузил остатки повидла из ведра, приказал Мельникову и Хайруллину Изъяту в сопровождении своего помощника отнести на склад.
Раздалась команда "Выходи строиться". За воротами из колючей проволоки топтались конвоиры, шевеля соломенными ботами. Люди выходили и строились. Небо было покрыто сплошными темными облаками с белесыми полосами. Летели редкие снежинки. Мороз заметно отступал, слабел.
Когда все выстроились, с дощатой кухни вышел комендант Вернер, тщательно всех пересчитал, врач доложил о живых, больных – 12, умерло четверо. Вернер сморщился, вся его физиономия выразила недовольство. Он спросил врача: «Почему так много умерло? В лагере созданы условия. Баня, прибавлено хлеба и похлебки». Иван Иванович ответил машинально: «Полное истощение организма». Но Вернер ничего не понял и спросил, где переводчик. Иван Иванович положил ладонь на челюсть, покачал головой, то есть мимикой дал понять – болят зубы.
Вернер зарычал, показал пальцем на Ивана Тимина, приказал ему немедленно привести переводчика. Услужливый Тимин улыбался, говорил: «Я, я», но из сказанного ничего не понимал. Вернер побагровел, сжал кулаки. На выручку пришел врач Иван Иванович: «Он сказал, немедленно беги за переводчиком». Тимин побежал в барак и через 3 минуты появился вместе с переводчиком.
Юзеф Выхос, выдававший себя за белоруса, был типичный еврей. Об этом знали и немцы, но по каким-то неизвестным причинам создали для него хорошие условия в лагере и относились к нему как к человеку. Он шел торопливо, чуть-чуть прихрамывая, обе щеки его были забинтованы. Ранее перед строем он ходил выхоленный, всегда тщательно бритый, с оставленными гитлеровскими усиками, гордый. На военнопленных смотрел с презрением, как и немцы. Одевался он со вкусом в утепленную русскую офицерскую шинель, защитного цвета китель и брюки, хромовые сапоги и шапку-ушанку. Сегодня он перед строем стоял испуганный, жалкий, небритый. Уши его ушанки, которые при любых морозах не опускались, были опущены поверх бинтовой повязки. На бравого солдата он не походил, больше смахивал на мокрую курицу.
«Что с тобой?» – спросил комендант. Тот сослался на зубную боль и общее недомогание. Все люди в лагере знали о ночном происшествии. Большинство слышало крики, просьбы о помощи, да и Хайруллин Изъят язык за зубами долго держать не мог. О произошедшем он рассказывал всем, наливая добавку.
Перед завтраком комендант Вернер своим телячьим тупым невыразительным взглядом тщательно обвел Выхоса с ног до головы, сказал: «Идите в барак и выздоравливайте».
Выхос неуклюже повернулся и пошел, и все стоящие в строю люди смотрели на удаляющегося и смеялись одними глазами.
Вернер скомандовал конвою вести людей на работу. Небольшая колонна в 55 человек медленно удалялась от лагеря. Вернер долго стоял, провожал глазами уходящих. Немец думал: «В лагере людей остается очень мало. Если не предпринимать никаких оздоровительных мер, прав этот спекулянт и торгаш-румын, еще немного пройдет времени, и я останусь с поварами, переводчиком и полицаем. На работу посылать будет некого. Меня могут быстро разоблачить, ведь я, Вернер, отчитываюсь и продукты получаю на 1700 человек, а ведь в лагере фактически осталось всего личного состава 73 человека. Пополнения не поступает. Надо перестать экономить мерзлую картошку и дохлятину-конину. Если пополнения не будет, то весной все добро придется выбросить. Мерзлую картошку и конину, подобранную в кюветах на дороге, в Германию не отошлешь. Часть получаемых для военнопленных продуктов – крупы, хлеба, маргарина и мяса – можно отсылать, а остальное менять на ценные вещи, опять же через этого румына. Кажется, румын меня путает своими сетями, но я с ним еще попробую потягаться, а в случае чего доложу о его большой симпатии к русским и этому коммунисту инженеру-электрику. Впрочем, найду что сказать. Мне, Фридриху Вернеру, как члену национал-социалистической партии поверят, а румын что-то не очень почитают. Вояки они, по-видимому, только на языке».
Думы, роившиеся в голове, прервал Иван Тимин. Он громко доложил: «Господин комендант, в лагере хорошо».
Вернер обернулся, он ненавидел этого подхалима и предателя. Он с немецкой прозорливостью подумал: «Сегодня он предает своих русских, но ведь он и нам не предан. При первом удобном случае предаст и меня, и всех немцев. Но пока нам такие люди нужны. Отслужат нам. Мы с ним расправиться сумеем».
Он машинально выслушал непонятный лепет Тимина, кивнул ему головой, что понял, круто повернувшись, направился к себе, в уютную теплую комнату, где прислуживает ему симпатичная русская фрау Тамара. На половине пути вспомнил о вчерашнем беглеце, которого лично доставил высокопоставленный состоятельный офицер. Снова круто повернулся и пошел в лагерь. Чего доброго, эти шляпы-часовые еще прозевают, тогда уж и ему не миновать быть на переднем крае. Там пуля не разбирает. Пли, и Вернер на том свете.
С такими думами он вошел в лагерный барак. Обреченный на смерть беглец сидел у печки. Вернер подошел к нему, посмотрел в упор, хотел что-то сказать, но подходящих немецких слов в запасе не нашел, а русских практически не знал, так как память была слишком слаба. Он обошел кругом печку, заглянул за дощатые перегородки комнат и медленно с мыслями о будущем Германии и своем личном устройстве ушел к себе.
Работа была окончена раньше обычного на два часа. Люди возвращались, еле переставляя ноги. Очень слабых поддерживали с двух сторон и помогали им добраться до лагеря. Аристов, Шишкин, Морозов и татарин Андрей работали в одной группе и шли рядом. В рядах идущих слышалось недоумение: почему так рано гонят в лагерь. Степан Аристов тихо сказал: «Это неспроста, ребята», а затем, сложив два пальца в рот, свистнул, конвоиры заругались, но он показал пальцем на убегающую по полю лису. Конвоиры заулыбались, быстро стащили с плеч винтовки и непослушными от холода руками стали целиться и беспорядочно стрелять, при этом кричали "Fuchs". Пули рикошетили, подымая вихрь снежинок далеко от рыжей плутовки. Она шла с хорошей скоростью и скоро скрылась в полевых кустарниках. При входе в лагерь их встретил комендант Вернер, тщательно пересчитал всех и приказал встать в очередь, получить обед.
Люди получали по полтора литра похлебки и шли в барак. Каширин сидел у печки и при появлении друзей уступил им место.
Не все еще успели поесть похлебку, как раздалась команда: «Выходи строиться». В строй был приглашен и Виктор.
Выстроены были все – здоровые, больные, повара, переводчик и Тимин Иван. Один врач Иван Иванович был отправлен в барак на поиски недостающего человека, но комендант и присутствующие офицеры не собирались его ждать.
Раздалась команда Сатанеску: «Смирно». Затем: «Вольно». Каширину было приказано выйти из строя. Он вышел с военной выправкой, повернулся лицом к строю. Выхоленный немецкий офицер в очках объявил, Сатанеску перевел: «За побег из лагеря военнопленного №814 приговорить к смертной казни – расстрелу. Приговор привести в исполнение». Сатанеску скомандовал Виктору раздеться, повернуться спиной к строю. Он медленно снял шинель, сапоги и повернулся спиной.
Офицер, который его поймал и доставил в лагерь, подошел к нему сзади, в затылок наставил парабеллум и выстрелил три раза. Ноги Каширина подвернулись, и безжизненное тело рухнуло в снег, который в одно мгновение под головой окрасился в алый цвет. Ноги импульсивно искали опоры, затем все тело медленно начало вытягиваться и затихло. Только кровь, пробивая закупоренные от свертывания отверстия, с журчанием вырывалась из тела и струей лилась в снег. В строю все стояли с тяжелым осадком на сердце, опустив взгляд в землю. Зато немецкие офицеры, а их было более десяти, с наслаждением смотрели на свою жертву.
Для них было большим удовольствием расстрелять. Они жаждали крови. Сильная злоба затаилась во многих русских сердцах. Из строя были выведены четыре человека, в том числе Морозов и Шишкин. Они бережно подняли тело Виктора за руки и ноги и по указанию коменданта Вернера понесли за лагерь, где размещались братские могилы. В подготовленную заранее могилу, еще не заполненную трупами, опустили еще горячее тело и медленно пошли к людям, молча стоявшим в строю. Офицеры ушли, скрипя начищенными сапогами по накатанной снежной дороге.
Команду "разойдись" давать было некому.
Вернер расстрелянного сопровождал до могилы. По возвращении к строю он угрюмо пробурчал: «Разойдись». Тимин Иван подхватил и, выйдя из строя, крикнул: «А ну, пошли по местам».
Расстрел удручающе подействовал на всех военнопленных. В тот вечер в лагерном бараке была полная тишина. Никто не играл в карты, не было устроено обменного базара. Люди, задумавшись, молчали.
После совершения столь приятного дела офицеры пригласили Сатанеску пропустить по рюмочке шнапса и поиграть в карты. Их предложение он с удовольствием принял. Они пришли в богатый деревенский дом, жарко натопленный. Офицер, который поймал и расстрелял Виктора, после нескольких выпитых глотков шнапса хвастливо сказал: «Люблю стрелять в живую человеческую мишень». «Много приходилось стрелять?» – переспросил его очкастый, который читал приговор. «Да, не один десяток, но такого, как сегодня, впервые. Это храбрый русский солдат. Он умер, не проронив ни одного слова, ни одного стона, даже вздоха. Я стрелял ему в затылок, словно в статую. У него не дрогнул ни один нерв».
«Что ты хочешь сказать?» – спросил очкастый. «Как бы ты себя вел, если бы тебя стреляли?» Очкастый подполковник грубо оборвал: «Не радуйся зверю, пока шкура не снята. Тебе, мне и многим здесь сидящим, возможно, придется пережить участь сегодняшней жертвы».
Один из офицеров, все время молчавший, сказал: «Война – это хитрое дело. Сегодня мы их, а завтра они нас. Господа офицеры, не паниковать, мы скоро победим». Встал, протянул руку и крикнул: «Хайль Гитлер».
Все вскочили и вытянули руки. «Все же я бы не выдержал при расстреле, чтобы не крикнуть или не дать стрекоча, – сказал тот, который стрелял Виктора, и добавил, – люблю стрелять трусов, ползающих на коленях, людей, просящих помилования».
Разговор продолжался долго. Сатанеску молчал и слушал болтовню пьяных офицеров, которые через год думали покорить весь мир, а своего фюрера поставить единым земным богом.
Сатанеску, ссылаясь на необходимость срочной работы, отделался от назойливых офицеров и ушел в свой угол на мельницу.
Меркулов с работы возвращался поздно. Находил он своих друзей и, поговорив о разном, шел в келью, где жил врач и русский комендант. Иван Тимин юлил перед Меркуловым. Старался угодить во всем. Павел с ним говорил изредка, отвечая на вопросы официальным тоном.
В отсутствии Тимина велись душевные разговоры с врачом Иваном Ивановичем. Он обслуживал не только лагерь военнопленных, но и население. Медикаментов никто не давал, покупать было не на что. Работа большей частью сводилась не к оказанию медицинской помощи, а к раздаче советов.
В присутствии Тимина Павел избегал разговоров, раздевался, ложился на кровать, накрывался жестким байковым одеялом, прикидывался спящим. Иван Иванович раскрывал Библию, надевал очки. Тимин Иван садился поудобнее напротив него, и начиналось чтение замысловатых библейских фраз и их расшифровка. Долго они спорили над каждой фразой. Один говорил, что ее понимать надо так, другой возражал и придумывал свое. Иногда чтение и споры затягивались до второй половины ночи. У Тимина невольно раскрывался рот. Он его крестил, шептал "Господи", ложился одетым и тут же засыпал. Иван Иванович закрывал Библию, ложился, долго ворочался, шепча молитвы.
Вечером в день расстрела Виктора Каширина все трое в комнату вошли вместе. Павел сел на кровать, не раздеваясь, Тимин Иван и врач Иван Иванович сели на свои места к деревянному столику друг напротив друга и молчали. В комнату вошел переводчик Юзеф Выхос. Он попросил Ивана Ивановича сделать тщательный осмотр и оказать помощь.
Иван Иванович с ловкостью профессионала снял бинт, скрутил его в клубок. Правая сторона лица Юзефа Выхоса сильно опухла. Рот был перекошен. Иван Иванович осмотрел и задумчиво сказал: «Здорово тебе кто-то отвесил. Хорошо, что чей-то тяжелый кулак миновал виска. Могло быть и хуже».
Выхос еле шевелил непослушной нижней челюстью. Иван Иванович одной рукой ухватился за нее, другой поддержал с противоположной стороны голову и сильным рывком поставил шарниры на место. Слышен был только глухой хруст. Юзеф Выхос взревел, как кабан под ножом.
«Все, все, – успокаивающе сказал Иван Иванович. – У вас вывих челюсти. Счастлив, если нет трещины».
«Удачный удар, – снова сказал врач. – Чуть выше висок, ниже могли бы повылетать зубы, а этот словно по заказу в самые шарниры челюстей».
Иван Тимин словно от наркотиков очнулся. Сделал большие глаза и раскрыл рот, в полном недоумении проговорил: «Разве тебя ударили, а не сам упал?» Выхос мотнул головой в знак согласия. «Тогда почему ты не скажешь об этом немецкому коменданту?»
Выхос молчал, как бы не находя ответа, затем ответил: «На кого прикажете жаловаться. На первого, кто попадется на глаза?» «Но ты же знаешь, кто тебя», – с горечью сказал Иван Тимин.
Выхос вместо ответа сказал: «А, в самом деле, легче стало, вся боль прошла и, кажется, челюсть стала без боли подниматься и опускаться. Вам советую, господин русский комендант, не горячиться. В этих случаях надо быть выдержанным. Я примерно знаю, кто меня ударил. Если бы я признался Вернеру о том, что меня избили, и показал кто, во-первых, неизвестно, как бы он отнесся к этому известию. Возможно, сказал бы, что удар в челюсть удачный, надо мной насмеялся, что ищу защиты. Во-вторых, мог бы виновного сразу наказать, всыпать 20 или 50 розг. Что думаешь, было бы дальше, из-за каждого угла жди удара. Если даже под горячую руку расстреляли. Ты плохо знаешь жизнь в лагере. Люди начали сплачиваться, оказывать друг другу помощь. Тогда каждый день жди мщения. Тактику своей работы нам тоже надо менять. Открытая вражда к людям создает врагов против нас».
«На твоем месте я бы доложил все-таки коменданту Вернеру. Там в поле трава не расти», – сказал Тимин Иван. Обращаясь к врачу Ивану Ивановичу, спросил: «Как ты думаешь, доктор?» Иван Иванович, не задумываясь над ответом, сказал: «По библейски так. Если ударили тебя по одной щеке, подставляй другую, сдачи не давай». «Надолго ли тебя хватит, если все будут ударять по щекам, да еще с такой силой», – со злобой проговорил Тимин.
Врач сменил тему разговора. Он сказал, медленно растягивая слова: «Чувствует ли сердце матери Виктора Каширина, что ее сын лежит расстрелянный в братской могиле?»
«Чувствует, чувствует, – вмешался Тимин Иван и перекрестился. – Ангелы давно душе его матери сообщили о смерти сына. Она ощущает все это тяжестью всего тела».
Выхосу разговор этот пришелся не по душе. Он пожелал спокойной ночи и ушел. Павел лежал и думал: «Насколько вы продажны, господа немецкие лакеи, настолько и трусливы».
Время идет неумолимо быстро. Безвозвратно проходят дни, тяжелые и радостные. Так они проходили и в лагере.
С сестрой Аней Меркулов встречался редко, от случая к случаю. Немцы разрешили открыть начальную школу, где она учительствовала. Учеба проходила по советским учебникам. Программой и тематикой обучения никто не интересовался. Жила она прямо в школе в маленькой комнатке с подругой-учительницей. Учителям немцы никакого пайка не давали. Жили они помощью населения и обменивали остатки вещей на хлеб и картошку. Павел никому не говорил, что сестра его живет здесь, рядом с лагерем.
Последняя встреча у них была на дороге, когда Павел один шел из лагеря на электростанцию. Он по просьбе Сатанеску был расконвоирован, но ходить мог только по одной дороге, электростанция-лагерь и обратно. Сестра ему призналась, что двое суток они, обе учительницы, ничего не ели. На сердце у Павла после ее слов стало тяжело, но помочь он сейчас ничем не мог.
Вместо ответа у него подернуло влагой глаза, он отвернулся. Аня сказала: «Я тебя расстроила, прости» – и, повернувшись, пошла к себе в школу. Павел пришел к Сатанеску в комнату. Тот пил горячий кофе и читал немецкую информацию о положении на фронтах.
Меркулову взглядом показал на стул и подоконник. Тот разделся и сел. Когда Сатанеску положил газету, Павел сказал: «Виктор Иванович! Я вас очень прошу!»
Сатанеску настороженно посмотрел на Меркулова. Павел повторил: «Я очень прошу!» «Ну что же ты, черт возьми, просишь? – не выдержал Сатанеску. – Говори».
Меркулов продолжил: «У меня здесь живет одна близкая родственница. Она учительствует в школе. Продовольствия нигде не получает и вот уже целую неделю ничего не ела».
Сатанеску задумался, затем нехотя выдавил из себя: «Сейчас война и всех мы с тобой, Павел Васильевич, не прокормим».
У Павла после его слов все внутренние органы как будто отвалились. Продолжалось долгое молчание. Сатанеску посмотрел на убитый вид Меркулова и с напускной наигранностью сказал: «Пойдем, познакомь меня со своей знакомой».
Он сходил в свой магазин, принес 2 килограмма муки, завернутые в желтую оберточную бумагу. Проговорил: «Пошли к твоей знакомой!» Павел сказал: «Мне идти – значит бросать тень на вас в глазах немцев». «Да, ты прав, – подтвердил Сатанеску. – Я схожу один, под предлогом осмотра школы. Пиши записку, чтобы взяла муку».
Павел сел к столу и написал три слова: «Аня, посылаю муку». Сатанеску вернулся через три часа взбудораженный, довольный знакомством с учительницами. Он позвал Павла к себе в комнату и сказал: «Я считаю тебя своим другом, коллегой, но почему ты от меня скрывал, ведь учительница Аня – это твоя сестра?»
Несколько помедлив, снова сказал: «Родная сестра».
Павел начал возражать, но Сатанеску его культурно перебил: «Брось, не оправдывайся и не опровергай. Она сначала мне тоже говорила, что ты не брат ей, а потом призналась».
Жар в лицо кинулся Павлу, он чувствовал, что краснеет, как школьник. Тихо сказал: «Да».
«Я разрешаю тебе, Павел Васильевич, ходить к сестре. Подружка у нее неплохая, симпатичная мадам, притом слишком начитанная. Эрудированная во многих вопросах жизни, науки и техники. С такими передовыми людьми современного русского общества неплохо провести время. Я очень доволен знакомством». Павел мысленно ругал себя, что допустил большую ошибку, познакомил матерого врага советской власти с сестрой.
Он хотел сказать, чтобы Сатанеску об этом никому не говорил, но вовремя спохватился, чем мог бы вызвать подозрение у Сатанеску.
Сатанеску еще долго разглагольствовал по поводу учительниц, их скромной жизни. Обещал выхлопотать для них продовольственный паек.
Вечером работала электростанция, днем беспрерывно молола мельница. Мельничные жернова ежедневно для Сатанеску зарабатывали не менее 100 килограмм муки, которыми он только частично делился с немцами. Очередь для размола зерна была большая, занимали заранее за два-три дня.
Немцам Сатанеску говорил наоборот, что дела его идут очень плохо, у народа хлеба нет. Работавшие на мельнице и в машинном отделении военнопленные при уборке помещения мельницы с разрешения Сатанеску обметали мучную пыль со стен, с пола и уносили в лагерь. Этот дополнительный источник питания поддерживал силы многих ребят.
Темляков, используя право на пыль, иногда запускал руки в мешок с гарнцевым сбором и приносил в лагерь по 3-4 килограмма муки. В результате его друзья стали заметно поправляться. Признаков дистрофии как ни бывало. У Саши Морозова, Виктора Шишкина, Гриши Темнова, Степана Аристова и его друга Андрея морды стали расплываться.
В лагере было трое местных из ближайших деревень. Комендант лагеря Вернер два раза в неделю разрешал свидание с женами. Они получали богатые передачи. Держались все трое обособленно. Дружить ни с кем не хотели. Похлебку с кухни они получали, но сами не ели – брезговали. Выгодно продавали. Остатки продуктов от передач продавались на ежедневном вечернем лагерном базаре. В их компанию был приглашен Иван, танкист. Настоящей фамилии его никто не знал. Он ходил с сожженными полами шинели и в танкистском шлеме. Худой, сгорбленный, обросший редкой светлой растительностью, с длинными запущенными волосами на голове. Его шевелюра походила на поповскую. Напоминала попа после страшного похмелья. На работе он не был более месяца. Ходил он очень медленно, еле передвигая ноги, опухшие, простуженные, укутанные шинельными тряпками и обвязанные веревками. Много товарищей по болезни он пережил. Ими была заполнена не одна братская могила.
Проверяя по утрам больных, врач Иван Иванович и комендант Тимин Иван каждый раз собирались найти танкиста мертвым, а он всем на удивление выходил из холодного угла барака и кричал: «Здравствуйте, доктор и господин русский комендант» – и докладывал, кто из больных умер. Затем по-стариковски вздыхал и говорил: «Завтра мой черед». Сама старуха смерть щадила Ивана-танкиста.
Полгода назад этот 24-летний парень был атлетически сложен: плотный, собранный паренек, командир танка. Сейчас Иван-танкист с каждой новой вырытой объемистой могилой говорил: «В эту могилу первая очередь танкисту». Но судьба играет человеком, вот тут она сыграла в пользу танкиста. Благодаря дружбе Ивана с тремя местными и их подачкам, глаза его заискрились, под жиденькой белой растительностью стал появляться еле заметный румянец. Раздобыл хорошие солдатские ботинки. Выменял или снял с мертвого хорошую шинель. Иван-танкист стал заметно округляться. На работу он не ходил. При команде «Выходи строиться», подражая тяжелобольному, не сгибая ног в коленях, он шел в свой угол, кутался с головой в грязные тряпки. При появлении коменданта Вернера или его помощника Губера он издавал такие стоны, в которых слышались отчаяние и нестерпимая боль. Комендант отворачивался, плевался и уходил восвояси. Как только люди отправлялись на работу, лагерь пустел. Иван-танкист первый вылезал из своей норы и занимал любимое место у горячей печки.






