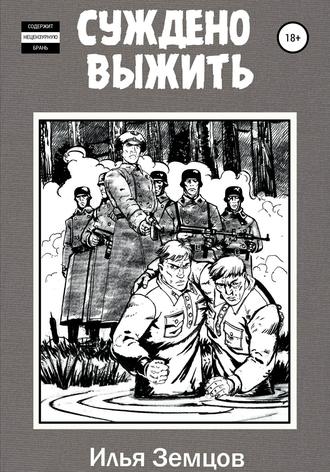
Илья Александрович Земцов
Суждено выжить
У завалившейся землянки стоял Ерофеич, единственный человек, сохранившийся в батальоне, прошедший тяжелый путь из-под Москвы до Новгорода. Он очень гордился своей неуязвимостью от немецких пуль и осколков. Стоял он с обнаженной головой и что-то шептал заветренными сухими губами. Увидев меня, он вытянулся по стойке смирно, но шапку на голову не надел.
«Надо разбирать бревна и откапывать, быстро, Ерофеич, передай командиру роты, чтобы посылал людей».
«Бесполезно, товарищ старший лейтенант, там уже никого и ничего не сохранилось, все перемешалось с грязью», – проговорил, не поднимая головы, Ерофеич. Слова с каким-то свистом вылетали у него из простуженной гортани и легких. Все же мое распоряжение пошел выполнять, но не успел доложить командиру роты, как немцы поднялись в психическую атаку.
Снова пьяные немецкие солдаты шли плотными шеренгами, а некоторые, схватившись за руки, что-то кричали. Отдельных выстрелов и криков не было слышно, все сливалось в единый протяжный вой. «Сволочи, идут, словно на прогулку, – я услышал знакомый голос Клокова. – Ничего не жалеют, ни людей, ни техники, лишь бы захватить эту узкую полоску земли, пропитанную кровью и усеянную тысячами человеческих трупов».
Промахнуться в стрельбе в живые мишени было трудно. Вот они, в 15-20 метрах от нашей линии обороны. «Почему же наши минометы молчат», – подумал я. Но немцы снова не выдержали, залегли, поползли к нам по липкой холодной черной грязи. Снова поднялись на мгновение и тут же залегли. Не выдержав нашего плотного пулеметного огня и ручных гранат, поползли обратно, оставляя сотни человек убитых и раненых.
Стоны тяжелораненых заглушались стоном земли и единым ревом и гулом. Снова атака отбита. За день немцы атаковали пять раз. Подходили вплотную к нашим, в отдельных случаях доходили до рукопашной схватки и, не выдержав, отступали.
Это чуть ли не пригородное место древнего Новгорода называлось Лесной Бор. Но солдаты метко прозвали его – Мясной Бор. Много мяса здесь ежедневно закапывалось в холодную, еще не совсем оттаявшую землю. От леса остались только торчащие высокие пни, они ночью казались каким-то сказочным частоколом, хаотически расположенным по площади.
Патронов и гранат не хватало, мин доставлялось единицы. Участок, занятый нашим полком, считался самым ответственным. Коридор смерти, как его называли солдаты, одновременно являлся и коридором жизни, так как по нему была дорога, снабжающая армию. Все грузы люди несли на своих спинах. Почти ежедневно немцы перекрывали коридор, но на отдельных участках. Наши с большими потерями почти штыками выбивали, и немцы снова откатывались в свои укрытия. Время тянулось беспредельно медленно, хотя днем воздух и нагревался до 8-10 градусов, но в наполовину заполненных водой окопах было невыносимо холодно.
Красноармейцы работали круглосуточно. Стояли, сидели и лежали с автоматами и у пулеметов, зорко наблюдая за передним краем немцев. Рыли канавки для отвода воды из окопов и мелких землянок. Вычерпывали воду из блиндажей и землянок. Люди не снимали ни мокрых шинелей, ни облепленных болотной грязью сапог.
Сырая одежда и размокшая обувь ночью примерзала к телу. О кострах и железных печках в землянках можно было только мечтать, так как каждый квадратный метр нашей линии обороны и всего коридора смерти немцами был пристрелян с большой точностью чуть ли не всеми видами оружия.
Неосторожное курение или прикуривание ночью влекло за собой ранение или смерть. В сырых землянках люди грелись от собственного дыхания. Собиралось в маленькую землянку 10-12 человек, плотно прижимались друг к другу, грелись и стоя спали. Не нагревшись, уходили сменять товарищей в холодные окопы.
Холод, сырость и голод не сломили хорошее настроение отдельных остряков и от природы веселых людей. Слышались остроты и шутки в адрес немцев, да не щадили и своих. Красноармеец Конев, невзрачный на вид, невысокого роста, вечно с измазанным грязью лицом и обросший рыжей густой щетиной, при отбитии атаки немцев первым бросился в контратаку. Так как в магазинной коробке винтовки не оказалось ни одного патрона, он с быстротой лани ринулся на здоровяка-немца и вонзил в него штык по всем правилам военного искусства, вместе с мушкой. Может быть, растерялся или струсил, но штык из немца вытащить обратно при всех стараниях не смог. В течение двух минут, которые показались ему вечностью, стояли с немцем друг против друга. Немец с автоматом на шее с опущенными руками для стойки смирно, на дрыгавшихся как при малярии ногах, поддерживаемый с большим усилием винтовкой Конева, стоял и бесцветными глазами в упор смотрел в глаза врагу, как бы прося пощады.
Помог Коневу командир отделения Воронцов. Он выхватил из рук Конева винтовку. В одно мгновение высвободил штык из тела немца. Возвратил винтовку Коневу и грубо сказал: «Не можешь, не коли». Немец еще некоторое время продолжал стоять, а затем медленно неуклюже упал лицом в грязь. Этот случай с юмором пересказывали. При появлении Конева кидали острые шутки, цитировали басню Крылова "Слон и Моська" или задавали вопросы: может ли теленок съесть волка. Конев все реплики и шутки принимал как должное. Улыбался одними глазами и молчал, как рыба.
Землянка штаба батальона была откопана только спустя два часа после обвала. Заживо погребенные трупы Строкина, писаря и радиста были извлечены.
Ветеран полка да и, наверняка, всей дивизии Ерофеич был не прав. При осмотре трупов было обнаружено, что все трое умерли от удушья. Своевременная откопка спасла бы жизни трех человек.
Несмотря на отвагу и мужество наших людей, коридор в нескольких местах был замкнут немцами и расчленен на несколько звеньев. Отрезанные от снабжения и пополнения отдельные подразделения, чувствуя безвыходное положение, делали попытки прорваться на узких местах, но это удавалось немногим. Вторая ударная армия оказалась в замкнутом кольце уже в глубоком тылу немцев.
Наш полк был отрезан от других полков дивизии. Мы оказались в отдельном котле. Немцы, как щупальца осьминога, тянулись по всей окружности и каждую минуту отправляли на тот свет наших людей, лишая их самого дорогого – жизни.
Немцы наглели, на их переднем крае чувствовалось оживление. Ребятам был дан приказ беречь боеприпасы. Поэтому с нашей стороны стрельба была редкой и только по цели. Во время обеда они тоже прекращали стрельбу, наступала тишина. Поднимали на шестах буханки хлеба и колбасу, и рупора кричали: «Добро пожаловать на обед». Приглашали в плен, расхваливая райскую жизнь в концлагерях. Положение личного состава полка становилось хуже некуда. Продуктов, боеприпасов и помощи ждать было одинаково, что молиться на палача при исполнении смертного приговора.
В первую ночь окружения, сосредоточив весь личный состав на узком участке, мы еще могли бы прорваться и выйти в немецкий тыл. Но был дан приказ командующим армией – держаться до последнего человека и патрона под страхом казни. Трудно сказать, о чем думал командующий или начальник штаба армии, подписывая приказ, но только не о людях, находившихся в тяжелом безвыходном положении. При наступлении темноты немцы, опасаясь нашего сосредоточения и прорыва, всю нашу линию обороны с обхватом всей площади тылов старательно освещали ракетами.
Стреляли не жалея боеприпасов и только трассирующими пулями. На следующий день немцы уже не шли в атаку, вели усиленную стрельбу из пулеметов и минометов. Через определенное время стрельбу прекращали и проводили агитбеседы, приглашая в плен. В одном они были правы: выход из мешка они завязали навсегда. Основные силы армии снабжались боеприпасами и продовольствием с авиации. Мы такой возможности были лишены и жить могли только за счет скудных запасов своего тела. Все понимали, что любое ранение значило смерть. Красного креста немцы не признавали.
Мужественные врачи и медсестры под беспрерывным минометным и пулеметным огнем на глазах у врага выносили раненых, делали им операции и укладывали их, как им казалось, в более безопасное место. Помирать никому не хотелось.
«Что будем делать?» – задал вопрос Клоков, отворачивая свой взгляд от меня. Я, не задумываясь, ответил: «Сосредоточиться в расположении первого батальона и выйти из завязанного мешка в тыл немцев, а там жизнь покажет». «Ты прав, но дадут ли нам немцы». «Надо пытаться. Для меня плен исключен». Я рассказал Клокову то, что видел своими глазами в тылу врага, про расстрел товарищей, побег и так далее. Он внимательно меня слушал, не перебивая и не задавая вопросов. Только в конце моего рассказа сказал: «Сволочи». Затем после минутного молчания: «А что ты мне об этом раньше ничего не говорил?» Я ответил: «Боялся вашего сомнения в доверии!» «Я не из таких, как ты думаешь». Тогда я рассказал Клокову про особый отдел и следователя Попова, который обвинил меня в измене Родине. Он сказал: «Матери на свет рождают всяких чудаков, а у нас их, кстати, еще много».
«Что же немцы предполагают предпринять против нас?» – задал я вопрос Клокову. «Ох, если бы я знал, что-то бы думал». «Мне кажется, тут нечего знать и думать, я могу ответить мыслью их командования: пусть сдаются или умирают голодной смертью. Атаковать им нас сейчас очень глупо. Зачем без цели губить людей. В этом они умнее нас».
Клоков принял мое предложение просить наших артиллерийского огня по их передовой в район 1 батальона, сосредоточиться всем на этом участке и выйти из мешка или же умереть. Я подал ему руку: «Решено» – и покинул землянку.
Немцы наступать и ликвидировать нашу небольшую группировку не собирались, но и не давали нашим людям поднять головы.
Зато мы их линию обороны по два-три раза за ночь прощупывали разведкой боем. Отрезанную от внешнего мира армию не только бомбили, весь световой день немецкие самолеты больше действовали на психику наших людей, голодных, не имеющих боеприпасов. Окруженная армия занимала сравнительно большую территорию, штабам и командованию можно было чувствовать себя в безопасности.
Доставленные авиацией боеприпасы и продукты, не более 10 процентов от потребности, выбрасывались далеко от переднего края, доходили только боеприпасы, а продукты все застревали в тылах. Организм человека приспособлен жить без пищи от 20 до 30 суток, но по истечении двух-трех суток нервная система сильно возбуждается. Страх голодного человека покидает. При виде пищи он рискует своей жизнью. При появлении наших самолетов с продуктами и боеприпасами голодные люди покидали свои посты и бежали к местам выброски грузов. Грузы, случайно упавшие в не обозначенных для сброски местах, бесследно исчезали в вещевых мешках. Места сброски грузов охранялись плотным кольцом автоматчиков и штабников. Голодные, измученные люди часто прорывались сквозь кольцо охраны, многие из них, получив автоматную очередь, оставались на месте, немногим счастливчикам удавалось с продуктами прорваться сквозь цепи автоматчиков.
Летчики отлично знали условленные места для сброски грузов, но почти ежедневно кидали в необозначенные места ближе к переднему краю обороны, а иногда и в нейтральную зону, что полностью парализовало дисциплину и привело к большим жертвам. Немцы в это время открывали ураганный огонь из всех видов оружия. Голодные люди в мокрой, пропитанной грязью одежде, забывая о смертельной опасности, бежали во весь рост к сухарям, спасителям от голодной смерти.
Наш окруженный полк на вторые сутки стал испытывать полный недостаток патронов, не говоря о минах. С момента полного изолирования полка от дивизии и армии весь личный состав никаких продуктов питания не получал.
Клоков через каждые три часа напоминал командиру дивизии о положении полка, просил распоряжения на прорыв. На все напоминания следовал один ответ – ни шагу ни вперед, ни назад. Держаться до последнего человека. Таков приказ командующего.
Утром в канун 1 мая немцы после каждой огневой зарядки включали рупора. Спрашивали, как мы подготовились встречать Первомай, какие успехи и так далее. Все подробности нашего положения они знали лучше нашего от перебежчиков. Заставляли говорить перебежчиков, которые хвалили немецкий прием и без кровопролития уговаривали сдаться в плен. Люди, чувствуя безвыходность положения, то есть неминуемую смерть, проявляли малодушие при удобных случаях, сдавались немцам. В конце проводимых агитбесед немцы предлагали меню завтрака и обеда. Обед рекомендовали продолжать до самого ужина. Перечисляли русские вина, коньяки, наливки и настойки. Играли на нервах голодных людей. Самое обидное, мы были настолько беспомощны, не имели ни одной мины, ни одного снаряда для того, чтобы хотя бы на мгновение заставить их замолчать. Они наглели с каждым днем, с каждым часом. Наши ребята говорили: мы до того досидим, что немцы будут вылезать на бруствер окопа и снимать штаны, показывая нам грязный зад.
30 апреля Виктор Клоков на очередном сеансе передачи попросил командира дивизии попытаться прорвать линию обороны, при этом напомнил с большим преуменьшением, что осталось только по 15 патронов на человека. Командир дивизии, видя безвыходность положения, дал распоряжение на 12 часов и пообещал оказать помощь артподготовкой дальнобойной артиллерией соседней армии. Вызвать огонь на нас и на себя. После сеанса Клоков криво улыбнулся и хрипло проговорил: «Голод не тетка, вся дивизия готовится к прорыву и выходу в тылы врага».
Немцы, по видимому, зная наш код, не дали нам сосредоточиться на узком участке обороны, и в 11 часов 45 минут открыли по нашему полку ураганный минометный огонь. Ровно в 12 часов поднялись в атаку на ликвидацию нашего беспомощного полка. Мы ждали их приближения, нечасто, но без промаха стреляя в живые цели.
Когда немецкие цепи приблизились на расстояние броска гранаты в 12-15 метров, заговорила наша тяжелая артиллерия. Редкие тяжелые снаряды рвались сзади цепи движущихся немцев. Взвились кверху красные ракеты, наши люди с винтовками и автоматами поднялись в контратаку и рывком, как хищники в измазанных шкурах, ринулись в гущу чистых, хорошо откормленных людей. Хотя каждый во всю силу глотки кричал "Ура!", но криков не было слышно, в ушах стояла какая-то хрипота, вылетавшая из ртов людей, и сплошной вой автоматной стрельбы. Передо мной, как призрак, встал толстый с пухлыми щеками офицер. Почти в упор трижды я нажал спусковой крючок пистолета, в это время от сильного толчка стал ощущать невесомость и повис в бездне.
Очнулся я от сильного сотрясения. Первой моей мыслью было, где я. Не открывая глаз, попытался встать, на одно мгновение в ушах прозвучала немецкая речь. Она резанула по самому сердцу, и я открыл глаза. Вокруг меня пошли разной величины крутящиеся круги, центром которых был я. В ушах стоял сильный звон. Двое наших солдат меня подхватили под руки и в окружении четырех немецких автоматчиков двинулись всей процессией по грязной хорошо проторенной тропе. Я понимал, что попал в плен. Не выполнил свою клятву, не выполнил присягу – последняя пуля в себя. В голове проносились молнией мысли, что умереть никогда не поздно. Вот, плюнуть в рядом идущего немца, он тут же пристрелит. Но ведь я еще не прожил и 24-х лет. Жизнь впереди, и если останусь жить, не расстреляют немцы, могу что-то полезное сделать для отчизны, для своего народа.
Идущий рядом и помогающий мне передвигаться молодой паренек что-то говорил, но я абсолютно ничего не слышал. Тогда он показал на мои петлицы, а затем на голову. Я с силой высвободил руку и пощупал голову. Из головы по правой щеке и шее текла кровь. Один из немцев что-то показывал, видимо, советовал завязать голову тряпкой или бинтом, чего у меня не было.
Привели меня к землянке с тремя накатами из бревен, где сидели и стояли около 200 наших людей. Мордастые, сытые немецкие солдаты и офицеры смотрели на нас, как на зверей в зверинце. Из землянки показалась сначала фуражка, а затем вышел напыщенный полковник в сапогах, начищенных до блеска, в сопровождении четырех офицеров разных званий. Выстроили всех взятых в плен людей.
В строю я оказался в первой шеренге. Голову мою обмотали грязной тряпкой, сквозь которую просочилась кровь. Полковник внимательно осмотрел всех, обойдя строй. Напротив меня остановился и почти бесцветным взглядом посмотрел в мои глаза, что-то говорил, но я ничего не слышал. Подошедший вовремя переводчик объяснил ему, что у меня контузия, он, как журавль, ушел на длинных пружинистых ногах дальше. Временами я все слышал, но на отдельные промежутки уши закрывались совсем, и в них что-то трещало, как в радиоприемнике на волне, которая глушится. Полковник встал в 5 метрах против строя, звонким голосом стал говорить, а юркий переводчик переводил с несколько украинским акцентом. Он сказал, что уважает русских храбрых солдат и офицеров, но не любит комиссаров, евреев и коммунистов.
Через переводчика он предложил или, вернее, скомандовал: «Комиссары, евреи и коммунисты, два шага вперед». Строй не шелохнулся, никто не выходил. Переводчик пропищал: «Добровольно не хотите выходить, господин полковник – большой специалист распознавать евреев, комиссаров» – и, сделав небольшую паузу, сказал: «Коммунистов».
Он говорил, что будет сам искать. Полковник на тонких ногах, как на ходулях, подошел к молодому, еще совсем юному лейтенанту-штабисту из штаба дивизии, долго смотрел на него в упор, как удав на очередную жертву, затем ткнул указательным пальцем в его грудь и по-немецки сказал: «Ты есть коммунист!» – и приказал выйти из строя. Переводчик перевел.
Лейтенант с природной выправкой военного вышел из строя, повернулся на 180 градусов и встал перед строем. Полковник вынул из расстегнутой кобуры пистолет и процедил сквозь зубы: «Комиссар». Лейтенант, зная по школе немного немецких слов, ответил «Найн» и хотел еще что-то сказать, но раздался выстрел. Колени обеих ног подвернулись. Гибкий стан лейтенанта медленно стал осаждаться. Затем на полуобороте повернулся вправо, взмахнул обеими руками, как бы ища опоры и защиты воздуха, упал навзничь. В открытом рту появилась кровавая пена. Все лицо от раны на лбу мгновенно окрасилось кровью. Ноги судорожно вытягивались, молодое тело не хотело расставаться с оборванной жизнью. Полковник шел к очередной жертве.
Он остановился против юной черноглазой татарки, медсестры. Окинул бесцветным взглядом ее с ног до головы, затем не сказал, а прорычал: «Юде». Протянул длинную сухую руку в сторону девушки и ткнул пальцем в грудь, еще что-то невнятно процедил сквозь зубы. Переводчик скомандовал девушке выйти из строя.
Не успела она шагнуть трех шагов, как раздался выстрел. Она детским голосом звонко крикнула, взмахнула обеими руками, как крыльями, как будто хотела улететь и упала вниз лицом. Так была оборвана вторая жизнь.
Полковник снова прощупывал своим взглядом строй. Взгляд его остановился на бойце с подвязанной к шее на грязном бинте левой рукой. Сквозь наспех наложенную повязку поверх гимнастерки текла кровь. Он стоял во второй шеренге. По приказу переводчика он быстро выскочил из строя, крича: «Гады, фашисты». Очень ловко подпрыгнул для удара самбо, но промахнулся, полковник отскочил в сторону, он упал навзничь. Раненая рука дала о себе знать. Он громко застонал. Полковник, не ожидавший сопротивления, растерялся, опустил руки по швам и смотрел на лежавшую у его ног жертву. На помощь ему поспешили два офицера, выхватив пистолеты из кобур, прицеливаясь, шли к лежавшему раненому. Но полковник что-то громко крикнул им, они засунули пистолеты в кобуры, вскинули руки в нацистском приветствии, сказали: «Хайль Гитлер!» – и встали на свои места.
Переводчик вывел из строя двух военнопленных. Они подняли раненого на ноги и отвели шагов на 10 от строя. Все трое были расстреляны автоматчиками. Этот час для всех стоявших был вечностью. Умереть в равном или неравном бою легко. Но умирать беззащитному от руки палача слишком тяжело и неприятно. Поэтому воинский пыл, который был еще во мне час тому назад, постепенно испарился, и я превратился в простого смертного, для которого жизнь – самое дорогое.
В голове военных мыслей уже не было. Последняя пуля лучше в воздух или врага, но не в себя. Двое перебежчиков, сбежавших сутки назад с нашего полка, стояли с нами в одном строю. Одного из них полковник собственноручно расстрелял, сказав: «Не люблю трусов, а люблю храбрых русских солдат» – и показал взглядом на расстрелянного бойца, раненного в руку.
«Ты, гад, любишь одинаково храбрых и трусов, тем и другим смерть», – подумал я. Снова раздалась команда переводчика, из строя было выведено 12 человек. Им дали железные лопаты и ломы, заставили копать могилу. Офицеры ушли в землянку, всех военнопленных отвели метров на 50. Я сразу лег, выбрав место посуше. Немецкие солдаты ходили и спрашивали часы, показывая хлеб и сигареты.
Я вынул из маленького кармана брюк ручные кировские часы, похожие на маленький будильник, и протянул немцу. Он выхватил часы у меня из рук, спрятал их в карман и, озираясь по сторонам, бросил мне пачку сигарет и кусок хлеба. Хлеб я проглотил, не пережевывая, и с большим наслаждением закурил. Десятки рук потянулись к моей сигарете, люди кричали: «Сорок, тридцать, двадцать, десять и пять».
Немец, которому я отдал часы, снова появился. Он, озираясь по сторонам, бросил мне кусок хлеба и бинт. Сидевшие рядом ребята почти в один голос проговорили: «А все-таки в нем есть что-то человеческое».
Сидевший рядом со мной молодой паренек, которому я отдал докурить сигарету, забинтовал мне голову. Он мне что-то говорил, но я снова абсолютно ничего не слышал. Тогда он показал на мои петлицы с уцелевшими только двумя кубиками и мимикой попросил разрешения срезать петлицы и снять кубики. Я с трудом выдавил из себя: «Действуй». Он быстро отцепил кубики и оборвал петлицы, используя для этого ножик безопасной бритвы. Чистые места шинели и гимнастерки из-под петлиц потер грязью.
Раздалась команда строиться. Люди не спеша вставали в строй. Немцы, как гончие собаки во время гона зайца, повсюду кричали: «Русь, шнель, шнель». Выстроились в колонну по три и двинулись по грязной фронтовой дороге немецкого тыла в неизвестность.
Шли медленно. Немцы-конвоиры подгоняли. Кричали, ругались, но на людей все это никакого воздействия не производило. Навстречу беспрерывным потоком шли грузовики с солдатами, нас обгоняли автомашины с ранеными.
Прошли не более 7 километров, солнце спряталось за горизонт. Сделали привал в деревне, чудом уцелевшей. Разместили всех в четырех домах. Ночлег в нетопленом доме после всего пережитого казался раем. Прижавшись плотно друг к другу, мы крепко спали. Клоков почему-то меня сторонился. Проходил рядом со мной, но как бы не замечал. В строю становился дальше от меня. Поэтому и ночевали в разных домах.
Ранним утром, еще на горизонте чуть появилась белая полоска, предвестница зари, все были на ногах. Пустые желудки не просили, а требовали пищи. Немцы кормить нас не думали. Немецкие солдаты заходили в дом, спрашивали часы и советские деньги, предлагая сигареты и хлеб. У меня ничего уже не было.
С восходом солнца тронулись снова. Жидкая грязь брызгала из-под сапог. Люди ругали Бога и дорогу и проклинали бездарное предательское командование 2 ударной армии. Из батальона здесь было только шесть человек. Все держались вместе. Что было с остальными, никто не знал.
В Новгород нас пригнали в 10 часов утра. В развалинах почти в центре города нас пересчитали и присоединили к большой группе военнопленных. Я сразу же подошел к Клокову и спросил: «На что сердишься?» Он внимательно осмотрел меня, как будто увидел впервые, и, не отвечая на мой вопрос, спросил: «Ты ранен?» Я ему сказал, что это пустяки: «Только плохо, что временами ничего не слышу». «Ты не говори немцам, что я командир, и скажи ребятам, чтобы молчали», – попросил Клоков. «Вряд ли немцы будут спрашивать командиров. Им одинаково, командир или рядовой. В концлагере все перемешаются, – ответил я ему. – Бояться не надо. Никто никого выдавать не собирается».
Клоков снял с моей головы грязный, присохший к ране и волосам бинт. В это время подошел немецкий солдат и дал Клокову бинт и ножницы. Клоков остриг кругом раны волосы и забинтовал мне голову чистым бинтом. Немец, давший бинт, наблюдал за неумелым бинтованием.
Кормить нас не думали. Еще в окружении истощенные люди еле держались на ногах. У меня временами кружилась голова, закладывало уши, и слух совсем отключался.
Забинтовав мне голову, Клоков, как заправский медик, прощупал пульс, а затем приложил руку ко лбу: «Да! Держись, у тебя температура высокая».
Я лег на каменную плиту. Попросил Клокова, чтобы он сел рядом со мной. Слух у меня то появлялся, то исчезал. В голове были ощущения, как будто ударили чем-то тяжелым.
Клоков куда-то исчез и через несколько минут появился с врачом из военнопленных. Он внимательно осмотрел меня, прощупал все части тела. Диагноз был установлен. Ничего особенного – легкая контузия с сильным ушибом головы. Если сотрясения мозга нет, то быстро пройдет. С сотрясением нужна госпитализация.
В ответ Клоков выругался, глазами показал на немецких солдат с овчарками и сказал: «Вот это госпиталь». Врач, в свою очередь, сказал, когда пригонят в первый концлагерь, там будет оказана медицинская помощь.
Из-за угла разрушенного дома вышла большая группа напыщенных, элегантно одетых офицеров в начищенных до блеска сапогах. Они медленно вошли на площадку расположения военнопленных и внимательно всматривались в худые заросшие бородой лица людей. Между собой наигранно громко разговаривали и смеялись. Все взоры военнопленных были обращены на них. «Кто среди вас офицеры? – крикнул один из офицеров на чистом русском языке. – Прошу подойти к господам офицерам».
Голос мне показался знакомым. Я обернулся и увидел, что говоривший – Гиммельштейн. От нервного возбуждения тело мое затряслось, как у малярийного больного. Натянув на глаза шапку, отвернул воротник шинели, закрыл им шею и подбородок. Я снова лег на холодные камни. Офицеры поравнялись со мной. Я чувствовал на своем теле внимательный взгляд Гиммельштейна, а затем послышался его голос, по-видимому, обращенный к Клокову. «Это что, раненый?» «Контуженный», – ответил Клоков. Взгляд и слова Гиммельштейна пронизывали мое тело насквозь. Я ждал команды встать, чтобы быть опознанным и расстрелянным. К счастью, Гиммельштейн меня не узнал, возможно, мое тело и голова напомнили ему что-то знакомое, но он, по-видимому, подумал, что это просто совпадение. Следом за офицерами прошел дальше. Снова раздался его голос. «Офицеры русской Красной Армии, не хотите признаваться? Вы можете не беспокоиться за свою жизнь, она будет вам сохранена. Для офицеров германское командование создало хорошие благоустроенные лагеря, где разрешается носить форму и знаки различия».
Никто не встал и не подошел к господам офицерам, не заявил о себе, что он офицер.
Долго ходила группа немецких офицеров среди военнопленных, скользя по телам тупыми взглядами, ища людей с офицерскими знаками различия, но так никого и не нашли. Когда ушли офицеры, а вместе с ними и Гиммельштейн, не то от сильного нервного возбуждения и волнения, но у меня перестало закладывать уши, я стал прекрасно слышать, только периодически стоял какой-то звон. Я сказал об этом Клокову. Он ответил: «Вот и прекрасно, а сейчас немного подзаправься». Он достал из кармана кусок хлеба и протянул мне. «Это я достал для тебя». Я ответил: «Не возьму, ешь сам». Он полушепотом сказал: «Прекрати разговоры и ешь, не обращай на себя внимания окружающих». Я взял затисканный в кармане, смешанный с табачной пылью, с отполированной поверхностью кусок хлеба и с жадностью его проглотил. Затем спросил Клокова: «Почему я получил контузию, ведь артподготовки не было с обеих сторон. Немцы не могли стрелять по своим во время атаки, а у наших не было снарядов».
Немного помедлив, как бы припоминая что-то важное, Клоков заговорил: «Артподготовку вела наша тяжелая артиллерия. Они выпустили по нам и по немцам во время рукопашной схватки всего 12 снарядов. В последнюю минуту я связался по рации со штабом армии. Коротко объяснил всю обстановку. Просил помочь артогнем, указав точные координаты. Ты же должен помнить. Мы вместе были в землянке. Последние мои слова были: «Прощайте, товарищи! Патронов и гранат нет, со штыками и прикладами автоматов мы идем в контратаку. Умрем, но не встанем на колени перед врагом. Отомстите за нас немцам». Через 10 минут после разговора по рации в самый разгар рукопашной схватки на головы немцев и нас с воем полетели тяжелые снаряды. Часть немцев залегла, а остальные показали спины. Мы кинулись за ними, пробежали их линию обороны и скрылись в лесу. Я подал команду собираться для организованного удара и выхода в глубокий тыл. Но люди как будто лишились рассудка, бежали дальше в тыл, разбегаясь по два-три человека по лесу. Я оказался сзади всех, бежал и кричал, чтобы остановились. Своим криком привлек немцев и был схвачен».
«Что же с остальными?» – спросил я. «Не знаю, – ответил Клоков. – Мне кажется, что многим удалось убежать далеко в тыл, и если найдется хороший организатор, то, возможно, выйдут к своим». «Чем черт не шутит, когда бог спит», – прислушиваясь к нашему разговору, проговорил хриплым голосом пожилой боец. А потом перешел на полушепот, торопливо начал говорить, как будто боясь, что его не будут слушать: «К своим им не пробраться. Немцы их всех если не перебьют, то захватят в плен. Что может сделать человек без оружия против хорошо вооруженного». Но старик не успел договорить, раздалась команда строиться.
Выстроили всех, раздались команды "Равняйсь", "Смирно", а затем "Вольно". Появился один офицер и три фельдфебеля. Переводчик стал кричать: «Плотники, выходите».
Вышло человек 40 – всех выстроили и угнали. Раздалась команда: «Слесаря, токаря, шоферы, трактористы…» Отобрали более 100 человек и тоже угнали. Остальным скомандовали: «Направо, шагом марш».
Мы шли рядом с Клоковым. Я чувствовал себя ничего, поэтому в его помощи не нуждался, шел сам. Мы строем по четыре, окруженные конвоем с собаками, шли по разрушенному городу. Город весь был превращен в груды развалин. Его деревянная часть на окраинах у земляного вала с маленькими уютными домишками, когда-то ютившимися стройными рядами на прямых улицах, была превращена в пепелище.
Одинокие, давно опустевшие и случайно уцелевшие домики были расположены в каком-то хаотическом порядке, как стебли сорняков на заброшенном поле. Русского населения в городе не было. Поэтому на нашу колонну из около 200 человек никто не обращал внимания. Среди пепелища, полуразрушенных остовов домов, куч щебня и железобетона, как великан, величаво стоял Софийский собор с куполами, сверкающими золотом. Могучий Волхов по-старому нес свои воды в Ладогу.






