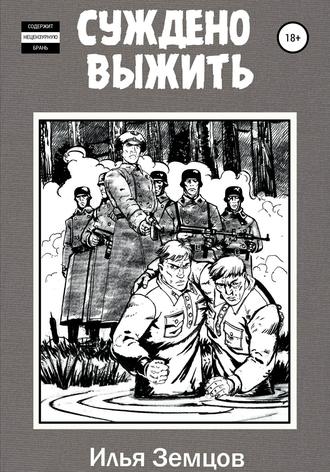
Илья Александрович Земцов
Суждено выжить
Очнулся я от разговора в изоляторе. У моей кровати стояла целая группа людей в белых халатах. Среди них наш начальник отделения, начальник госпиталя. Сзади, всхлипывая, плакала Люда, прижавшись к Розе Эдлер. Я попросил пить. Роза Эдлер хотела поставить на стол графин, я ее опередил – взял его и стал пить. Кто-то назвал меня нахалом. Я не обращал на это внимания, мучила жажда. Услышал очень знакомый мужской голос. «Нет, господа, он не нахал, а нахалы – вы. Прокованного к кровати, тяжело раненного, умирающего солдата вы забыли не только накормить, но и напоить, надеясь, что он скоро умрет. Я назвал бы вас хуже, но ваше настроение в этот праздничный день портить не буду. Вы собрались здесь для того, чтобы ругать умирающего человека за его грубое обращение с медсестрой. Не лучше ли вам спросить дежурную медсестру, где она находилась весь вечер? Была ли она у больного, исполняя свои обязанности?» Послышался взвизгивающий голос Люды: «Он хулиган! Я к нему больше не подойду!» «Он не хулиган, хулиганы – вы. Не только хулиганы, но и дезертиры. По законам военного времени вас надо судить военным трибуналом. Он наверняка не бегал от врага так, как вы от него бежите».
Голос был Степана Кошкина. Я не мог спутать. Узнал бы среди миллиона голосов. Я негромко проговорил: «Степан Кошкин? Это ты? Иль я брежу и вижу тебя во сне? Все у меня смешалось. Явь с бредом и сном. Земная жизнь с небесной». Я не видел его фигуры и лица – заслонили врачи. «Больной бредит, товарищ полковник. Газовая гангрена берет свое. В сознание приходит редко, – заговорил начальник госпиталя. – Подходить к нему опасно».
Это действительно был Кошкин. Он подошел к моей кровати. Облаченный в тесный короткий белый халат, встал на колено, обнял мою голову, торчащую из гипса. «Вот не ожидал, дорогой мой друг Илья. Вот это встреча». Глаза его увлажнились. Он встал, распрямился во весь исполинский рост. Глухо заговорил: «Перед вами лежит мой командир батальона июня и июля 1941 года». «Какая-то ошибка, – вкрадчиво бросил реплику начальник госпиталя. – Он всего-навсего старшина. Зря вы прикасались к больному. Это опасно». Все тело Кошкина передернулось, на щеках заиграли желваки. Он негромко ответил: «На войне, товарищ военврач, всякое бывает. На счет газовой гангрены можете не беспокоиться. Я ему обязан не один раз жизнью. Мы с ним два года на одних нарах рядом спали. Из одного котелка ели. Поэтому прошу, товарищ военврач, вашего разрешения посетить его еще раз». Начальник госпиталя сказал: «Нельзя, товарищ полковник. Опасно для вашей жизни». Его слова доходили до меня словно из-под земли. Последнее, что я услышал, было следующее: «Что поделаешь, если настоящие друзья, то разрешаю». «Благодарю», – ответил Кошкин. На этом я снова впал в забытье.
Когда очнулся, в изоляторе никого не было. Первой мыслью было: «Кошкин – полковник». Как быстро он перескочил от сержанта до полковника, прошло всего три года. Вот это темпы, думал я.
Кошкин не заставил себя долго ждать. На следующий день рано утром он пришел с начальником отделения, которого тут же попросил оставить нас наедине. «Ну, дай я на тебя посмотрю», – сказал он. Открыл одеяло, бегло пробежался взглядом по гипсу, по истощенной ноге и рукам. Прикрыл. Смотреть было не на что. Все тело до шеи и правая нога находились в гипсовом панцире. Торчали только кости рук и левой ноги, обтянутые кожей. В гипс как бы вросла тонкая шея, к которой была прикреплена истощенная голова. Все походило на что-то загробное. Только голубые глаза и обрамляющие голову русые вьющиеся волосы были похожи на живое. Кошкин глядел мне в глаза. Рукой дотронулся до моих волос. Молчал. Молчание нарушил я: «Степан, как быстро ты продвинулся. Расскажи о себе». «Сначала ты расскажи о себе, – ответил Кошкин. – А потом я». Я коротко рассказал о своих приключениях.
«Если хочешь, я тебе помогу, приеду в Москву, поговорю с кем надо о твоем звании. Все будет как надо», – ответил Кошкин. «Звание мне восстановили за два дня до ранения, но произошла ошибка, по красноармейской книжке записали старшиной. Какая разница – умирать капитану или старшине, – возразил я. – На том свете командовать не заставят». «Да брось ты о смерти, – вкрадчиво улыбаясь, проговорил Кошкин. – Врачи говорят, что кризис болезни у тебя прошел, будешь жить». «Врешь ведь ты, успокаиваешь, – подумал я и сказал. – Действительно, мне стало лучше. Я после выпитых двух стаканов водки, по ошибке принятых за воду, за ночь съел принесенный вчера ужин. Сейчас чувствую себя хорошо. Главное, в полном сознании. Расскажи, пожалуйста, о себе». «Рассказать о себе, – начал Кошкин. – Для тебя будет очень утомительно. Двумя словами не скажешь». «Расскажи, убедительно прошу. Ведь тебе все-таки везло».
«Да, – ответил Кошкин. – Не обижаюсь на судьбу. Ну что поделаешь, буду говорить. Если бы у меня был талант журналиста, обязательно бы написал книгу. Что я видел за эти два с половиной года? Из госпиталя в Кирове тебя выписали в конце июля. После тебя я лежал почти два месяца. Да и после выписки не как ты, на фронт не спешил, так как положение было очень тревожное. Немцы блокировали Ленинград, подходили вплотную к Москве. Правда, Киров жил своей жизнью. От него война была далеко. Однако она чувствовалась во всем. Почти все мужчины поголовно были одеты в военную форму, их становилось с каждым днем все меньше и меньше. С востока на запад через Киров шли одни воинские железнодорожные составы. Везли людей, прикрытые брезентом пушки, автомашины и лошадей. С запада на восток ехали беженцы. Ими до отказа были забиты все вагоны. Ехали на тормозных площадках, на крышах вагонов, даже на буферах. Творилось что-то незабываемо жуткое. Я чувствую, что ты мне завидуешь. Я – полковник. Ты – капитан, а записан старшиной».
«Нет, не завидую, Степан», – ответил я.
«Со званием мне повезло. Да я тебя и старше на три года с гаком, а сибирский гак тоже чего-то значит. Из госпиталя меня направили в Уральский военный округ. Там нашлась одна крыса. Ты должен знать. Он был помощником начальника штаба нашего 298 стрелкового полка. Щеголеватый, приятный на вид лейтенант. Он меня отлично знал, а назвал самозванцем. Доложил начальству, что не мог я быть старшим лейтенантом, так как шесть месяцев назад был сержант. Впервые в жизни мною занялся особый отдел. Пошли запросы в 8 армию, оттуда ни ответа, ни привета. В Москву запрос. Из столицы сообщили: значится в списках младшим лейтенантом. Дело принимало неприятный оборот, но ходил пока на свободе. Чисто случайно встретил командира танковой бригады, под командованием которого мы добрались до Риги. Его там тоже в черном теле держали, но не разжаловали. Я ему рассказал все, как было. Он мне помог.
Почти целый месяц мытарили и направили в Пермь, где формировалась стрелковая дивизия. Назначили меня командиром лыжного батальона. Нашу дивизию направили под Москву. Нас привезли в начале ноября. Мы заняли оборону под Истрой. Немец был на подступах к Москве. Недалеко от Истры на Волоколамском шоссе есть небольшое селение Иерусалим. Перед моим батальоном была поставлена задача зайти в тыл к немцам, ворваться в Иерусалим. Занять, отрезать немцам путь к отступлению на Волоколамск. Мы ворвались ночью, устроили тарарам. Захватили в плен более тысячи немцев, даже двенадцать танков, тридцать автомашин и много других трофеев. Освободили из плена более двух тысяч человек. Заняли оборону и держались до подхода наших. За это я был удостоен награды – ордена Красного Знамени. Может, это чистая случайность, но вся эта операция прошла с небольшими потерями.
В дивизию приехал командующий Жуков Георгий Константинович. Ему командир дивизии доложил об удачной операции батальона. Жуков решил своими глазами посмотреть на людей батальона. В это время батальону была снова поставлена задача зайти далеко в тыл к врагу, занять поселок Новопетровское, то есть отрезать большой группировке немцев путь к отступлению по Волоколамскому шоссе. Батальон выстроили. Я доложил, что батальон готов к выполнению поставленной задачи. «Сейчас мы посмотрим, – сказал Жуков, – готовы или не готовы». Он обошел выстроенный батальон, придирчиво осмотрел отдельных красноармейцев, но ничего особенного не нашел, сказал: «Да, батальон готов». Поблагодарил людей за отвагу и мужество за занятие Иерусалима. Мне приказал нацепить погоны майора. Я сразу шагнул через очередное звание капитана. За какие-то повинности был разжалован командир полка из нашей дивизии. Жуков приказал мне принять полк. «Не много ли этого для вчерашнего сержанта», – возразил я. Он грубо оборвал меня: «Если много – убавим, мало – прибавим».
Я со своим полком дошел до Калинина. Немцы бежали от нас красиво. Мне в то время казалось, что для них наступила настоящая катастрофа, как для наполеоновской армии. Под Калининым меня легко ранило выше локтя в левую руку. Несмотря на приказ командира дивизии, в госпиталь я ушел после окончания наступления. Жуков меня не забыл. При встрече с командиром дивизии спросил: «Где же молодой ваш командир полка?» Командир дивизии подлил масла в огонь: «В госпитале. Будучи раненым, не покинул полка до конца операции». «Молодец, мужик, находчивый, решительный. Солдаты любят его». Жуков приказал прицепить к моим петлицам еще одну шпалу и представить к награде. Так я стал подполковником и был награжден вторым орденом Красного Знамени.
После госпиталя снова принял свой полк. В декабре 1943 года уже без помощи Жукова было присвоено очередное звание полковника. В январе 1944 года, то есть этого года, под Старой Руссой я снова был ранен. Пуля угодила в правое плечо, перебила ключицу. Сейчас если кто-то потребует поднять руки кверху, я не смогу этого сделать. Придется отбиваться до последнего патрона. Правая рука вверх не поднимается.
Вместо фронта как выздоравливающего прикомандировали к Генеральному штабу. Сейчас верой и правдой служу одному видному генералу в роли адъютанта. Это чем-то напоминает роль связного. Помнишь, как мы были связными у Голубева в полковой школе? Учусь на втором курсе военной академии».
«Молодец, Степан! – сказал я. – Я очень рад за тебя. Тебе военная фортуна улыбается. А помнишь, как ты не хотел быть военным?»
«Ты прав, Илья, – ответил Кошкин. – Кончится война, и я уйду из армии. Приехал я сюда по кляузным делам. Из вашего госпиталя поступает много жалоб в Генштаб, главнокомандующему и так далее. Между нами, факты все подтверждаются. Приеду – начальству доложу. Тебя ведь тоже обижали. Мне говорили, что ты пытался застрелиться. Вот это нехорошо. Умереть поспеем. Надо выжить, пережить войну, а там легче будет. На своем веку я видел много умирающих и убитых, много безвинно умерших людей. Они до сих пор ежедневно мрут тысячами в тюрьмах, лагерях по чьей-то невидимой для нас вине. Или взять, как проходила эвакуация беженцев в отдаленные районы страны. Кто о них заботился? Да собственно никто. Людям стихийно разрешали садиться в разгруженные для фронта вагоны. Ехали они туда, куда шел поезд. В основном дети, женщины и старики. В августе и сентябре 1941 года в Кирове я часто бывал на вокзале. Матери с маленькими детьми выходили из вагонов на перрон в поисках куска хлеба, отдавая за него последнее платье и другие вещи. Продуктами никто нигде не торговал. Можно бы организовать для беженцев в тылу хотя бы одноразовое питание. Но, по-видимому, никто об этом и думать не хотел. Было что-то отвратительное, ужасное. Из вагонов выносили десятки трупов. Люди умирали от голода. Умирали матери, дети и старики. Я считаю, со стороны нашего правительства было настоящее варварство».
«Да, Степан, снова на долю русского народа выпало большое несчастье, – подтвердил я. – Погибли миллионы человек. А сколько же немцы загубили в концлагерях, замучили в застенках гестапо и расстреляли? Тоже миллионы».
«Немцы с незапамятных времен отличались жестокостью и ненавистью, особенно к русскому народу. Жестокость немцев превосходит жестокость дикарей-людоедов, – продолжал Кошкин. – Зато мы, русские, слишком гуманны, лояльны и мягкосердечны. Мы быстро забываем все оскорбления и обиды. Немцы заморили голодом и нечеловеческими условиями не один миллион наших военнопленных. Зато мы для пленных немцев создали все условия. На вопрос, почему так, начальство говорит: это международная политика. Для немцев никаких международных законов и политик не существует. Да что там говорить. Мы не любим сами себя. Мы не любим своего брата и соседа. Мы жестоки к своему народу. Не хотим видеть его бед, нужды. На умершего от голода соседа мы смотрим как на что-то должное, неотвратимое. Нет разрозненнее русской национальности. Все малые национальности – евреи, цыгане, татары и так далее – более сплочены. Они в беде друг друга не оставляют, в трудные минуты приходят на помощь, не жалея последнего. Делятся последним куском хлеба. У нас этого нет, а может и не будет.
Если мы повели разговор на эту тему, я расскажу тебе одну печальную историю. Три месяца назад я встретил одного близкого мне человека, летчика-истребителя. Недавно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. А знаешь, кто он? Сын состоятельного нэпмана. Разгром и гибель в их семью пришли неожиданно. В одну из ночей января 1930 года к их особняку в Москве на Ямской улице подъехал «черный ворон». В квартиру вошли двое из ОГПУ. Приказали всей семье собраться, одеться, но из вещей, кроме пары белья и продуктов, ничего не трогать. Семья их состояла из пяти человек – отец, мать и трое детей. Старшему, Коле, ныне летчику, было 14 лет. Сестренке двенадцать, младшему братишке чуть больше года. Погрузили их в неотапливаемые товарные вагоны. Январь, рождественские и крещенские морозы. На лету воробьи мерзнут. Их, как животных, везли на восток. Кормили один раз в сутки. Давали фунт хлеба и литр похлебки. По дороге люди умирали. Их трупы без сожаления выносили из вагонов. Вслед покойнику с издевкой говорили: «Еще одним кулаком или буржуем меньше стало». Но ведь можно было и с ними по-человечески поступить.
Привезли их в небольшой сибирский город Мариинск. В то время мы жили в одном селе в 15 километрах от него. Через наше село их прогоняли тысячи. Гнали их в тайгу под конвоем как опасных преступников.
В нашем селе упала опухшая от голода еще молодая женщина. Это была мать Коли. У меня до сих пор перед глазами стоит эта жуткая картина. Она лежала с полуоткрытым ртом, тяжело дыша. Во рту блестели золотые зубы. Ее окружили дети и муж, пытались поднять и вести дальше. Чуть поодаль стоял конвоир с начальником конвоя. Женщина через три-четыре минуты умерла. Мужа конвоир прикладом винтовки отогнал от жены и увел догонять обреченных. Трое детей вцепились в мертвую мать, надеясь, что она воскреснет и вызволит их из беды. Начальник конвоя с силой хотел их оторвать от матери. Они, как маленькие звери, оказывали сопротивление. Брыкались ногами, в ход пускали зубы и кричали во всю силу детских голосов. На детский крик и ругань конвоя собрались все жители села. Все вздыхали, охали и посылали проклятия в адрес конвоя. Маленький ребенок, чуть больше года, вцепившись голыми ручонками в воротник пальто, с замерзшими от влаги штанишками, лежал на груди матери.
Все это происходило почти в центре села в крещенские тридцатиградусные сибирские морозы. Бойкая старуха Федосеева Фекла подбежала и взяла на руки маленького ребенка. Начальник конвоя выхватил у нее ребенка и с силой ее толкнул. Она не удержалась на жидких ногах и рухнула в снег. «К тем, кто посмеет подойти к этим кулацким выродкам, – заорал он на все село, – будут приняты жестокие меры, вплоть до ареста». В ответ ему визгливо закричала Фекла, отряхивая полушубок от снега: «Уроды, антихристы, чтоб вам на том свете было пусто! Кого вы мучаете? Ангелов, маленьких детишек».
Народ зашумел. Начальник конвоя грозился арестом. Пришел председатель сельского совета. Он негромко сказал начальнику конвоя: «Не мучь детей на глазах народа. Ты далеко перешагнул все законы. Давай уведем детишек в помещение сельского совета. Туда же, подальше от людских глаз, унесем и мертвую. Я на это вам дам бумагу. Если вам потребуются дети, возьмете их в любое время». Начальник конвоя согласился. В ответ сказал: «Только без сентиментальности, никакой жалости к кулацкому отродью».
Мертвую селяне похоронили на кладбище в нашем селе. Обрядили ее старухи по всем церковным правилам и отпели в церкви. Детишек мой отец привел домой. Двое суток они, как зверята, все трое сидели на большой русской печи, ни с кем не желая говорить. Засыпая, сквозь сон жалобно звали папу и маму. Маленький занемог. У него были обморожены ручонки и ноги. Бабки, стараясь на совесть, растерли ему все тело. Обморожение было поверхностное и особой опасности не представляло. Заставила о себе знать простуда. Несмотря на заботу фельдшера и бабок-знахарок, через две недели ребенок умер.
Мальчик Коля и девочка Ната жили у нас два года. Затем их отправили в детдом. Фамилию они оставили свою, а местом рождения записали наше село. Происхождение – из крестьян. В детдоме Коля окончил семилетку, а Ната – десятилетку.
В 1936 году Коля выпустился из аэроклуба. В 1937 году был призван в армию. Служил в авиации. Перед войной прошел переподготовку на летчика-истребителя. С первого дня войны воюет. Под ним сбито три самолета, два раза ранен. Один раз чуть не сгорел. Главное – до сих пор живой, веселый и здоровый.
Ната окончила Томский медицинский институт. Работает хирургом в госпитале.
Моего отца они оба зовут папой, а мать – мамой. В отпуск и на каникулы они ездили всегда к нам. У них кто-то близкий есть и в Москве».
«Их отец остался жив?» – спросил я.
«Наверняка нет. Многие, раньше не знавшие трудностей, погибли еще по дороге.
Николай мне сказал: «Подлечусь немного, снова поеду на фронт за второй "Золотой Звездой"». К чему я тебе все это говорю? Надо любить свой народ, не бросаться им, как сором. Он пригодится, как спасенный Николай. До свидания, Илья. Я перед тобой разоткровенничался, но разговор между нами».
Он вышел из палаты, осторожно закрыв за собой дверь. Я думал: «Что это он вдруг решил исповедоваться мне именно сейчас? Два с лишним года мы с ним крепко дружили, а такой откровенный разговор впервые. Да хотя о таких вещах и сейчас говорить было еще опасно. Он мне верит как лучшему другу? А может быть считает, что я не выживу, скоро умру?
Как его высоко вознесла фортуна! Вчерашний сержант, командир отделения ныне полковник в резерве Генштаба. Два года с гаком, только не с сибирским, командовал полком. Вся война еще впереди. Сколько она продлится, трудно сказать. «Война до победного конца» – слова Сталина. Значит, никакого перемирия, никаких договоров. А до Берлина еще далеко. Может быть год, а может и два. Какая помощь будет от наших союзников – Америки и Англии?
Если фортуна и дальше будет улыбаться Кошкину, то он через два года будет командовать армией. При направлении на фронт ему наверняка сейчас дадут дивизию. Самое главное – он скромен и прост, остался таким, каким был – настоящим другом. Не каждый друг решился бы зайти к старшине, если врачи предупреждают об опасности и сами подчас боятся меня как прокаженного».
Я вспомнил нашего командира дивизии, генерал-майора Абакумова. За год пребывания в дивизии я его ни разу не видел. Начальник штаба дивизии полковник Иванов и заместитель по политчастям были частыми гостями нашего полка. А Абакумов, по-видимому, дальше штаба нашего полка дороги не знал. Воюют все по-разному.
Думы мои прервали – вошла диетсестра. Она негромко спросила: «Что бы вы пожелали заказать на завтра: на завтрак, обед и ужин?» Я был не только удивлен, а даже потрясен таким вниманием.
Вечером Кошкин снова пришел. Он был чем-то удручен и недоволен. Пытался улыбаться, но у него не получалось. Улыбка была кривой. Говорил с неохотой, растягивая слова. Я спросил: «Степан, что с тобой?» Он нехотя ответил: «Да так, ничего». Затем долго молчал, разглядывая мой скелет сквозь одеяло.
«Илья, разговор между нами. Сегодня говорил со своим начальством, то есть с Москвой. Доложил о результатах моей командировки. Просил, чтобы в госпиталь прислали ревизионную комиссию, так как вскрывается много нехороших дел. Меня грубо оборвали, даже обругали. Сказали, что сейчас такими делами заниматься не время. Приказали немедленно явиться в Москву. Я оказался пешкой в руках какого-то дельца. Спрашивается, зачем меня сюда посылали? Сейчас время дорого. Оно нужно не для бесцельных прогулок, а для победы над врагом».
«Степан, напрасно близко к сердцу принимаешь и переживаешь. Идеального порядка, как бы ни хотелось, не наведешь. Я не имею права спрашивать тебя, о чем идет речь, но догадываюсь. Время сейчас голодное. Десятки миллионов людей недоедают. Люди пухнут с голода. Неслучайно на рынке килограмм хлеба стоит сто рублей. Это одна пятая часть месячного заработка квалифицированного рабочего и половина стипендии студента. Мир так устроен. Человек, как поработитель всего земного мира, так устроен».
«Что ты этим хочешь сказать?» – перебил Кошкин. «То, о чем ты думаешь». «Ты что, читаешь мои мысли?»
«Да, – ответил я. – Хотя лежу в изоляторе, часто теряю сознание, но кое-что доходит и до моего слуха. Продукты, то, что сейчас самое дорогое для человека, воруют не килограммами, а тоннами. Поэтому я тебе как другу говорю, не в упрек. Тебе надо было доложить то, на что жалуются, не вникая в подробности, не заикаясь ни о какой комиссии или ревизии».
«Ты прав, – ответил Кошкин. – Тебя этому научили в войну или еще до нее?» «До войны, Степан. Меня возмутило одно дело. Мне жаловались в офицерской палате. Я лично проверил. Водка, вино и многое другое списывается на больных, но фактически не выдается. То же самое с дефицитными лекарствами».
«Давай об этом больше не будем. Я давно знаю, «язык мой – враг мой» или «грамм молчания иногда стоит килограмма золота». Илья, расскажи, как у тебя дела?»
«Хорошо, Степан. Вроде дело идет на поправку. Чувствую себя лучше». Он внимательно посмотрел на меня и тяжело вздохнул. Разговор перевел на неприятную для меня тему. «Расскажи мне по секрету, почему ты хотел покончить самоубийством?» «Надоело, Степан, живым гнить в гипсовой скорлупе. Побудила любезная встреча на вокзале госпитальным начальством». «Да, – проговорил Кошкин. – Я об этом от многих слышал. Но тебя здесь многие однополчане хорошо помнят и отзываются о тебе хорошо, как о воине и человеке». «Благодарю, Степан, за комплименты».
В изолятор вошел начальник госпиталя Айзман. Галантно, с еврейским акцентом заговорил, обращаясь ко мне: «Ну, герой, как дела?» Я ответил: «Как сажа бела». «Как это понять?» – переспросил он. «Как хотите, так и понимайте». «Мы тебя сегодня же перетащим из этой кельи в более теплое место. Дела твои идут на поправку. Скоро снова пойдешь громить фашистов. В тебе я сразу увидел настоящего русского солдата». «Спасибо за комплименты, – ответил я. – Из меня уже видимо не получится ни военного, ни гражданского».
Кошкин молчал. Айзман с большим усердием сыпал в адрес Кошкина и меня сотни комплиментов. Он говорил, что за два с половиной года работы в госпитале впервые встретился с настоящими парнями, пробившимися сквозь ад, смрад, огонь и дым с границы Восточной Пруссии, минуя тысячи смертей, с людьми, которые находились в беспрерывных боях с первого дня войны. Айзман признался: «Я счастлив провести с вами несколько минут, свободных от работы. Товарищи, вы – настоящие русские герои».
Казалось, хвалебной речи не будет конца. Кошкин назвал Айзмана по имени и отчеству, поблагодарил за хорошие слова, спросил: «Вы за мной?» «Да, товарищ полковник. Мы решили с замполитом посоветоваться с вами по ряду вопросов». «Идемте, – ответил Кошкин. – Разрешите мне проститься со своим лучшим другом. Судьба нас вряд ли больше сведет».
Начальник госпиталя вышел. Кошкин тихо сказал: «Ну и льстец. Всюду ходит за мной по пятам. Даже поговорить с людьми возможности не дает. Илья, пришла пора сказать до свидания. Хотелось бы о многом поговорить, многое вспомнить. Думаю, что это не последняя встреча».
Он оставил мне адрес жены и взял адрес моих родителей. Обещали друг другу писать. Он поцеловал меня в лоб, пожал мою руку и вышел из изолятора.
В моем теле, в котором еле теплилась жизнь, чувствовалась сильная усталость и какая-то невыразимая тоска. Эта тоска иногда бывает у охотника, когда рядом с его шалашом неотступно, не взирая ни на какие угрозы, целую ночь воет собака.
Я думал: «Вряд ли судьба сведет нас с Кошкиным. На сей раз разошлись мы с тобой как в океане корабли». Это я чувствовал всей душой и телом. Предчувствие меня редко обманывало. «Почему мы больше не встретимся? Значит, один из нас умрет, так как расстояние для встреч не помеха. А кто – об этом думать не надо. Это, по-видимому, сделаю я, судьба это для меня уготовила».
После встречи с Кошкиным и передряги с выпитой водкой у меня появился аппетит. Впервые в изоляторе я попросил есть. По требованию, а может быть по просьбе Кошкина, я был переведен в теплую двухместную палату. Вторая кровать была заправлена по всем правилам женского искусства, но пока она была свободна по причине моей уже отступающей гангрены. Уход и внимание со стороны обслуживающего персонала ко мне возросли. Никаких стимуляторов для возбуждения аппетита мне не давали, но я ел все, что приносили. Ел понемногу, но часто. Чтобы время проходило быстрее, я просил и читал все без разбору книги вплоть до учебников.
Весна вступала в свои права. Днем нежно журчали ручейки. Малые реки и речушки вздувались, поднимая свой ледяной панцирь. Ложбины, тальвеги наполнялись водой и становились мощными водными преградами, не говоря о реках. С юга летели первые стаи гусей и журавлей. Весну чувствовало не только мое искалеченное тело, но и палата, вся скромная госпитальная обстановка. От госпитального обслуживающего персонала пахло весной. В наполненной весенним воздухом палате, мне казалось, пел по утрам свою длинную песню косач-тетерев. Ввысь взвивался веером жаворонок. Под окном на молодых стройных березах насвистывал свои мелодии скворец.
Лежа в гипсовом склепе, я считал себя самым несчастным человеком. Правда, тело уже привыкло, притерпелось ко всем неровностям гипса. Пролежни гноились, но омертвели, обесчувствели. Резких болей, как раньше, не ощущалось. Снотворного мне больше не давали. Уколы морфия заменили лекарством. Вместо люминала давали таблетки аспирина. Кровь вливали через день. Поили противным гематогеном.
В один из апрельских дней, счет которым я потерял, раньше обычного пришла процедурная сестра. Настроение у нее было отличное. Широко улыбаясь, она сказала: «А ну, милок, подставляй руку, будем колоть». В объемистый шприц она влила пузырек крови. Иглу вонзила в вену. Я оттолкнул шприц, высвободил руку и спрятал ее под одеяло. «В чем дело?» – резко спросила сестра. «Вы хотите влить мне не ту кровь, – ответил я. – Покажите флакон». Сестра криво улыбнулась, схватила флакон и поднесла к моим глазам. Я произнес: «Вы лучше сами прочитайте. На этикетке написано "кровь третьей группы"». Сестра бегло взглянула, молчала. Ее узкое, смуглое лицо с ястребиным носом побледнело. Затем на щеках появился румянец. Она тихо прошептала: «Простите, пожалуйста, ошиблась». Почти бегом выскочила из палаты.
Вбежала дежурная сестра, еще не старая женщина, лет 35. Строго спросила: «Что случилось?» Я спокойно ответил: «Да так, ничего. Процедурная сестра ошиблась. Она хотела влить кровь не той группы». Сестра подошла к кровати, поправила одеяло, негромко сказала: «Ты знаешь, чем это могло закончиться?» «Знаю, – ответил я. – Могло бы произойти свертывание крови. Через час стоял бы перед вратами рая. Мне кажется, я заслужил рая своими мученическими делами». «Как вы догадались, что это не та кровь?» – спросила сестра. «Мне кто-то подсказал, – я показал пальцем на потолок. – А откровенно, сестричка, по-видимому, сработал инстинкт, самозащита. После всего перенесенного жить буду, но жениться вряд ли захочу». Лицо сестры расплылось в добродушной улыбке. «Цыплят, милок, по осени считают. Как только вылезешь из гипсовой скорлупы и начнешь ходить, сразу же потянешься к девкам. Знаю я вашего брата, не первый год замужем». Ласковая улыбка не сходила с ее лица.
Вдруг медсестра стала серьезной. Лицо ее как бы вытянулось. Она глухо проговорила: «После всего этого вы еще шутите. А если бы она вам влила эту злосчастную кровь?» Не успел я ответить, как она быстро вышла из палаты.
Я снова остался один. Тяжелые, неприятные воспоминания роились в моей голове. Я вспомнил раннее детство. Мать всегда называла меня невезучим. Что верно, то верно. Действительно, мне не везло. Все сделанное мною оборачивалось против меня. Как только я начал запоминать, в моих мозгах стали откладываться памятные клетки. Как все мальчики, я любил играть с железяками. Отец и старший брат были плохими кузнецами, однако часто работали в кузнице. В первую очередь, для своего хозяйства. Нечасто – на сторону. Я не пропускал ни одного дня при открытых дверях кузницы, чтобы не повозиться с обрубками и обрезками железа. Часто выгоняли или просто по-деревенски брали за шкирку, то есть за ворот рубахи, и выносили из кузницы, драли за ухо или волосы. Я ревел, вырывался, убегал. Все обиды через полчаса забывал и снова появлялся в кузнице. Невзирая на окрики, шел в угол к натасканным мною железкам. Первое, что я отчетливо запомнил, подбросил над собой кусок железа, похожий на гайку. Он достиг потолка и ударил меня по голове. Пошла кровь. Отец взял меня на руки, принес домой, рану залил креолином. По-мужицки выругал и пригрозил матери, если она меня еще раз отпустит из избы, то держись. Но бедной матери за каждым из нас следить было некогда. Нас было шестеро.
Один раз схватил в руки только что откованный молоток. Он сжег до костей кожу и мясо на моих руках. Много раз руки резал ножом, серпом и косой. Два раза тонул. Без счету падал с лошади. Два раза был на рогах у коровы. Два раза меня переезжали на санях, и один раз переехала порожняя телега. Всего перечислить невозможно. Все я помнил отчетливо. Казалось, это было только вчера. От всех этих несчастий, как их называла мать, я отделывался легко – небольшими ушибами. В юности и отрочестве не раз падал с деревьев с высоты 5-7 метров, с возов сена и снопов. Один раз свалился через задний борт идущей автомашины на проезжую часть, покрытую булыжниками. Однако отделался только легким ушибом.






