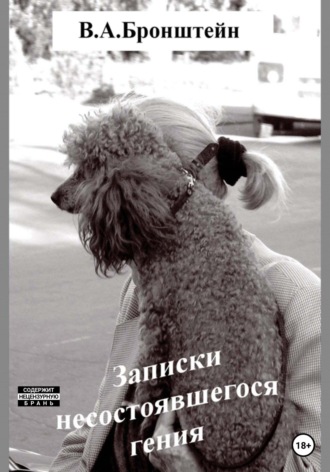
Виталий Авраамович Бронштейн
Записки несостоявшегося гения
мгновенно просыпался и твердой рукою рефлекторно рвал на себя спасительный стоп-кран.
Может ли представить себе читатель, что происходило в трамвае, когда одна за
другой петарды рвались под его колесами?
Вагон резко, с каким-то воющим звуком останавливался, пассажиры падали друг
на друга, водитель быстро выскакивал и начинал осматривать рельсы, в воздухе стояла
страшная ругань и проклятия. А мы тихо отходили на заранее подготовленные позиции…
Наша рельсовая война, впрочем, как и этот дивный роман с восторженной
девушкой, окончились так же внезапно, как и начались. Здесь надо сказать, что отношение
к оружию у моей пассии было двойственное: она им безмерно восхищалась, и в то же
время – страшно боялась. Как-то хозяйка моей квартиры Циля предупредила меня, что
будет отмечать день рождения своей подруги и у нее же останется ночевать. «Подругу»
эту я хорошо знал: это был тощий штурман с сухогруза «Ольвия». Разумеется, я не
преминул воспользоваться представившейся возможностью провести целую ночь со своей
романтической возлюбленной, совершив тем роковую ошибку.
20
Описывать ту ночь не стоит, она хорошо памятна нам обоим, мне, может быть, больше, потому что утром, проснувшись, я обнаружил, что моей любимой уже нет, а на
автомате, чутко оберегавшем наш ночной покой на отодвинутом в сторону стуле, белеет
записка:
«Мерзавец! Ты такой же ненастоящий, как эта деревянная палка!»
============
ЛЮСЯ, ЛЮСЕНЬКА, ЛЮСЬЕНА…
Если попробовать разделить жизнь человека на три условных периода: молодость, зрелость и старость, то первому из них более всего присущи мысли о будущем (планы, мечты, надежды на их свершение). Зрелость тоже не лишена некоторых мечтаний, но
человека более всего начинает интересовать уже день нынешний. А вот старость
характерна тем, что завтрашний день тебя интересует все меньше и меньше, зато как
приятно, другой раз, вернуться в далекую молодость, окунуться в былые добрые времена, особенно когда есть там вспомнить что-нибудь занимательное.
Моя первая супруга, милая Люсенька, всегда была мягкой и отзывчивой. У нее
было доброе сердце и только один малюсенький недостаток, но об этом несколько позже.
Впрочем, и на солнце бывают пятна, а человек есть человек: как ему хотя бы без малых
слабостей?
Я познакомился и стал с ней встречаться, буквально, через месяц после
возвращения из армии, когда она еще училась в десятом классе. Люся была настоящей
красавицей в моем тогдашнем восприятии: высокой, стройной, с заметными округлостями
и смешливыми ямочками на упругих девичьих ланитах. А щедрая грудь и чуть
полноватые, с округлыми коленками длинные ноги…
Поступали в пединститут мы вместе: я – на русское, она – на украинское отделение
филфака. Так сказать, будущие учителя изящной словесности. А через два года родилась
Раечка. Люся пробыла с ней дома все лето, а с сентября, благодаря моей маме, которая, чтобы иметь возможность ухаживать за долгожданной внучкой, ушла на пенсию, продолжила учебу на третьем курсе.
Так вот, всем была хороша моя женушка, грех мне на неё жаловаться, вот только
одна деталь настораживала. Моя избранница была большой любительницей чего-нибудь
приврать. Причем, лгала она не столько для выгоды, сколько из подлинной любви к этому
высочайшему искусству. Пройдут годы, я посмотрю фильм, где герой органично, как
рыба в воде дышит, обманывает всех вокруг, вспомню милую Люсеньку и пойму ее
любовь к всяческим выдумкам как средство и способ сделать жизнь интереснее, скрасить
унылые будни, изменить вокруг что-то, ничего не меняя.
Впрочем, если задуматься, то случаи, когда Люсьена получала от своего вранья
явные дефиниции, тоже иногда встречались. На третьем курсе экзамен по зарубежной
литературе у нее принимала Марианна Георгиевна Андреева, возможно, мой самый
большой недоброжелатель в институте, с которой я (не считаю уместным приводить здесь
причину, но она и сегодня для меня весома) годами не здоровался. Представляю, как была
счастлива эта рафинированная москвичка, когда жена ненавидимого ею комсорга литфака
не ответила ни на один вопрос вытянутого билета.
– Что же это вы так подкачали, голубушка… – с притворным укором пропела она, -
разве можно так небрежно относиться к серьезному предмету…
21
Марианна, не раскрывая, отодвинула по направлению к провалившейся студентке
зачетную книжку. Это означало «двойку» и автоматическое снятие стипендии.
И тут у Люси – на хрустальной слезе, с неподдельным волнением – вырвалось
чистосердечное признание:
– Вы знаете, я сама не пойму, что со мной происходит… Голова – пустая, как орех, все как-то смешалось, говорю, не зная что… Муж вечером снова привел в дом своих
дружков, напились, не давали доченьке спать, она, бедная, буквально захлебывалась от
крика! Я уж и так, и эдак, пыталась их успокоить, да где там… А как он унижал меня, показывал дружкам, кто в доме хозяин…Просила их уняться, говорила, что завтра
экзамен, хотела с дочкой уехать домой к своим родителям, а они дверь заперли и
смеются…
Я действительно ничего сейчас не соображаю, вы уж извините меня, Марианна
Георгиевна, что отняла у вас время!
Преподаватель удивленно расширила глаза и вздернула выщипанные брови. Ее
лицо выразило крайнюю степень негодования. Чувствовалось, что только что она
убедилась по поводу супруга незадачливой студентки в своих самых худших подозрениях.
Изверг и кровопийца! И еще имеет наглость вызывающе, при встречах с ней, отворачиваться в сторону!
– Как я вас понимаю, голубушка! – воскликнула она. – Ну и мерзавец он, однако!
От таких комсомольских активистов можно всего ожидать… Вы уж держитесь и будьте с
ним потверже. И знайте: общественность вам поможет, нельзя таким негодяям давать
полностью распоясаться!
Здесь Люся почувствовала, что Марианна созрела, чтобы распахнуть перед ней
свое доверчивое сердце, и стала робко собирать со стола свои бумаги. Она потянула руку
за зачеткой, но Марианна Георгиевна, опередив ее, придвинула к себе главный
студенческий документ, раскрыла и, на мгновенье задумавшись, решительно поставила
оценку, выведя справа крупную подпись.
Счастливая Люся стыдливо потупила глаза и тихо ее поблагодарила.
– Держитесь, держитесь… – пламенно напутствовала несчастную
расчувствовавшаяся преподавательница.
Помнится, был я тогда приятно удивлен, что Люся, практически не зная
зарубежных авторов, умудрилась получить вожделенную «четверку». Мне и в голову не
могло прийти, как ловко она реализовала мои скверные отношения со своей
экзаменаторшей.
Лишь через полгода я узнаю правду от ее сокурсницы, моей коллеги по
факультетскому бюро комсомола, и буду по-настоящему обескуражен.
– Как ты могла так поступить? – спросил я у нее тем же вечером дома. – Не кажется
ли тебе, что для такого поступка есть только одно подходящее слово: предательство?
– Какая глупость! – искренне возмутилась Люся. – Ты что – дурак? По-твоему, лучше было бы получить «пару» и потерять стипендию?! У нас и так постоянная
напряженка с деньгами!
Я смотрел на ее милое лицо, читал недоумение в чистых глазах молодой женщины, матери моего ребенка, и на какой-то миг во мне закралось сомнение: черт его знает, может, она действительно права? Ведь это и в самом деле глупо: иметь возможность
избежать серьезной неприятности – и не воспользоваться ею!
Другой случай, смутивший меня еще больше, произошел через пару лет после
окончания института, когда Люсе, как молодой маме, удалось избежать направления на
работу в село и устроиться в городскую вечернюю школу учителем украинского языка и
литературы. И надо же было так случиться, что в этой самой школе преподавала
математику близкая родственница моей заветной подруги, имя которой тоже встречается
на страницах этой книги.
22
Здесь надо мне на минутку остановиться, чтобы объяснить уважаемому читателю, что означает понятие «вечерняя школа». Суть его в самом названии: вечерняя школа – это
среднее учебное заведение, в котором учебный процесс проводится, как правило, в
вечернее время. Возможно, поэтому меня стали удивлять частые приходы с работы моей
супруги ранее назначенного времени. Иногда она вообще возвращалась, к радости
домашних, через какие-то час – полтора.
– Неплохо устроилась! – уважительно отзывалась об этом ее мама.
Неплохо-то – неплохо, но положение, к моему ужасу, прояснилось довольно скоро.
– Скажи честно, что у тебя дома происходит? – однажды не сдержалась при
очередной встрече Оля. – Сколько можно издеваться над беззащитным человеком? Делать
вам нечего, что ли?!
В первый момент я растерялся, не понимая: шутка ли это или какое-то
недоразумение. Слов не было, и перехватило дыхание. Но Ольга быстро все прояснила.
Оказывается, ее тетушка, зная обо мне и наших с ней приятельских отношениях, что-то
заподозрила в поведении своей молодой коллеги и рассказала племяннице, что моя
Люсенька в последнее время часто является на работу угнетенная и подавленная. Сядет в
учительской где-нибудь в уголке, глядит в одну точку, лишь изредка протирая виски
дрожащими пальцами. Коллеги, видя молодую женщину в таком состоянии, естественно, интересуются, в чем дело, и получают пугающее их объяснение. Оказывается, над бедной
молодой матерью регулярно издеваются ее муж-сатрап и его злая, ненавидящая бедную
невестку, мамаша. Отсюда и поднятое давление, и невольно дрожащие пальцы…
Что делают сердобольные коллеги в такой ситуации? Всячески успокаивают
несчастную и отправляют домой: нельзя же работать в таком состоянии!
Насколько я понял, они даже собрались писать петицию в милицию и областной
отдел народного образования, чтобы решительно воздействовать на супруга-негодяя.
Этого только мне не хватало…
Беседа дома на эту тему с Люсей была непростой. Сказал ей все, что о ней думаю, и твердо предупредил: или она прекращает свои идиотские наговоры, или… Маме я
решил об этом не рассказывать, чтобы не расстраивать человека, который день и ночь
всячески облегчает жизнь невестке, добровольно взвалив на себя все заботы о любимой
внучке.
Вернусь ко времени нашего знакомства. В классе их было три подруги. И называли
их ребята не иначе, как три мушкетера. Люся была Арамисом. Мне б задуматься тогда, что это значит, ведь Арамис у автора был самым хитрым и смекалистым из этой тройки, настоящим пройдохой, добившимся со временем самых значительных успехов на
потаенном религиозном поприще. Но где там думать демобилизованному солдату
головой, когда его влечет на подвиги совсем другая часть тела…
Интересно, почему наиболее охотно вспоминаются смешные истории из нашей
жизни? Желание снова пережить их и посмеяться при этом? Вот и я с удовольствием
вспоминаю даже такое, что нормальный человек ни при каком условии не назовет
смешным: например, похороны двух Люсиных родственников. И пусть простят они меня
сейчас там, наверху: видит бог, я никогда не желал им плохого, но их уход запомнился
мне навсегда.
Люсин двоюродный дедушка Алексей из села Железный Порт умер осенью 1971
года. Честно говоря, у нас с покойным была легкая взаимная неприязнь. Собственно, мы с
ним всего пару-другую раз общались, но как-то Люся проговорилась, что в кругу
родственников он почему-то называет меня обидным словом «барбос». Что это значит, я
не пойму до сих пор: может быть, он в своем старческом воображении ассоциировал меня
со здоровым уличным псом, и вовсе не стоило за это на него обижаться, не знаю. Скажу
лишь, что быть барбосом в те далекие времена мне как-то не очень хотелось.
Этот старик, помнится, до самой смерти передвигался по селу на велосипеде, был
всегда в отменной физической форме, говорил: «я вас всех переживу!», и тому подобные
23
приятные вещи. Он до пенсии работал зоотехником, и поговаривали, что в совхозе до сих
пор нелегально пасется его собственное стадо, в общем, позиционировал себя дед в кругу
родичей как человек очень богатый и независимый.
Не раз я сам слышал, как он вызывающе бросал за семейным праздничным столом
звучное: «Я вас всех могу купить и продать!» А после краткой паузы, с целью завершения
ценной мысли, непременно добавлял: «И снова, когда надо, купить!»
Не думаю, чтобы его родственникам это особенно нравилось, но слухи об
огромном богатстве дедушки (и возможном наследстве, наверное!) как-то смиряли
массовый позыв прогнать неуемного старика или дать ему в морду.
Дед жил один. Жена его умерла много лет назад, с тех пор он так и не женился.
Убежденный бобыль.
В тот дождливый октябрьский день 1971 года Люсина мама появилась у нас дома
ранним утром. Накануне вечером ей передали из Железного Порта, что дед Леша умер, и
она заехала за дочкой с целью совместной экстренной поездки в село, куда стали срочно
съезжаться родственники, озабоченные тем, чтобы наследство, не дай бог, не стали
делить в их отсутствие. Можно понять.
Мне ехать никто не предлагал, и я побрел на занятия в институт без своей везучей
жены, отныне счастливой наследницы. Было немножко обидно, что в таком судьбоносном
мероприятии решено обойтись без меня, хотя я, как лицо в какой-то степени
пострадавшее от наглого покойника (вспомнился оскорбительный «барбос»!), казалось, имею право на некоторую сатисфакцию.
Новый учебный материал на лекциях в тот памятный день мне почему-то в голову
не лез. Я стал отстраненно подсчитывать, сколько у старика родичей и степень их к нему
близости. Получалось, что моя теща, Таисия Ивановна, чуть ли не в первой
привилегированной тройке. Интересно…
В те времена еще не было электронных калькуляторов, и сложные подсчеты
предполагаемого количества овец и коров в нелегальных стада́х знатного животновода, определение их ориентировочного веса и умножение искомого на среднюю стоимость
одного килограмма мяса, забрали у меня немало учебного времени. Как бы то ни было, к
концу третьей пары я вышел на цифру, которая настолько меня впечатлила, что оставаться
далее безучастным слушателем я уже не мог и отправился домой.
Дома я рассказал мамочке, как отныне может измениться наша жизнь, проиллюстрировав свои рассуждения полученными во время сегодняшних лекций
цифрами. К сожалению, она возилась с Раечкой, готовила обед, и, как мне показалось, отнеслась к моим соображениям без должного внимания.
Бог мой, как ждал я в тот день любимую Люсеньку! Какие мысли суеверно отгонял
о будущих упоительных тратах! Как медленно тянулось злосчастное время!
Люся с мамой, тяжело нагруженные наследством, возвратились в одиннадцатом
часу вечера. Таисия Ивановна почему-то хромала. Передвигая ноги с трудом, она
опиралась на Люсино плечо и время от времени тягостно стонала. Вид этой парочки не
очень вызывал ощущение свалившегося на них счастья, и меня страшно тянуло
поинтересоваться успехами их мероприятия, но начинать с места в карьер было как-то
неудобно. И только раздевшись, приведя себя в порядок, поужинав и выпив чая, они
неохотно начали свой скорбный рассказ о поездке в Железный Порт и увековечивании
памяти безвременно усопшего.
Приехали они одними из первых и, не дожидаясь других, начали поверхностный
осмотр дедовой усадьбы в поисках бесценных сокровищ деревенского Алладина. Бегло
оглядели комнаты с убогой старенькой мебелью, допотопный телевизор «Весна» и
противно дребезжащий с помятой дверцей холодильник. Как потом рассказала Люся, сердце у нее сжалось в неприятном предчувствии. Затем перешли к тщательному
досмотру. Прочесали каждый сантиметр сырого подвала, перевернули многолетние
запасы банок и бутылей с закаткой. При этом все (по понятным причинам!) старались
24
друг друга держать в поле зрения. Ничего не нашли. В столовой в руках тети Нади что-то
блеснуло. Дужка от дедовых очков. Все оживились, так как знали, что оправа золотая.
Перерыли все, но самой оправы не нашли. Наступила очередь чердака. Первой полезла
туда по шаткой лестнице Таисия Ивановна. Вдруг под ней хрустнула деревянная
перекладина, и бедная Таиса с криком упала, больно подвернув ногу. Ей помогли встать и
усадили на диване напротив телевизора. Люся пыталась помочь маме, предложила снять
зимние сапожки, но Таисия Ивановна ее нервно оттолкнула:
– Дуй быстрее на чердак, не теряй времени!
И оказалась права: главные дедовы ценности были заботливо припрятаны именно
там. Наследники аккуратно спустили с чердака деревянный ящик с крепко забитой
длинными гвоздями крышкой и приступили к его вскрытию.
Таисия Ивановна, опираясь на плечо дочери, взволнованно приковыляла поближе.
Ящик вскрыли и долго молча любовались его содержимым. В нем красовались тщательно
упакованные в промасленную бумагу и пересыпанные для лучшей сохранности
прогнившей от старости соломой десятки крупных брусков хозяйственного мыла, по
слухам, особо дефицитного продукта первых послевоенных лет. В те давние годы такой
ящик был действительно целым состоянием.
Родственники посовещались и решили отдать клад Таисии Ивановне как
пострадавшей. Она жалобно поглядела в сторону счастливой владелицы золотой дужки от
ненайденных дедовых очков, но тетя Надя сделала вид, что не понимает ее просящего
взгляда. Вот и пришлось Таисии покорно принять найденное сокровище, которое и
лежало сейчас у нас в проходном коридорчике рядом с туалетом.
Надо отдать должное Таисии: как человек щедрый, она предложила подарить нам
пол-ящика мыла, но моя мама отказалась наотрез. Таисия, в надежде избавиться от
ненужной ноши, стала рьяно расхваливать достоинства предлагаемого продукта, но мама
твердо стояла на своем. Так что на следующий день Люсе пришлось вызывать такси, чтобы отвезти матери нежданно свалившееся наследство.
Как позже выяснилось, никаких тучных стад у покойного не было и в помине.
Прожил свою жизнь в нищете, но с гонором. Надо уметь.
Кстати, мыльная история на целые десятки лет вылетела у меня из памяти и потому
не попала в первую редакцию этой книги. Вспомнил ее я сравнительно недавно, отдыхая с
товарищами в одной тель-авивской пивнушке, где на удивление весело сидится
эсэнговским эмигрантам. Может быть, тому содействует ее название, близкое каждому
русскоязычному слуху. Ее содержит семейная пара из Петербурга, охотно отзывавшаяся
на все проблемы эмигрантов родным и близким: «К е@ене матери!» – на вывеске.
Вероятно, именно это приводит большинство пиволюбов в игривое настроение.
И только сидя в той пивнушке и насмешив приятелей незамысловатой мыльной
сагой, я вдруг подумал, какими же глупцами мы были в те далекие годы. Давали себе
сесть на шею глупому вздорному деду, верили в его бредни и мирились с наглыми
выходками. Впрочем, не таким уж неумным был дед Леха. Он знал жизнь и добивался
уважения родичей не добрыми делами или общественно значимой ценностью, а лживыми
россказнями о каком-то мифическом богатстве, которое после его смерти обломится
доверчивому и жадному окружению. С трудом терпели, насилу дождались, и на тебе –
сломанная дужка от очков да ящик мыла! Живите богато и помните долго.
Очень бы не хотел, чтобы читатель подумал, что более всего автора этих строк
веселили похороны родственников первой жены. Это не так. Хотя уход из жизни ее
другого двоюродного дедушки Пети, стыдно признаться, тоже вызвал у меня
неадекватную реакцию, но только по другой причине.
С её дедом Петей встречался я, если не подводит память, только два раза. В
первый раз – на своей свадьбе в 1968 году, второй – на его похоронах через полтора года.
Собственно, я, наверное, мог бы на них и не идти, но очень уж меня об этом просила
Люсина мама. Она почему-то сильно хотела, чтобы я с собой захватил фотоаппарат и
25
зафиксировал для благодарной памяти потомков навеки уснувшего дедушку. Я взял
фотоаппарат и отправился на это скорбное мероприятие, захватив с собой, чтобы не
скучать понапрасну, своего лучшего кореша-однокурсника Олега Добут-Оглы, милого, доброго Олежку, который уже много лет живет в Португалии. И очень может быть, что и
он сейчас иногда вспоминает те похороны…
Виновник события проживал на Забалке, и только попав к нему в дом и вынув из
кожаного чехла зеркальный фотоаппарат «Зенит», я обнаружил, что в нем нет пленки. Я
чертыхнулся и тихонько сказал об этом Олегу. На его лице тут же появилась глупая, не к
месту, улыбка.
Делать нечего, раз ружье вынуто – надо стрелять, не признаваться же теще в
собственном разгильдяйстве. И я стал как бы взаправду, для пущей достоверности, искать
наиболее выгодные ракурсы для съемок покойного. Я подходил и с той стороны, и с этой, деловито прицеливался, чтобы каждый присутствующий мог убедиться, каким важным
делом занят рослый студент, муж их красавицы-Люсеньки. Может быть, так бы это и
сошло с рук тихонько, но тут, как на грех, в комнате появилась назойливая крупная
зимняя муха. Откуда она в доме взялась, одному богу известно, скорее всего, это было
просто посланное нам небом очередное испытание.
Причем эта дрянь, будто чувствуя мою готовность сделать новый кадр, каждый раз
начинала кружить рядом и в последний момент неизменно норовила сесть на дедушкино
лицо, точнее, на самый кончик его бледного, в темных прожилках, носа. Олег пытался
помочь мне, сгонял рукой муху, но где там, с завидным упорством эта жужжащая тварь
снова и снова возвращалась на насиженное место. Дед лежал внешне безучастно, как
будто происходящее его совершенно не трогает. Участников похорон такое невиданное
зрелище явно заинтересовало, и они стали удивленно переглядываться. Я избегал
встречаться с Олегом взглядом, чтобы громко, в голос, не рассмеяться. Он тоже с
большим трудом сдерживался. Если бы я не был свидетелем и даже активным участником
этой сцены, то никогда б не поверил, что такое вообще возможно: муха кружила над
дедом, как привязанная!
Мне бы спрятать фотоаппарат да выйти из комнаты, но я уже так вошел в процесс, что не мог остановиться. Это было какое-то наваждение! Я упорно наводил на покойника
свою зеркалку, и так же упорно проклятая муха раз за разом садилась на облюбованный
ею нос…
Кончилось тем, что наглое насекомое, наконец, дало слабину: село на дедов
пиджак в районе верхнего нагрудного кармана, полагая, очевидно, что там можно, наконец, отсидеться в покое. Как бы ни так! Это была его последняя посадка. Мой друг, трясущийся от еле сдерживаемого смеха, не выдержал, оглянулся украдкой и изо всех сил
хлопнул по опостылевшей мухе. Я замер. Труп содрогнулся, и у него открылся рот. Это
было так странно, что мы с Олегом, не веря своим глазам, чуть не потеряли сознание.
На этом наши приключения не окончились. Видя, что я прекратил снимать, Таисия
Ивановна тут же предложила поучаствовать мне в переноске покойного, на что я деланно
оскорбился: зачем же тогда я с собой брал фотоаппарат, кто здесь, кроме меня, справится
с ответственнейшей задачей фотосъемок покойного на его последнем марше?
В общем, пришлось мне ходить поодаль от процессии, время от времени щелкая в
сторону скорбящих родственников незаряженным фотоаппаратом. А Олег, не посмевший
ослушаться моей строгой тещи, обиженно отводя от меня взгляд, грустно тащил в
компании таких же пяти бедолаг гроб неизвестного ему старика, радуясь хотя бы тому, что покойный был мелкой комплекции. Разве такое когда-нибудь забудешь?
Мы с Люсей вместе прожили четыре года. Потом расстались. Она вышла замуж за
хорошего человека, родила от него дочку Инночку. Сегодня обе ее дочери – взрослые
замужние женщины, живут со своими семьями в Израиле. Естественно, моя милая
Люсьена уже давно бабушка. Она прожила достойную жизнь, много лет назад усыновила
ребенка своей умершей двоюродной сестрички, жившей в Одессе. И это притом, что
26
родной его дедушка, сводный Люсин брат Сергей, по профессии инженер-электронщик, человек одинокий и неприкаянный по жизни, взвалить на себя хлопотные обязанности по
воспитанию сироты в свое время не решился. Люся и ее муж Алексей, старший офицер
милиции, не дали пропасть Вадику, вырастили и воспитали его, дали хорошее
образование. Так поступают добрые приличные люди. И если в начале этой новеллы я с
удовольствием описал некоторые безобидные шалости моей первой супруги, от которых, в конечном счете, никто особенно не пострадал (зато жить всем вокруг становилось
интереснее!), то теперь, когда пришел час подводить итоги, можно честно сказать, что она
прошла достойный путь, и поступки ее взрослой жизни вызывают только уважение.
Мне на нее обижаться нечего. Что было, то было. Люся трактует свой уход от меня
известной истиной, мол: «в одной берлоге два медведя не уживутся». Единственный
неприятный отголосок тех лет – когда мне приходится, если заходит речь об Инночке, Люсиной дочери от Алексея, объяснять степень своего родства с ней словами «сестра
моей дочери». Звучит, на первый взгляд, не очень понятно, после легкого пояснения все
становится ясно, но почему это меня, даже спустя столько лет, смущает и коробит?
===============
ГИГАНТ ПЕРИФЕРИИ.
Ко времени, когда мы с ним познакомились, Александр Абрамович Насонов
преподавал историю в 39-ой школе. Собственно, в классе, где он был классным
руководителем, осенью 1971 года я проходил преддипломную педагогическую практику.
Ему тогда было лет 45. Седой, невысокий, полный, с жестким выражением умного
волевого лица, он мне казался пожилым человеком.
Аккуратные скобки в уголках четко очерченных губ, острый проницательный
взгляд. Сейчас, когда я рассказываю о нем, мне куда больше лет, чем было тогда ему.
Интересная все-таки эта штука – жизнь…
Александр Абрамович понравился мне сразу и навсегда. С учениками он вел себя
абсолютно раскованно и даже демонстративно небрежно. На каждом шагу их подначивая, мог дружески бросить:
– Ну и лопух же ты, Петя – свет таких не видал! Ты уж пойми меня правильно: в десятом
классе нельзя жить с одной извилиной в голове, нужно иметь хотя бы две…
Меня такие вещи немного настораживали, но ребята на него не обижались, он был
своим, его боготворили.
Историю Насонов знал блестяще, мыслил нестандартно, на его уроках сидели, разинув рот, не только ученики, но и проверяющие разных рангов.
В Херсоне звание «учитель-методист» он получил первым. Был на научной
конференции в Киеве, выступил в прениях; при десятиминутном регламенте – говорил в
атмосфере напряженнейшего внимания более часа. Столпы исторической науки, украинские академики, сидели в президиуме с ощущением того, что стали свидетелями
события.
К сожалению, по своей косности я не удосужился расспросить его, о чем он там
говорил; а я для него в те времена был в столь низкой «весовой категории» – тогда я
только стал директорствовать на селе – что перед таким объектом не стоило и хвастать.
Жаль. Поделился со мною лишь тем, что после нашумевшего выступления имел с ним
краткую беседу академик Танчер (если я не искажаю эту фамилию по памяти), расспрашивал, откуда он, какой педстаж имеет, есть ли награды. И очень удивился, узнав, что Насонов даже не «отличник» образования.
27
На следующий день в своем выступлении, завершающем конференцию, академик
заявил, что если бы у него в академии были такие «науковці», как безвестный учитель
истории из Херсона, его наука была бы сегодня на совсем другом уровне. И под громовые
аплодисменты вручил Насонову знак «Учитель-методист» и удостоверение к нему. Скажу
честно: и сегодня, через три десятка лет после той памятной конференции, подобная
оперативность в награждении по-прежнему немыслима. Значит, такое было
выступление…
Рассказывать об этом эпизоде своей жизни Насонов не любил, но с удовольствием
вспоминал, как по приезду домой его просили показать значок «методиста» руководители
областных учреждений образования: они его еще не видели.
Коллеги Насонова не очень любили – заметно выделялся на их скромном фоне, начальство обоснованно опасалось – слишком умный…
Теперь, по прошествии многих лет, могу откровенно признаться: людей такого
острого ума и больно жалящего языка, как Александр Абрамович Насонов, забытый
сегодня многими учитель истории, в своей жизни я больше никогда и нигде не видел.
***
Приблизительно, в середине моей трехмесячной педагогической практики с ним
случился инфаркт, и он попал в больницу. Пришлось замещать его в должности классного
руководителя. Ученики навещали Насонова ежедневно, часто приходил и я, рассказывал
школьные новости. Иногда, чтобы больному не было скучно, приводил с собой
однокурсников. Наличие такого друга вызывало у них заметную зависть, это мне
нравилось. О чем мы тогда говорили – не помню, осталось лишь в памяти, что любой наш
тогдашний разговор сводился Насоновым, практически, к одному: как непозволительно
много вокруг нас дураков, да и мир по своей природе – безнадежно глуп, а раз так, грешно
умным людям в своих целях такой тотальной глупостью не воспользоваться…
Сегодня подобные темы меня не трогают, к чужой глупости я давно безразличен -
тут бы со своей суметь разобраться. А тогда такие разговоры поддерживал охотно. Как
же: мир глуп, дураков тьма, кто это понимает и в своем кругу обсуждает – конечно же, исключение… Приятно быть в умной компании!
Со временем между нами установились более близкие отношения. Насонов много
курил, вокруг него постоянно вился легкий дымок, это располагало.
Учителей-сослуживцев он не уважал, считал ограниченными приспособленцами.
Его живым вниманием пользовались, в основном, люди, «умеющие жить». Он всегда
пытался докопаться, каков скрытый источник их преуспевания; радовался, когда узнавал, что собственные заслуги большинства – весьма относительны: кто-то выгодно женился, у
другого – мощные родственные связи, третий – просто подворовывает помаленьку. Не
говоря уж о тех, кому повезло выкарабкаться случайно.
С директором своей школы Насонов находился в перманентном конфликте.
Объективных причин для этого, кроме строптивого «почему мной должен руководить
дурак?», я не видел. Ветеран-фронтовик Иван Григорьевич Бондарь был абсолютно
нормальным человеком, хотя и, понятное дело, до интеллектуального уровня учителя
истории ему было далеко. Ну и что? Человек воевал, учился, много работал – кому он
мешал?
Немногословный (по мнению Насонова – бессловесный!) высокий дядька, худощавый, с непропорционально длинными руками и серьезным выражением
изборожденного глубокими морщинами лица, – можно только представить себе, как
должен был этот человек ненавидеть остроумного еврея за его постоянные, унижающие
достоинство руководителя шуточки, издевки и подковырки…
Ненавидел, но ничего поделать с ним не мог: как учитель, Насонов был на
недосягаемой высоте, так сказать, профессионально неприкасаем. И позволял себе
критиковать директора везде и всюду под старым, как мир, лозунгом: «все, что делает
дурак, все он делает не так». А дальше следовал полный «джентльменский» набор: в


