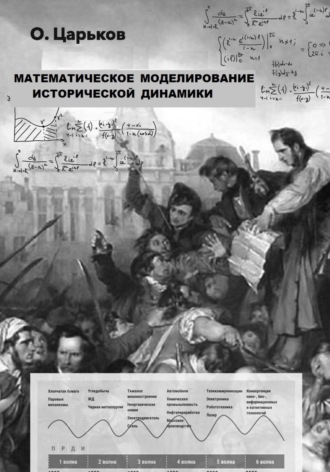
Олег Евгеньевич Царьков
Математическое моделирование исторической динамики
§58. ФЛАГИ КАТАСТРОФ
(на современных примерах)
„Praemonitus, praemunitus” 1087
Системный рост за счёт структурных разрывов имеет неизбежные границы, вызванные предельным количеством диспропорций между элементами системы. Пока её развитие достигается за счёт неэквивалентного изъятия части ресурса из доходных секторов в менее доходные, развитие продолжается, несмотря на определённый дисбаланс. Этот процесс вызывает цепную реакцию прогрессирующего роста издержек и общее снижение доходности вследствие нерационального использования ресурса с последующим торможением развития системы. Как уже отмечалось выше её „критическое замедление” является одним из флагов грядущей катастрофы. Таким образом, „антициклические меры” положительно сказалось на благосостоянии благополучного ядра земной цивилизации – „золотого миллиарда” за счёт его переферии. На короткий срок они решили проблемы накопления структурных разрывов, т.е. внутрисистемной энтропии. Её неуклонный рост сделал перерождение „свободного рынка” в международную олигархию финансистов только вопросом времени.
В части II было показано, что рост внутренней энтропии при господстве олигархии ведёт к упрощению системы и понижению её производительности, создавая нехватку ресурса. В части III были рассмотрены случаи, когда в подсистеме управления возникал дефицит ресурса в одной из сфер, приводивший её к десинхронизации (схема 14). Вслед за этим происходило массовое „дезертирство” отдельных элементов и даже целых подсистем. Их исключение из логистических цепочек внутри системы порождает каскад структурных разрывов, создавая предпосылки для системного кризиса и следующей за ним бифуркации с попаданием в странный аттрактор.
Поскольку катастрофу в точке ветвления подсистема управления предотвратить не может, у неё возникает задача о том, как к ней подготовиться. Для начала следует определить момент, когда она произойдёт. Косвенные признаки того, что система находится вблизи точки бифуркации, именуются флагами катастроф. Они представляют собой изменение элементов системы, по которым можно судить о близости скачка. Некоторые из них чаще всего появляются совместно. В их число входят:
– наличие нескольких состояний равновесия, в т.ч нескольких устойчивых и хотя бы одного неустойчивого;
– гистерезис: переход из одного устойчивого состояния в другое и обратно по разным траекториям;
– потенциальная возможность быстрого изменения состояния системы при малых изменениях внешних условий;
– необратимость.
Рассмотрим их на конкретных примерах.
Теория катастроф позволяет определить то, что обычно теряется при традиционно детерминированном макроэкономическом анализе. Это, в первую очередь, относится к точкам ветвления траекторий развития. Следовательно, одной из главных задач прогнозирования становится умение определять, как далеко от точки бифуркации находится конкретная система. Другой не менее важной задачей является стратегия поведения в точке бифуркации, где происходит смена аттракторов, когда перед регулятором поставлен вопрос что делать дальше?
Модель хозяйствования, названная Л. Ларушем „физической” экономикой1088, сохранилась в странах, не уловлетворяющих принципам либеральной демократии”. Главное её отличие от постиндустриальной модели заключается в том, что сфера услуг, включая все основные финансовые механизмы, играет второстепенную роль в процессе производства избыточного продукта. Именно эта „недоразвитость” системы в России позволила ей пережить в 2022 году санкции с минимальными для себя потерями. Ранее экономический и политический вес сильно уступал глобалистам, вследствие чего они были вынуждены сдать ряд позиций в области политики, идеологии и пропаганды. Это выразилось в расширении НАТО и ЕС, снижении политической роли ООН и появлению новых политических механизмов, таких как G7/8/20. Однако, в силу ряда объективных причин американская технологическая платформа1089 оказалась не в состоянии абсорбировать ни мировую экономику в целом, ни привязать к себе даже Россию, которая до 2019 года фундаментально принадлежала к американской технологической платформе. Вследствие этого от неё стали откалываться элементы, которые в силу тех или иных причин, были её составными частями. Это событие является первым флагом катастрофы.
В экономических прогнозах американских учёных на 2020–2029 годах, сделанных до эпидемии COVID-19, основными соперниками на мировой экономической сцене считались Китай и США. Мнение экспертов обосновывалось тем, что эти государства инвестировали свои средства в современные по тому времени технологии. Согласно прогнозам, их стратегическая конфронтация в далёкой перспективе вела к формированию нового двуполярного мира. Это США попытались избежать, инициировав через своих европейских союзников „зелёную повестку”. Её реализация должна была повысить стоимость китайской продукции и снизить её конкурентноспособность.
В рамках концепции C, Хантингтона России отводилось второстепенное место: „…с учетом демографической ситуации, зависимости от нефти и газа, а также отсутствия структурных реформ вряд ли станет лидером экономического цикла”. Вместе с тем признавалось, что в новом биполярном мире1090 Россия выиграет от роста экономики Китая и последующего распада американоцентричной системы. Чтобы предотвратить этот отход, был инспирирован „украинский кризис”, основной целью которого является реинтеграция России в американскую техологическую платформу. Однако, по ряду причин, главной из которых является реиндустриализации и возврат к главенствующей роли „физической экономики”, эта проксивойна привела к прямо противоположному результату – углублению процесса деглобализации, начавшегося после 2014 года.
Вторым флагом катастрофы является появление и увеличение внутри системы количества маргинальных элементов, которые начинают навязывать остальному обществу свою систему ценностей и отношений. В экономическом плане они представляют собой стагнирующие секторы народного хозяйства, в социально-правовой области – это асоциальные элементы, а в культурно-моральном проявлении представляют собой обскурацию. Наиболее яркий исторический пример, иллюстрирующий такой процесс, – эпоха поздней Римской империи1091. С установлением однополярного мира политика „двойных стандартов”, проводимая по отношению к своим и чужим „сукиным детям”1092, стала использоваться повсеместно и привела к девальвации „либерально-демократических” принципов в глазах мирового общественного мнения.
Продолжительное манипулирование общественным сознанием позволяло задавить разрозненную оппозицию „мягкими методами”, канализируя её протест в первоначально безобидные движения антиглобалистов, защитников окружающей среды и ЛГБТ. Когда реальная оппозиция вышли за цивилизованные рамки, угроза либерально-демократической модели стала критической. Вследствие этого её перекрестили в борьбу с „мировым терроризмом”, пытаясь его ликвидировать силой, введя жёсткую цензуру и фальсифицируя информацию. Это стало причиной утраты доверия со стороны части общества и переросли в полное отрицание существующей глобальной модели, выразившееся в активном противодействии пассионарной части, оказавшейся исключённой из креатива, и обскурации менее активных элементов. Примером в области науки могут служить многочисленные „псевдоформации”, выдуманные „креативным классом”, пытающимся доказать свою полезность. На их основе появилось множество полуспекулятивных отраслей знания и ее практических приложений, которые как бы дублируют и обычно „открывают” заново результаты предыдущих исследований1093, а затем выдают за собственные достижения.
Третий флаг катастрофы поднимается позже и характеризуется “эффектом масляного пятна”, т.е. гипертрофированным, часто спекулятивным развитием одного элемента системы в ущерб остальным. В экономике это проявляется в преобладании узкоспециализированной отрасли хозяйства, ориентированной на получение максимальной прибыли. Поскольку в рамках глобалистской экономической модели первостепенной задачей являлось стимулирование роста номинального ВВП, для ее решения стали применяться неочевидные способы, такие как бюджетно-налоговое стимулирование объединерное с монетарным, которое предполагалось его осуществлять посредством прямого вливания ликвидности в домохозяйства. В качестве одного из таких механизмов предлагалось введение отрицательного налогообложения. Он подразумевает государственную политику, при которой каждый взрослый гражданин получит одноразовую налоговую субсидию фиксированного размера, профинансированную центральным банком, вследствие которого все граждане независимо от уровня доходов или состояния получают равные суммы. Однако вместо принципов налогообложения, что могло способствовать перераспределению покупательной способности к группам с наименьшим доходом, бюрократизировавшаяся „креативная элита” предпочла использовать механизм „вертолетных денег”1094.
Концепция М. Фридмана заключалась в том, что прямые трансферы домохозяйствам являются самым простым способом увеличить инфляцию до целевых показателей и тем самым стимулировать экономическую активность: заметив увеличение количества денег в обращении, люди начнут тратить свободнее, стимулируя потребительский спрос. Как только стало ясно, что снижение ключевой ставки, количественные смягчения и негативные процентные ставки исчерпали себя как механизм поддержки спроса, центробанки и соответствующие им государственные институты для стимулирования экономики решили реализовали эту концепцию. С помощью электронных денег они напрямую профинансировали государственный бюджет и только часть из них перенаправили непосредственно в домохозяйства, не снизив налогового бремени. С учётом локаута такая политика не только не оживила экономику, но и привела к очередному витку инфляции и повсеместному росту цен, наиболее сильно проявившихся в 2022 году. Необходимость её снижения привела к повышению учётных ставок центральных банков1095 и, как следствие, увеличение доли расходов, направленных на обслуживание совокупного долга1096 крупнейших экономик. По мере роста процентных ставок это съедает все больше и больше бюджет, только на проценты тратится 7-10% федерального бюджета США1097.
Четвертый флаг – вынужденная одновариантность поведения системы – заменяет первый флаг по мере приближения системы к точке бифуркации. „Эффект тюбика зубной пасты” характеризуется насильственной мобилизацией внутренних резервов системы. К этому моменту она уж утрачивает возможность какого-либо манёвра, но продолжает бороться за своё существование из чувства самосохранения. Длительность этого процесса зависит от величины и уровня организации системы и её отдельных элементов, а также объёма, накопленного ими ресурса. Наиболее длительный процесс представляет собой история угасания Византийской империи, просуществовшей тысячу лет после падения Рима1098. Социально-экономический гомеостаз, приводящий к „бегу по кругу” независимо от изменения других элементов системы, является пятым флагом катастрофы. В рамках локальных хозяйственных систем он наблюдался в рамках исторической динамики множество раз и характеризовался внезапным и полным разрушением системы и её элементов, неспособных устоять перед внешним воздействием1099. В настоящее время он представляется, как возвращение глобальной экономики на прежнюю траекторию развития.
Аналогом гомеостаза является пятый флаг катастрофы так называемое критическое замедление, которое характеризуется тем, что множество усилий не приводит к сколько-нибудь заметному эффекту1100. Критическое замедление1101 при приближении к катастрофе носит универсальный характер и присуще разнообразным по природе системам, эволюционирующим к катастрофическому изменению их состояния. Суть этого явления заключается в том, что в ней за счет случайных воздействий возникают автоколебания параметров1102 нехарактерные для системы. Они проявляются по мере приближения системы к точке бифуркации и могут послужить не только предвестником, но и её триггером1103. Подобное явление особенно характерно для активных элементов системы, в которых по мере приближении к точке бифуркации вследствие задержки спонтанно растёт амплитуда автоколебаний (§34). В этом случае имеет место резонансный эффект, вследствие которого катастрофический порог достигается раньше, чем это следовало ожидать.
Примером критического замедления является финансовая политика в канун пандемии COVID-19. Лица, принимавшие решения, были знакомы с дилеммой Триффина, которая заключается в том, что эмиссия ключевой валюты должна соответствовать золотому запасу страны-эмитента. Её чрезмерность, не обеспеченная золотым запасом, может подорвать обратимость ключевой валюты в золото, что вызовет кризис доверия к ней. Одновременно с этим, ключевая валюта должна выпускаться в количествах, достаточных для того, чтобы обеспечить увеличение международной денежной массы для обслуживания возрастающего количества международных сделок. Поэтому ее эмиссия должна происходить, невзирая на размер ограниченного золотого запаса эмитента. Однако, мировая финансовая элита решила проигнорировать это правило. К 2019 году глобальные финансы достигли своего предела, поскольку центробанки развитых стран перешли к политике нулевых ставок и программе «количественного смягчения». Она была инициирована событиями 2008 года и должна была стимулировать инвестиции в финансовый сектор. Эта программа предусматривала целевое направление эмитируемых центробанками новых денег в финансовую систему через покупку банковских активов и прямое кредитование. Предполагалось, что банки и другие финансовые институты направят полученные ими средства для кредитования реального сектора и населения. Однако, этого не произошло, поскольку оказалось выгоднее держать средства на безрисковых депозитах, например, в том же центробанке-эмитенте. Закономерным итогом количественных смягчений стало вливание средств на сильно выросшие фондовые рынки, никак не отразившиеся на реальной экономике и, увеличившие инфляцию.
Обнаружив любой из флагов катастрофы, регулятор теоретически должен не только поменять параметры системы с целью предотвратить или отстрочить катастрофу, но и выявить побочные вызовы. Некоторые из них обязательно проявят себя в подходящих условиях, другие – нет. Самым показательным среди них из них является рост шумовых флуктуаций, проявляющийся в канун катастрофы. Он характеризуется всплеском агрессии микроуровней системы, выражающейся в появлении альтернативных идей и лидеров. Они непредсказуемо влияют на состояние сложной системы независимо от других её параметров и иногда добиваются внушительных результатов1104. Наиболее успешные из них инкорпорируются при переходе системы в новое качество, а остальные просто исчезают.
В социально-экономическом плане шумовые флуктуации представляют собой резкий рост колебаний элементов низового уровня, приводящих к дисфункции её подсистем. Они сопровождаются информационным взрывом, экзальтирующим маргинальные слои общества1105 и, как следствие, радикализирующим их. В последние несколько лет увеличение налоговой нагрузки, локаут, инфляция и неизбежный рост цен привели к обнищанию „среднего класса”, составлявшего на протяжении прошлого столетия прочную основу „гражданского общества”, и привело его часть к маргинализации.
Своеобразным информационным шумом в условиях глобального капитализма является официальный показатель инфляции, который, как правило, занижается регулятором. Как уже отмечалось выше, деньги представляют собой информационный образ реального товара или услуги в сфере обмена и распределения. Пройдя по цепочке общественного воспроизводства, они представляет собой овеществлённый труд с некоторой „наценкой за управление”. Соответственно, промышленная инфляция, также как порча монеты и фальшивомонетичество1106, является следствием энтропийного эффекта. Его основными акторами являются не столько балластные и маргинальные элементы системы, сколько „змееловы” и симулякры из подсистемы управления.
В принципе все налоги снижают возможности рынков эффективно распределять ресурсы. Но самыми результативными видами налогов являются те, которые просты, единообразны и предсказуемы, так как они позволяют бизнесу планировать свои действия и инвестировать свои капиталы. Американский налоговый кодекс являет собой полную противоположность этому, чем пользуется подавляющее большинство „безбилетников”, занятых бизнесом. Хотя номинально налог на прибыль корпораций в США выше, чем в большинстве других развитых стран, в действительности только немногие американские компании платят их по полной ставке. Это связано с тем, что корпоративный бизнес пролоббировал для себя массу льгот, исключений и привилегий. Зачастую они принимают форму лазеек, позволяющих выводить прибыль в офшоры и в различные арбитражные схемы.
Информационные шумы отражаются на настроениях обывателей, порождая подсознательные страхи и фобии. Проявлениями такого шума также являются сепаратистские движения и расовые конфликты. В ряде случаев катастрофа открывает их участникам возможность воспользоваться социальным лифтом для изменения своего положения путём частичного или полного уничтожения прежней элиты, не склонной к переменам. Таким образом, нарастание шумов является „последним звонком” для регулятора, в том случае, когда он ещё может что-то предпринять.
Количественные и качественные характеристики появляются тогда, когда ясна цель объекта управления. Мировые деньги являются мерой количества, но не качества функционирования глобальной капиталистической системы. Поэтому критерии оптимальности в ней определяет финансовый капитал, а не мировое сообщество. Поскольку мировая экономика ограничена пределами планеты, управление финансами в целях её развития абсолютно бессмысленно. Для дальнейшего развития глобальной системы должна была появиться новая цель управления, а следовательно и другие параметры её оценки, что ведёт к отрицанию самого смысла капитализма.
В своих многочисленных выступлениях представители мировой финансовой элиты неохотно признают, что глобальная система работает не очень хорошо и находится на грани распада. Тем не менее, они по-прежнему заинтересованы в сохранении существующего положения вещей по двум причинам. Первая состоит в том, что у них не имеют побудительных причин, чтобы поменять свою мотивацию. Во-вторых, они часто зависят от групп с частными интересами, которые боятся системы, в которой влияние финансов будет исключено или принижено. Для преодоления этого препятствия должно появиться пассионарное движение за реформу общества на новых принципах с ясной программой и целеуказанием.
Систему взаимоограничения властей, придающую неправомерное значение группам с частными интересами и неспособную сформировать элиту, которая может отстоять интересы большинства, невозможно изменить путём реформ. Вероятно, что для этого понадобиться крупное потрясение или серия потрясений, которые встряхнут общество. Поэтому организация движения за реформу общества поднимает проблему идеологии, которая должна дать теоретическое обоснование новой этносоциальной системе.
§59. ПОПЫТКИ К БЕГСТВУ
"A horse, a horse! My kingdom for a horse!" (W.Shakspeare)1107
Замена господствующей элиты её альтернативой и последующее за этим резонансное восстановление этносоциальной системы на эволюционной траектории порождают иллюзию, что этот процесс может повторяться вечно. Чисто теоретически это возможно при условии, что регулятор каждый раз будет точно угадывать момент, частоту и силу резонансного воздействия. Это возможно только при наличии у власти компетентных и ответственных элит, готовых жертвовать своей властью и положением ради общественного блага, видоизменяя институциональную матрицу так, чтобы блокировать вызовы, обнаружить новые риски, инициировать дальнейшее разделение труда и, соответственно, научно-технический прогресс.
Если вопросы отбора и воспроизводства могут быть решены поощрением конкуренции прямо или опосредовано, то процесс адаптации требует особого подхода, особенно в случае, когда имеется несколько потенциальных аттракторов. Задачей регулятора становится не обеспечение устойчивости системы, а создание условий для выхода на желаемую траекторию развития путём синхронизации с ней базовых элементов системы. В этих условиях подсистема управления должна не строить или перестраивать, а инициировать новую самоорганизацию этносоциальной системы так, чтобы создать наиболее благоприятные условия в точке бифуркации1108. В этом случае переход системы на другой аттрактор будет менее затратным и более быстрым, например, создавая условия если не „честной”, то хотя бы справедливой конкуренции.
Несмотря на периодическую замену элементов управления, их бюрократизация происходит всегда. Причина этого явления заключается в том, что часть прежнего управленческого аппарата трансгрессирует из прежней системы в новую. Его представители переносят многие его недостатки, в частности пагубные практики „разведения кобр” и езды на велосипеде. Во избежание этих явлений неоднократно предпринимались попытки ограничить размеры бюрократии, её численность, доходы и права, а поступки субъекта управления1109, превысившего уровень своей компетенции, сделать экономически невыгодными, может даже опасными1110, как для него лично, так и выдвинувшего его сообщества или семьи. В исторической ретроспективе они были достаточно эффективны, но, как показывает практика, действуют в течение недолгого времени1111, поскольку в любой процедуре существуют лазейки, делающие её со временем недееспособной.
В условиях общей нестабильности сложной системы даже небольшие проблемы внутри неё могут запустить деструктивные процессы с непредсказуемыми последствиями. В этом случае гибель системы становится неминуема, когда усилия по коррекции её структуры и поведения системы не предпринимаются или несоразмерны. Даже при наличии необходимого ресурса они могут оказаться нерезонансны с системой, либо сильно запаздывать. Существует два основных типа реакций1112 на подобные вызовы. 9 июня 2022 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе руководители ведущих финансовых учреждений мира1113 констатировали развал мировой экономики вследствие десинхронизации, которая проявилась в росте инфляции, стагнации экономики и нарушении логистических цепочек. Предшествовавший их выступлению доклад, основанный на мнениях пятидесяти ведущих экономистов (по Давоской версии), в сущности, пытался скрыть симптомы надвигающегося кризиса за счёт излишне оптимистичных оценок, основанных на фальсификации и/или игнорирования текущих событий1114.
Длительная практика искажения информационного пространства привела к потере реальности. Вот типичный пример такого рассуждения, сделанного в период кризиса: „Определение рецессии варьируется… Если у вас есть два последовательных квартала отрицательного роста, это может быть умеренная рецессия… Обычно они происходят каждые семь лет или около того. Так что это не должно быть большим поводом для беспокойства, если это умеренная рецессия. Во-вторых, почему, когда все стимулы шли на экономику, люди не беспокоились об инфляции? В некоторой степени изменилась миссия центральных банков. Когда центральные банки были созданы, их основной задачей была стабильная валюта, небольшая инфляция. В последние годы, десятилетия миссия несколько изменилась – это забота о безработице. И озабоченность по поводу безработицы привела к тому, что центральные банки стали больше беспокоиться о таких вещах, как повышение процентных ставок, потому что это приведет к росту безработицы, а это более серьезное беспокойство. Это не было проблемой 30 или 40 лет назад, когда они действительно беспокоились только о валюте и стабильности валюты”1115.
При отсутствии какой-либо реакции регулятора1116 события развиваются по следующему сценарию. Некоторое время система подавляет проявление дестабилизирующих ее факторов или сосуществует с ними. Игнорирование социально-экономических вызовов, присущее „стратегии страуса”, означает сокращение возможностей саморазвития, а это весьма опасно во время кризиса. Как показывает опыт, его преодолевают только отдельные экономические субъекты старой системы, которым удаётся интегрироваться в новую.
Альтернативным вариантом реакции является модернизация системы, изменение характера функционирования, установление новых внутрисистемных связей. Чаще всего это – результат осознанных мер, призванных найти ответ на возникшие вызовы. При определении путей модернизации системы классические экономические стратегии, возникшие при её формировании, становятся серьезным барьером для процесса экономической самоорганизации, поскольку отлаженная отрицательная обратная связь возвращает системы в прежнее состояние1117. Об этом пишет в своей статье Ф.Фукуяма, сетуя на то, что система противовесов и сдержек американской государственной системы превратилась в ветократию. Такой децентрализованный, основанный на юриспруденции подход к управлению тесно связан с другой отличительной чертой американской политической системы: с ее подверженностью влиянию групп с частными интересами. Такие группы способны добиваться своих целей, действуя против властей непосредственно через суд
Феномен ветократии вызван глубоким недоверием избирателей к государству заставляет американскую систему обращаться к административному управлению на основе судебных решений. По мнению Ф. Фукуямы, решение проблемы управления заключается не в ликвидации регулирования и уничтожении государственной бюрократии, как это предлагают либеральные протагонисты глобализма, либертарианцы и консерваторы. Он предлагает не только сохранить за государством вопросы соблюдения гражданских прав, защиты окружающей среды и национальной безопасности, но и усилить исполнительную власть по примеру европейских демократий.
Автономность государственной бюрократии на Европейском континенте обуславливается долгим историческим процессом, в ходе которого управленческие иерархии по редистрибуции избыточного продукта трансформировались в очень разветвлённый административный аппарат. В отличие от англосаксонской системы его чиновники никогда не чувствовали себя слугами народа и рассматривали его, как источник налогов. По этой причине современных элит в кризисных ситуациях принимают одинаковые меры и совершают одни и те же ошибки. При этом их абсолютно не волнует мнение избирателей, поскольку они считают, что не понесут за свои действия никакой ответственности.
Причиной „синдрома сурка” у европейских чиновников является непонимание динамического характера исторических процессов. Вследствие этого регулятор, основывающийся на своём прежнем опыте, предлагает вместо новых альтернатив старые и проверенные, то есть предлагают выбор из плохих и очень плохих. Самой тривиальной стратегией в период кризиса является программа выживания, которая основывается на психологии и моделях поведения закрытого социального организма. Её по праву можно отнести к доминирующей стратегии последних лет. Будучи не подкрепленной программой развития, она ведёт к гомеостазу и, в конечном счёте, является разрушительной для системы в случае резонансного воздействия извне. Стратегия неопределенности часто игнорирует реальные вызовы и борется с шумами, а не реальными вызовами. Такое балансирование на краю пропасти рано или поздно приводит систему в состояние нестабильности и непредсказуемости. В этих условиях сохранение неустойчивого динамического равновесия не только не придаёт стабильности системе, но и при малейшем потрясении приводит к частичному или полному саморазрушению системы без видимых причин.
В настоящее время господствует мнение о необходимости использования мобилизационной модели управления для выхода из глобального кризиса. Одна из них предусматривает восстановление эффективности управления экономикой для улучшения качества жизни с повышением роли государства и всестороннего развития личности и является разновидностью „синдрома сурка”. Второй вариант стратегии представляет собой радикальные перемены в институциональной структуре общества в целях преодоления кризиса. Пересмотр базовых догматов и принципов маловероятен, поскольку может привести к полному краху системы. Как и „синдром страуса”, он приведёт к разрушению иерархии труда и приведёт к обнищанию и гибели части населения. При ближайшем рассмотрении оба сценария представляют собой не более чем идеологеммы, которые используются в медиапространстве для дискредитации оппонентов. Они не предлагают модели будущего, а пытаются вернуть мировую цивилизацию на прежнюю эволюционную траекторию общества потребления.
Стратегии, связанные с возрастанием роли редистрибутивной роли государства, на некоторое время обеспечивают определённую стабильность системе и для этого мобилизуют её внутренние резервы. Однако, в конечном счёте, также малоэффективны, поскольку последовательно и целенаправленно исключают элементы самоорганизации и сужают множество возможных альтернатив развития1118. Так, стратегия регламентации, подразумевающая ужесточение правил и законов, рано или поздно заводит систему в порочный круг усиливающегося бюрократического контроля и выводит её на авторитарный аттрактор. К нему примыкает стратегии клерикализма, этнократии, апартеида, т.е. поддержки религии, отдельной нации или языка в ущерб остальным, которая увеличивает опасность национального противостояния, ведущего либо к хаосу, либо ксенофобии и, как следствие, гомеостазу, последующей деградации и гибели.
Более „демократичная” стратегия социальной помощи основывается на поддержке отдельных социальных слоев общества и была очень популярна после Великой депрессии. Как правило, она эффективна в течение короткого промежутка времени, после чего начинается рост коррупции и теневой экономики. Её прямым следствием становится постепенная деформация иерархий труда и её плавное скатывание к криминально-теневой или авторитарно-бюрократической модели, отрицающей силу закона перед фактором силы.
Несмотря на кажущуюся сплочённость, жёстко регламентированные системы иерархического типа, терпят крах сразу после того, как исчерпают ресурс развития. Последующий хаос революции, как феномен, связан с особенностью полуоткрытых систем, которые достигнув уровня “сверхупорядоченности”, реагируют на воздействия внешней среды совершенно непредсказуемо. Взлёты и падения этнократий и диктаторов различного толка являются наглядным примером подобного перехода. Другим примером, реакции являются т.н. санкции, которые подчастую наносят ущерб не столько объекту воздействия, сколько его инициаторам.


