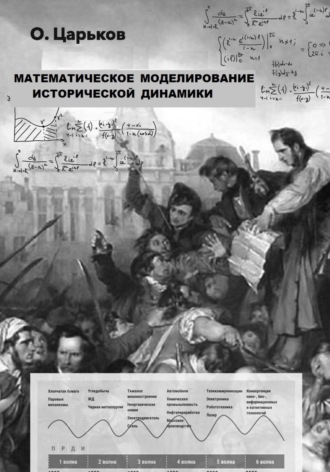
Олег Евгеньевич Царьков
Математическое моделирование исторической динамики
§26. ГЕНЕЗИС ВЛАСТИ
„…Из полустёртых черт сквозит надменный пламень, Желанье заставлять весь мир себе служить…”(Шелли, Озимандия)
Политическая надстройка является видимой частью подсистемы управления этносом. Её блоки, обеспечивающие оперативную деятельность системы «здесь и сейчас», осуществляют самоорганизацию общества и в большинстве случаев даже не являются частью государственного аппарата. В частности, Блок I обеспечивает функционирование системы, т.е. производство общественного продукта, и представлен многочисленными и разнообразными иерархиями труда. Блок II отвечающий за информационный обмен и представляет собой обмен и накопление информации и знаний. Собственно оперативное руководство (блок III) является формой осуществления обратной связи и определяет тип экономической интеграции социума. Она имеет два уровня. На первом из них находятся элементы управления, которые распределяют ресурсы и определяют правила, права и обязанности подсистем I и II. Их степень вовлечённости в государственный механизм определяется господствующим видом экономической интеграции.
Элементы второго уровня оперативного руководства коммуницируют с блоками IV и V. Первый из них генерирует ответ на воздействия внешней среды, а второй. определяет её реакцию на воздействие внешней среды. Эти блоки представляют собой собственно власть, главной задачей которой является обеспечение жизнеспособности, а сопряжёнными целями – рост численности коллектива и формирование запасов. Последовательное решение этих задач представляет собой процесс управления в конкретном этносе, а эти параметры являются основными качественными характеристиками. Итак, особенности видов деятельности в иерархии труда характеризуют необходимый уровень удовлетворения социальных потребностей и устанавливают нижний предел удовлетворения потребностей для каждого из уровней иерархии труда.
Принципиальным вопросом для определения способа управления социумом является принцип распределения ресурсов между производителями и продуктов среди потребителей. Именно по этой причине при преобладании реципрокации господствует «первобытный коммунизм», где все члены сообщества равноправны, поскольку одинаково ценны для него. Это свойство является характерной чертой горизонтальных структур, состоящих из множества равноправных субъектов. Вместе с тем, в отдельных случаях престиж497 одних индивидов может влиять на мнение коллектива. Из этого, казалось, незначительного факта, вырастает право немногих распоряжаться прибавочным продуктом от имени всего общества. Его носители составляют отдельные сообщества, именуемые элитами.
В конце IV и начале III третьего тысячелетия имущественное расслоение внутри сообществ Передней Азии зашло достаточно далеко. Расщепление общества выразилось в противопоставлении жилым кварталам храмов и дворцов. Если в поселениях раннего периода стены защищали их жителей от набегов извне, то теперь они разделяют врагов внутри одной общины. Их строительство498 является признанием того, что „это общество запуталось в неразрешимом противоречии самим с собой”499. На особеность социально-экономической структуры первых государств указывают остатки величественных храмов, являвшихся их центрами. Они разновременно появились на всех материках, континентах и субконтинентах500 за исключением Австралии501.
Причиной возникновения первых теократий явились экологические катаклизмы, в основном, естественного502 происхождения. Их регулярное повторение позволило жреческой верхушке, игравшей на верованиях своих соплеменников, постепенно узурпировать власть. Причиной этому являлись два вида конфликтов, назревавших внутри иерархий труда. Их причиной является социальная леность. В первом случае, успешное решение вопросов удовлетворения низших потребностей в питании и безопасности вызывало снижение производительности работников503 при освоении ресурсов и/или сокращения труда при расширении504 производственной базы. Второй вариант конфликта внутри иерархии труда заключался в переизбытке изначально накопленных запасов, что вызвало сомнения в целесообразности новых трудозатрат. Вариантов конфликтных ситуаций могло быть достаточно много, но все они упираются в проблему публичного обоснования продолжения (нужного или ненужного) труда и объема накопленных общих запасов. Решение этой задачи сфокусировалось на усилении идеологического давления на нижние уровни иерархии труда через культивацию вынужденной беспощности и установление освящённых божественной властью норм правил или законов.
Археологические находки предметов искусства и сохранившиеся мифы позволяют идентифицировать правовые нормы, регулировавшие отношения в первых древнейших государствах. Будучи первосвященниками культа, цари-жрецы505 с каждым новым поколением возвышаются над обществом, которое его персонифицировала как защитника от всех бед и источник плодородия. Благодаря новой организации общества, теократии постепенно расширяли влияние на окружающие области506, распространяя на них свою версию «цивилизации». Их историческая роль объясняется не биологическими особенностями или пассионарностью той или иной этнии507, а результатом более высокого уровня их развития в области технологии и культуры.
В момент своего зарождения иерархия труда обеспечивала совместный и не конфликтный труд людей в наиболее благоприятном ареале ойкумены. Представления о необходимости власти и государстве, как таковом, появилось значительно позже в связи с сосуществованием иерархий труда и конфликтами между ними – взаимной агрессией. Развитая иерархия труда уже содержит в себе зародыш триады власти508, которая заключается в использовании:
– материальных стимулов (управление и/или контроль производством, обмен и распределение ресурсов, материальных благ и услуг),
– использование моральных норм и символов (идеология и солидарность),
– использование властных структур (взаимность, принуждение, отбор)509.
Организация производства является первичной и историческим источником для остальных элементов триады. Второй столп власти представляет собой объединение интересов индивидов на основе концентрированных знаний специалистов, поддержание внутреннего мира за счёт компромисса и/или насилия. Его можно рассматривать трояко: как признание знаний, интеллекта и опыта, реципрокативность совместной деятельности и специфическую сакральную функцию, что в совокупности означало единство и/или солидарность.
Установление верховной власти и её легитимация510 обусловлены тем, что развитая иерархия труда для сохранения своей жизнеспособности стремится предотвратить соперничество за ресурс, изначально присущее своим элементам. Именно он511 „определяет отношения по ее поводу с внешними сообществами как государственные”. Для этой цели подсистема управления иерархии труда интегрирует в систему ресурс как целостность, инициируя сотрудничество и дальнейший рост разделения труда. Появление же единственного лидера представляет собой результат конкуренции, описываемый моделью §22 и результатами её анализа.
Перманентное функционирование иерархии труда вызывает мотивационные изменения, как у руководителей, так и их подданных. Необходимость удовлетворения базовых потребностей инициирует генерацию технических и организационных решений в целях повышения функциональности иерархии труда и сбор информации для этого процесса. Многократно повторяемый цикл управления приводит к тому, что в иерархии постепенно выделяется уровень управления, которое становится отдельной профессией, фиксируя очередное общественное разделение труда. Её представители находятся в более выгодном положении по сравнению со своими соплеменниками, поскольку его потребность в самореализации обеспечивается на более высоком уровне. Через определённое время у него возникает установка, а затем появляются потребности творчества на достижение или преодоление. Они развиваются и превращаются в метопотребность обладания властью. Её достижение происходит в форме стремления сохранить достигнутый уровень уважения и желании закрепить характер своей управленческой деятельности как основной, порождая социальную потребность в легитимации.
Память о том, что правитель был таким же как все и отражено во множестве ритуалов и традиций, сохранившихся в исторических документах или отражённых в обыденности. Например, праздник «первой борозды», когда глава сообщества
проводил первую борозду и бросает первое семя в нее, отражён в современных обычаях закладки первого камня фундамента нового предприятия, завершения строительства жилого дома, разбивки парка, спуска корабля. Служитель православной церкви, окропляющий свою паству святой водой, повторяет ритуалы стародавних жрецов.
Мотивация основной части населения также изменяется. У большей части её представителей формируется установка на подчинение, которое изначально носило добровольный характер. В своей крайней форме оно означает постепенную утрату навыков принимать собственные решения, как индивидуальные, так и коллективные. В резудьтате постоянной практики исполнения распоряжений главы общины при малом количестве самостоятельных решений у членов сообщества появляется синдром вынужденной беспомощности.
Эпидемиологическая концепция контактного распределения является хорошей иллюстрацией причин распространения теократического правления. Её принцип состоит в том, что вероятность заражения одного индивида другим находится в зависимости от разделяющего их расстояния. Контактное распределение, как интенсивность социального взаимодействия между двумя людьми, находящимися в различных точках социального пространства, имеет аналог в контексте религиозного обращения. Если его понимать, как вероятность распространения символа веры от одного индивида к другому. Такая формулировка позволяет моделировать ряд сложных эффектов, включая разнородное пространство (например, горы и другие преграды) и анизотропию (широкое контактное распределение, характерное для высокопоставленных персон). Известное приложение этой модели в социальных науках – исследование расселения неолитических земледельцев в Европе512.
Внешняя экспансия и внутренние противоречия, неразвитость коммуникаций ограничивали возможности реального управления царей-жрецов, вынужденных полагаться не столько на свой духовный авторитет первосвященника, сколько на силу. Важным инструментом в их руках оказались воинские союзы, со временем трансформировавшиеся в «дружину храма». Руководство ею становилось важным рычагом власти, вследствие чего титул военного предводителя стал не менее важным, чем первосвященника. Другим элементом власти стало распределение ресурсов. Нуждаясь в средствах учёта и контроля, он инициировал появление первой письменности, которая, в свою очередь, стала причиной формирования примитивной бюрократии. По мере концентрации ресурсов её фактический руководитель обретал не меньшее влияние, чем царь-жрец или глава войска513.
Типичным историческим примером является эволюция должности верховного правителя в королевстве Тонга. Около 950 года на этом полинезийском архипелаге возникла теократия, возглавлявшаяся царём-жрецом, носившим титул туи-тонга. В XII веке он подчинил своей власти окрестные архипелаги, создав морскую империю. В 1470 году 24-й туи-тонга был вынужден уступить власть своему брату, который получил титул туи-хаа514, но сохранил за собой титул. В середине XVII века при шестом туи-хаа была введена должность туи-канокуполу515, который два века спустя объявил себя королём Георгом Тупоу, ликвидировав при помощи протестантских миссионеров теократию и вместе с ней „конкурирующие” должности. Как подтверждают источники, возникновение каждого из постов было обусловлено кризисом власти516, вследствие чего принималось компромиссное решение с делегацией властных прав и полномочий носителю новой должности.
Причиной сохранения института первосвященника является принципиальная необходимость в поддержании сакральной традиции, обосновывавшей необходимость власти. Она прослеживается на протяжении многих тысячелетий и существует до сих пор в некоторых странах517 и даже субцивилизациях518. Его гибель в ряде случаев приводит к ликвидации определённых социальных структур и сообществ, а также вызывает кризис в определённой части общества. В условиях современного информационного общества аналог сакральной функции принимает форму „культа личности”.
Альтернативный механизм возникновения государственности, именуемый „теорией принуждения”, изложен в концепции Р.Л. Карнейро519. Она подвергает заслуженной критике концепцию „Общественного договора”520 и другие «волюнтаристские» теории и абсолютизирует роль насилия в формировании системы власти. В условиях средовой ограниченности и земледельческой специфики общества данное явление безусловно имеет место, однако не является абсолютом. При определённых условиях521 протогосударство может возникнуть и существовать на протяжении веков без аппарата насилия, как это произошло, например, в Исландии в Х веке, некоторых античных полисах и других компактных в математическом понимании общностях522, обладающих достаточными ресурсами для саморазвития. Выше было показано, что подобные системы вследствие нарастания внутренней энтропии быстро распадаются или поддаются насильственной синхронизации. „Неочевидный социологический результат”523 заключается в том, что, если бы люди действовали исключительно на рациональной основе, они никогда бы не смогли сформировать функциональное общество.
Не отрицая роль насилия в образовании государств следует отметить, что оно, в значительной мере, связано с экспансией, т.е. овладением ресурсом или продуктом, имеющимся у соперника524. В случаях невозможности поглощения всего ресурса в силу различных причин его способ потребления трансформируется в экзополитическую экономику, известным как полюдье525. Данное социально-политическое явление представляет симбиоз волюнтаристской и силовой моделей управления. Оно представляют собой наиболее раннюю подсистему управления, в которой сильнейший из соперников устанавливает внешнюю синхронизацию над своим окружением. В настоящее время аналогом этого явления являются военно-политические союзы, в то время как взаимную синхронизацию можно наблюдать в экономических союзах. Их взаимодействие наиболее ярко проявляется в феномене национализма, который, несмотря на свои иррациональные корни, играет важную роль в консолидации отдельных элементов с целью обретения определённой выгоды526.
§27. ЛЕГИТИМАЦИЯ
“Власть легче взять, чем удержать” (Н. Маккиавелли)
В процессе своего развития каждая этносоциальная система постоянно делает выбор, предпринимая различные политические, экономические, культурные действия. При этом абсолютное большинство его членов не являются специалистами в вопросах, подлежащих решению. Только немногие из них являются специалистами, которые могут разумно оценить необходимость, пользу и опасность определённых шагов. Такая информационная ограниченность таит в себе угрозу как для индивида, так и сообщества, общества, цивилизации. На протяжении столетий они учатся принимать решения и оценивать мнения, вырабатывая различные критерии доверия. Они формируются из уровня признания (уважения) обществом конкретного индивида и оценки его творчества. Она представляет собой результат принятия решений в новых непознанных и/или неоцененных ситуациях и их последствий. От того, как “уважается” тот или иной лидер и/или специалист часто зависит судьба многих, а иногда всех. Этот “опыт” в условиях перманентных войн и стремлении установить монополию на власть весьма многообразен и чаще всего трагичен.
Централизация полномочий верховной власти всегда приводила и приводит к постепенному урезанию прав отдельных индивидов и их постепенной унификации. В тот момент, когда член сообщества поступает на службу к государю, тот как бы пересаживает его в искусственную почву, где всякая самостоятельность теряется. Даже если власть не контролирует и не управляет производством, но самостоятельно определяет размеры ресурса, изымаемого для общественных нужд, а затем по собственному усмотрению распределяет его, она представляет собой иерархию труда. Это связано с тем, что сам акт изъятия, определение его норм и распределение продукта не находится под общественным контролем, вследствие чего этносоциальная система находится под контролем своей подсистемой управления, принимающей форму государства. Её стремление, так или иначе, обосновать свою легитимность – прочное, продолжительное узаконенное право на верховную власть – стало важным условием для всякой власти, начиная династий древности527 и заканчивая выборными институтами современности.
Универсальной готовности к подчинению внутри сложной, а значит многоступенчатой, иерархии труда недостаточно для установления власти. Вследствие этого её внутреннее напряжение, связанное с ростом применения насилия (§12), нарастает. В целях его снижения возникает иной порядок подчинения, выразившийся в формуле „вассал моего вассала – не мой вассал”. Для исключения ситуаций неопределенности в большой структуре и даже вне ее, где знакомство в лицо уже невозможно, руководитель вводит выразительные средства или знаки, позволяющие членам сообщества и даже вне иерархии маркировать статус высших иерархов. В рамках такой системы власть и статус выходят за рамки своих функций в иерархии труда и порождают свои привилегии как добровольное подчинение независимых индивидов и представителей некоторых других социальных структур для последующего извлечения выгод от такого сотрудничества, что нередко является и коррупцией. Все вместе факторы власть, статус и привилегии, отраженные в иррациональном отношении части общества вне иерархий труда вперемешку с завистью к их носителю, формируют престиж528.
Необходимость этического восприятия верховного носителя власти главы (персонифицированного или мнимого) членами общества проистекает из углубления конфликта внутри иерархии труда и/или опасности извне. „Процесс признания социальными субъектами значимости общественно-политической реальности, как в целом, так и в её отдельных проявлениях и составляющих” определяется, как легитимация или признание обществом институтов власти, которые получают право принимать решения от его имени и устанавливать правовые нормы. Реальное действие права соответствует формуле: „закон плох, но это закон”. С установлением законности власть действует именно от его имени, а не от имени общества.
Таким образом, в одном случае легитимация осуществляется путём добровольного согласия, а в другом случае извне путём насилия. „Добровольная легитимация” базируется на трёх основных принципах: харизме лидера, традиции и рациональной практике управления. С системной точки зрения она представляет собой процесс взаимной синхронизации элементов системы, часть из которых начинают выполнять функции блоков управления. „Насильственная” легитимация представляет собой внешнюю синхронизацию и проводится уже существующей подсистемой управления на основе существующих правовых норм.
История кризисных ситуаций, среди которых главную часть несут внутренние конфликты и войны, нарушающие потребность в безопасности, выделяет важную, хотя и неоднозначную роль исторических личностей, возглавлявших различные социальные движения, властные и чисто военные структуры. Хорошая документированность фактического материала создало у первых классических историков представление о „свободе выбора”. Известная вариабельность форм поведения и практического мышления исторических личностей особенно заметна в античном мире, феодальной Европе, где сохранились многочисленные записи о разнообразии их решений и поступков.
Повышение роли личности в историческом процессе отражает развитие социальных структур, их количественный и качественный рост. В условиях неустойчивого состояния этносоциальной системы творческая активность одного или сообщества индивидов может повлиять и даже изменить направление его развития. Так появляется дилемма: если некая личность нашла решение острой проблемы для сообщества, и оно пошло за ним, то является ли это заслугой конкретного человека или результатом работы всего коллектива? Тут же возникает другой вопрос, который можно сформулировать следующим образом: возможно ли, что при отсутствии лидера, сообщество возглавит другой кандидат?
Почти все „великие” личности характеризуются высоким уровнем метапотребностей, в первую очередь, уважения, близкого к нарциссизму и известного как „мания величия”. Когда представитель правящей династии или другая харизматическая личность достигают определённого уровня власти, они имеют больше свободы по отношению к обществу, чем общество в целом и по отдельности. Даже ошибки, которые они совершают, рассматриваются, как „свобода ошибки”. Это понятие существует до сих пор и рассматривается, как неотъемлимая часть свободы выбора, что позволяет политическим деятелям избегать наказания за явные провалы своей политики. Исторический процесс, как мультипликатор деятельности множества людей, „отрабатывает”, корректирует в соответствии с общественными потребностями эти ошибки. В этом смысле он представляет собой ООС, в форме системы социального регулирования.
Механизм легитимации529, соединяющий верховного правителя с вождями подвластных ему иерархий труда530, состоит из двух элементов. Первый из них является пережитком родового строя и заключается в установления кровнородственных связи семьи правителя с подвластными ему вождями. Установление кровнородственных связей с правителем империи выполняет похожую функцию и представляет собой своеобразную систему заложничества. С одной стороны, отдавая свою дочь в гарем сюзерена, вассал мог рассчитывать, что его внук станет правителем империи. Сын субвождя, поступая на службу к владыке, мог сделаться его приближённым помощником или даже зятем531. В свою очередь, глава империи мог надеятся, что субвождь искренне привязан к своим детям и не станет рисковать их жизнями ради призрачной независимости.
На практике отношения сюзерена с вассалами были более сложными, но общая тенденция династических браков, в принципе, привела к интеграции верхушки родовой знати в состав правящих династий, которые, в свою очередь, установили контроль над территориями. Для семей, в которых наследственность определяет порядок передачи власти этот принцип не соблюдается: на передний план выходят политические или другие неромантические причины, и во внимание принимается соотношение власти и богатства потенциальных супругов. Брак по политическим, экономическим или дипломатическим причинам был привычным явлением для элит на протяжении многих веков532.
Вторым элементом легитимизации является институт раздела военной добычи и/или дани, а также периодическое распределение престижных товаров533. Как правило, трофеи делили «на пропорциональные части между высшими и низшими» разрядами воинов, причем известная часть трофеев доставалась верхушке знати, хотя бы они и не участвовали в походе. Раздавая подарки и почётные титулы своим соратникам и вассальным вождям, глава державы увеличивал свое политическое влияние и престиж, обретая образ „щедрого правителя”. Вместе с тем, он привязывал своих реципиентов „обязаностью” отдаривания, которое может осуществляться в виде дополнительных дани и/или обязательств, в частности посылке воинских контингентов. Получатели подарков, в зависимости от своих склонностей, могли поступать двояко: удовлетворять личные потребности или повышать свой статус. Как правило, авторитет укрепляется тремя путями: непосредственной раздачей и/или временной передачей подарков, посредством организации церемониальных праздников и трансгрессии харизмы правителя во время их демонстрации.
Процесс насильственного установления власти описывает модель Ханнемана534, которая связывает престиж власти, её легитимность и внешний конфликт. Она предполагает, что стремление правителей развязать войну прямо пропорционально разности между желаемым уровнем легитимности и ее текущим значением. Для любого заданного уровня конфликта степень успеха пропорциональна мощи субъекта в сравнении с суммарной мощью его соперников. Его престиж пропорционален доле захваченного ресурса : , а легитимность с некоторой задержкой определяется приобретённым престижем и колеблется в пределах от 0 до 1.
Военная мощь может быть определена, как соотношение стратегий соперников, т.е. , а уровень конфликта пропорционален количеству соперников и опыту , накопленному за предыдущие этапы соперничества. Таким образом, в рамках модели коллективного поведения получаем систему уравнений для модели Ханнемана на шаге m+1:
, , и ,
Повторив предыдущие рассуждения, для состояния имеем:= и . Откуда следует, что .
Для упрощения анализа введём суммарную характеристику опыта = . Её область определения множество положительных чисел (). Вследствие этого итерационная процедура Ханнемана для базовой модели имеет вид . Из , имеем или
(21).
Используя модель Ханнемана, можно определить пределы, в которых происходит легитимизация верховной власти при наличии хотя бы одного соперника535. Уравнение (21) устанавливает зависимость между допустимой легитимностью и социальным имиджем каждого из соперников, а также их количеством. Из анализа, проведённого в §§24-25, получаем, что с истечением некоторого времени, согласно условию (19) останутся только два претендента в борьбе на власть. Победа одного из них будет предрешена, если его характеристики не будут удовлетворять условиям (17) или хотя бы (18). Обозначим отношение В этом случае равенство (21) принимает следующую форму:
Для оно справедливо всегда, когда выполняется условие (22.1).
Определим для состояния равновесия условие, которому должен удовлетворять имидж второго претендента: .
Из (17) следует, что для полной устойчивости должно выполняться неравенство
(22.2).
Для асимптотической устойчивости оно имеет следующий вид
536 (22.3).
Таким образом, обязательным условием для продолжения противостояния агента с более низким институциональным престижем является более высокая отдача ресурса. В противном случае при имется перспектива установления диархии или автократии. Кроме того, при определённых обстоятельствах может возникнуть эффект качелей, отбражённый на рис. 6. Оба случая можно избежать в случае искусственного ограничения срока соперничества. Эмпирическое осознание этого факта цивилизацией привело к появлению коллективной формы власти, которая гарантироваровала выборность лидера. Положение „первого среди равных” в зависимости от личных качеств его реальная власть могла быть как номинальной, так и подлинной.
В процессе легитимации конечным объектом узурпации верховной власти становится область традиций и права, а прямым следствием – присвоение фискально-полицейских функций. В качестве типичного примера такого процесса можно привести историю правителей Ашшура, возвысивших её до уровня «первой мировой державы», создав Pax Assyriaca. Первоначально ассирийское государство537 именовалось „а́лум А́шшур”538 и представляло собой укреплённый торговый город с прилегавшей сельской округой. Правитель носил титулы „ишшиа́ккум”539 и „шангу”540. В мирное время он руководил культовыми и строительными мероприятиями, а в военное – командовал войском. Его власть ограничивало народное собрание и совет старейшин, роль которого со временем стала ведущей541. В среднеассирийский период542 значительно возросла роль ишшиаккума, который стал выполнять и функции укуллума. На должность лимму он всё чаще назначал членов своей семьи, а затем узурпировал сам. Получив доступ к финансам, ассирийские владетели создали постоянную армию, с помощью которой приступили к расширению своей территории. Усиление правителей Ашшура проявилось в периодическом использования аккадского царского титула «шару». Становление царской власти происходило в борьбе с аристократией и закончилось компромиссом543.
В начале первого тысячелетия до Р.Х, арамейско-ахламейские племена прорвались из-за Евфрата в Верхнюю Месопотамию, поставив Ассирию на грань гибели544. В отличие от своих соседей царство пережило бронзовый коллапс545 и приспособилось к новым реалиям железного века. В X веке до Р.Х. цари перенесли свою резиденцию в другой город, сохранив за Ашшуром роль культового центра и места погребения умерших царей. В течение двух последующих веков Ассирия восстановила свою мощь и утвердила свою гегемонию в Передней Азии.
Новоассирийское царство – результат высокого уровня развития ассирийского этноса, который знаменует формирование новой технологической платформы, основанной на железной металлургии. Вслед за изменением материальной базы происходит самоорганизация ассирийского общества, которая проявляется в окончании зависимости царя от городского совета Ашшура. Процесс укрепления центральной власти сопровождается формированием собственной культуры, источником которой стал Вавилон, носитель древних традиций. С IX века до Р.Х. обогащённая военной добычей верхушка ассирийского общества поменяла свою ментальность и стала уделять больше внимания искусству, литературе, науке, формируя новый вид духовной культуры и отражая его в идеологии.


