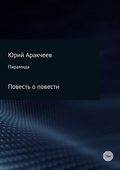Юрий Сергеевич Аракчеев
Пирамида жива…
Диалог в редакции газеты
Свершилось! Свершилось! Я иду в редакцию популярнейшей газеты на встречу с известным журналистом, чтобы побеседовать с ним и тем самым дать материал для публикации – великолепной рекламы для повести. Которая еще не вышла, но выйдет вот-вот. Выяснилось, что рекомендовал эту повесть главному редактору газеты первый зам журнала. Следовательно, несмотря на наши разногласия с ним, он сумел все же стать выше? Пусть только выйдет повесть, я думаю, что и он поймет, сам Первый зам. Свершилось! Свершилось! Теперь ничто не препятствует. Вторая часть пошла в печать, а первая выйдет вот-вот. И теперь еще эта реклама.
И встречаемся мы с журналистом у входа в редакцию – солидный, пожилой, с бритой головой, смотрит на меня доброжелательно, хотя и с оттенком покровительственным, ну, да бог с ним, это теперь не имеет значения, – и входим в святая святых – комнату, где берут интервью не только у наших, но и у иностранных известных людей, – и встречает нас заведующий одного из отделов, и к дополнительной радости моей оказывается он моим старым знакомым по другому журналу, где три года назад печатали отрывок из моей книги «о бабочках». Мы тогда пришли к полному взаимопониманию, и теперь он приветливо улыбается мне.
Вносят магнитофон, входит молодая красивая женщина.
– Вот, самая красивая девушка редакции будет вести ваш материал, – говорит завотделом, и эта незначительная как будто бы подробность прибавляет мне радости.
Включают магнитофон, входит фотограф, мы начинаем «диалог по прочтении рукописи».
И тут… Что такое? Начинает мой оппонент, начинает с того, что предлагает коротко пересказать содержание рукописи, чтобы читателям было понятно, о чем идет речь, я, естественно, уступаю сделать это ему и уже чуть ли не с первых слов его убеждаюсь: он говорит не о том! То есть акценты совершенно не те, и если принять его трактовку, то дальнейшее становится просто нелепым, а вторая половина повести и вовсе глупой, ненужной. Я перебиваю его, сказав, что дело-то происходило не так, а иначе… В чем и суть! Ведь закон был нарушен С САМОГО НАЧАЛА и именно по причине предвзятости и некомпетентности, потому-то и не нашли истинных преступников. А предвзятость и некомпетентность, в свою очередь, были следствием безнравственности, это взаимосвязано. Вот почему я так много рассуждаю о нравственности, чему и посвящена особенно вторая половина повести!
Я пытаюсь объяснить все это спокойно, но он сердится, говорит, что я не даю ему слова сказать, что вторая половина ему вообще не слишком понравилась, что вот обрисует он ход событий, а тогда уж… Я говорю, что ход событий был не такой В ПРИНЦИПЕ, а если он обрисует его таким, то мы в дальнейшем будем говорить не о повести, а о чем-то другом.
Холод заползает в меня – я чувствую, что все повторяется. Меня опять просто-напросто НЕ ПОНИМАЮТ (или не хотят?), мы говорим на разных языках, и выхода нет: он прочитал повесть именно так, и что бы я сейчас ни говорил – бессмысленно. Все будет восприниматься, как моя нетерпимость к «чужому мнению» и гонор. Раз повесть не убедила его, значит я сейчас не переубежу тем более. Ко всему прочему, он начал злиться, держится менторски – тоже не привык к возражениям, как и Первый зам! – его, кажется, ничуть не трогает, что повесть моя будет напечатана в таком авторитетном журнале, он считает себя весьма крупным специалистом раз и навсегда, а следовательно…
Ладно, ладно, лихорадочно уговариваю я себя, пусть он не так прочитал повесть, но по телефону-то, по телефону-то он ведь говорил кое-что по делу: о Каспарове, Бойченко, Милосердовой – может быть, хоть это, хоть это… Но пересказ-то нужен! И правильный. Иначе что ж читатели-то подумают…
Я растерян – глупая ситуация! Да еще при свидетелях! – но делать-то что-то надо. Пытаюсь как-то смягчить, не ущемить его самолюбия, но ведь и уступить в принципиальном вопросе нельзя. Наконец, он предлагает сделать этот злополучный пересказ мне. Кое-как я его делаю и стараюсь мягко свести журналиста к нашему телефонному разговору – к образам, поскорее к образам, чтобы уйти от главного, от второй половины, которую он, похоже, вообще не читал. Да, холодея, я начинаю понимать, что Лилия Николаевна, скорее всего, была права: самое большее – по диагонали…
Не привык я к таким беседам, это слабость моя. Почему я всегда рассчитываю на понимание, по какому праву? Жизнь упорно убеждает в обратном, а я жду понимания каждый раз. И, офонарев, словно от неожиданности, в недоумении вскидываю руки. По какому праву я считаю, что все думают так же, как я, и так же уважают те самые «ценности»? И в этом, конечно же, моя слабость, я ее признаю. Но речь-то сейчас идет о моей повести! Если специалист не может элементарно пересказать содержание того, что он прочитал, то… Спокойно, спокойно. Он ведь считает себя большим специалистом и не только он, центральная газета регулярно публикует его статьи, и хотя я не читал ни одной и не могу судить, но надо же понять и его. Он наверняка считает меня мальчишкой…
Короче, диалог наш получился сумбурным, бестолковым, он, к тому же, явно чувствовал себя уязвленным, отчего стал держаться еще более менторски. С большим трудом удалось нам закончить разговор на мирной ноте и проститься по выходе из редакции достаточно дружелюбно.
– Получится что-нибудь? – с неуверенностью спросил я перед выходом у зава и «самой красивой девушки редакции».
Они сказали, что пожалуй получится, хотя выглядели несколько удрученно.
«…После первой части думал: как-то он закончит, к чему выведет? Но такого мощного накала, страсти и напряжения, обобщений такой силы не ожидал – да, сказать по правде, немного знаю и произведений подобного уровня.
Все, все узнаваемо – и ситуации, и ахатовы, и джапаровы, и милосердовы, и бойченки, – случалось встречать их и в своей жизни. И литературная Ваша судьба ох как знакома, узнаваема – по себе, опять же… В провинции ведь что-то проще, а что-то – тяжелей, глуше, пострашнее.
…Сколь тяжки нынешние попытки людей повернуть ситуацию! Не хотят ничего слышать и делать не только ВИНОВНИКИ, но и окружающие – те, кто не замешан, как говорится, ни сном, ни духом. У меня нынче весной был случай: выхожу с фильма «Покаяние» и встречаю одного старенького уже, очень хорошего – и отмеченного, и награжденного, и заслуженно уважаемого художника. «Ты откуда, Володя?» «Так и так, О.Д., в кино ходил. Знал, что про культ, и не думал увидеть ничего нового: наше поколение ведь много о нем знает. Двадцатый-то съезд на самую-самую раннюю мою юность пришелся, все помню… И про злодеев тех лет немало приходилось слышать. Но мальчишку, мальчишку-то – ведь уже мы сами убили! Лганьем, молчанием, криводушием нашим. По своим же правилам хотели его жить заставить – ан оно и не вышло! Прямо чувствую, как его кровь с моих пальцев каплет… Вы, О.Д., обязательно на этот фильм сходите!» Он побледнел, руками от меня заслонился: «Что ты! Чтобы я… Кровь с пальцев… Ах, боже мой!» И побежал. Вот что значит привык человек жить спокойно, красиво, сам себе устраивать уютное, без волнений, существование. А ведь это художник! Квинтэссенция человека, духовное начало. Чего же ждать от массы – мычащей, жующей, безмолвно взметывающей руки при голосованиях? Чем объяснить массовое, повальное возвращение к пьянству? Людям показали тупик, бездну, в которую они катятся, сказали: еще не поздно! Знаю: многие, многие тогда начисто отказывались от алкоголя, думали, что заживут теперь по-другому, чисто и хорошо. И теперь вот снова пьют…
Вы скажете: есть и другие. Каспаров, Беднорц, Светлана. Все так. Но судьба Каспарова известна: она незавидна. И – что уповать на изменившиеся времена! Прочтите мою повесть «Непобедимый Костин» – двойника главного ее героя сейчас с таким хрустом доедает обком… И куда ни сунься, что ни доказывай – увидишь только оловянные глаза да медленно двигающиеся челюсти.
Но пока такие люди живут – надо жить и нам…»
(Из письма писателя В.Г.Соколовского, г. Пермь. Письмо № 3, 1987).
Странности продолжаются
Расшифрованная магнитозапись оказалась полной абракадаброй. «Самая красивая девушка редакции» – назовем ее, пожалуй, Викой – позвонила мне и сказала, что ей трудно и что не смогу ли я ей помочь. Приехав в редакцию и увидев абракадабру, я понял, что все нужно начинать сначала.
– Покажите ему расшифровку, – сказал я. – Думаю, он со мной согласится. Предложите ему коротко написать свои вопросы и соображения, а мы с вами смонтируем и покажем ему. На худой конец пусть скажет что-то по телефону. Мы ведь с ним уже беседовали перед встречей и в принципе пришли к чему-то. Я помню, что он говорил. Я еще тогда понял, что встреча не удалась. Вы согласны?
– Да. Повесть я не читала, но то, что он говорил, мне тоже не очень понравилось. Вы ведь все-таки автор. А он держался с вами как мэтр…
– Позвоните ему, пожалуйста. А потом мне, хорошо? Я буду ждать.
Затем я позвонил Лиле Николаевне и заведующему отделом. Оба поддержали мое решение.
– Вы выручите газету, если сделаете так. Спасибо вам, – сказала Лиля Николаевна.
– Это будет здорово, – подтвердил зав отделом. – Жму руку, обнимаю вас.
Вика встретилась с журналистом и показала абракадабру. С трудом уговорила его написать то, что я просил. Прошло три дня. Наконец, Вика привезла мне четыре маленьких кусочка машинописного текста. Они соответствовали тому, что он говорил по телефону. Помнил я и то, что было сказано на встрече в редакции.
И все бы ладно, но была уже пятница. А в понедельник нужно засылать готовый материал в набор, как мне сказали, в самый ближайший номер еженедельной газеты. Это был последний шанс. Журнал с первой частью повести выйдет вот-вот, а после этого диалог «по прочтении рукописи» уже не будет иметь смысла.
Оставались суббота и воскресенье. Я опять созвонился с Лилей Николаевной и заведующим отделом и заверил их, что сделаю материал к понедельнику.
– С Богом! – сказали оба.
В субботу я написал «диалог» от начала и до конца, использовав данные мне кусочки и добавив в высказывания от его лица то, что помнил. Тщательно выверил, чтобы количество сказанного мною и им было равным.
В воскресенье с утра вычитал, подправил кое-что и дал почитать троим из тех, чье мнение я ценю. Всем понравилось. Позвонил Лиле Николаевне, чтобы успокоить ее: «Все в порядке».
А в понедельник понес заведующему отделом.
Читал он при мне, читал медленно. Реакция его была непонятной. Прочитав, он положил голову лицом вниз на руки, которые лежали на столе, и оттуда, из-под рук, сказал:
– Понимаете, хороший материал, но… Нет спора! Спора нет между вами. Позиции в сущности одинаковые.
Я не понял. Что-то странное было в его словах. Во-первых, в материалах подобного рода в их газете спора как раз обычно и не было. «Диалог по прочтении рукописи» предполагал, скорее, вопрос-ответ, то есть нечто наподобие интервью. Что же касается позиций, то почему они обязательно должны быть разными? Мог ли мой оппонент по-другому, нежели я, автор повести, оценивать позиции совестливого Каспарова и бессовестного Бойченко, а также предвзятой судьи Милосердовой? Конечно, настоящий спор мог возникнуть, если бы оппонент затронул вторую половину повести – тут, в вопросах нравственности, мы с ним могли бы и разойтись. Но он ведь принципиально не хотел затрагивать «личную линию». Нет, «спор» и «позиции» тут были, по-моему, не при чем. Чего-то заведующий отделом недоговаривал.
– Что же будем делать? – спросил я, тем не менее.
– Оставьте, – вздохнув, сказал он. – Я подумаю. Покажу ему.
– Ну, а конкретно, с чем вы не согласны все-таки? – не унимался я. – Что-то вас не устраивает? Что? Вы повесть читали? – спросил на всякий случай.
– Нет, повесть не читал. Не успел.
– Ну, а против моей линии вы что-нибудь имеете?
– Нет, у вас все хорошо. А вот у него хуже.
– А вы дайте ему. Пусть сделает так, как хочет. Единственная просьба: у меня ничего не трогать без моего ведома, хорошо?
– Да-да, разумеется.
– Надеюсь, что в вашей благородной газете я могу рассчитывать на уважение к автору, так ведь? – повторил я, уходя.
– Да, все будет хорошо. Обещаю, – заверил он. – Позвоните мне завтра утром.
Сразу после него я зашел в кабинет Лили Николаевны, но ее не было.
Вторник. Звоню заведующему, его нет, но подходит Вика. Спрашиваю о материале, она мнется, говорит, что послали журналисту на доработку его линии.
– Вы читали?
– Да.
– Ну, и как вам?
– Мне понравилось, но… Заведующий говорит, что нет разницы позиций, что линия журналиста слабая, он кое-что сам сделал, а теперь послали.
– Вы согласны с этим?
– По-моему, там все хорошо, но… Заведующий говорит, что…
Вечером я позвонил второй раз. Опять подошла Вика.
– Ну, что? – спросил я.
– Журналист сделал плохо. Заведующий подправлял сам. Опять послали журналисту для визы. Он подписал, а я сейчас кое-что подправляю.
– А мою линию трогали? – спросил я, заподозрив.
– Да, у вас тоже заведующий много исправил. А я совсем чуть-чуть, несколько слов, мелочи.
Все ясно. Но что же делать? Я решил позвонить Лиле Николаевне домой и все рассказать.
Слава Богу, застал ее дома.
– Знаете что, у вас есть еще экземпляр? Вы не могли бы подвезти мне? – тотчас сказала она. – Я посмотрю, и мы решим с вами, что делать. Что-то странное происходит. А ведь организацию материала поручили мне. Давайте встретимся у метро, хорошо? И захватите, если можно, рукопись повести, мои знакомые очень хотят почитать.
Договорились на половину девятого вечера.
Встретились, я передал ей второй экземпляр, вернулся домой и ждал, волнуясь, ее звонка.
В половине одиннадцатого она позвонила.
– Извините, что поздно, была занята. Я прочитала. Внимательно. Два раза. По-моему, отличный материал. Действительно что-то странное происходит. Давайте так сделаем: я завтра утром поеду в редакцию и передам материал заместителю главного. Он как раз ведет этот номер. Надо поскорее отдать в набор – тогда они не смогут в верстке сильно перекраивать.
В среду, в половине десятого утра, она позвонила опять.
– Все сделала. Отдала заму. Оказывается, заведующий уже сказал ему: «Материал плохой и наверное не пойдет в этот номер». Ну, а раз не в этот, значит, ни в какой, вы понимаете. Ведь журнал уже выйдет. Зам быстро прочитал, ему понравилось. А дальше было совсем интересно. Пришел заведующий, он еще ничего не знал, и мы направились к исполняющему обязанности главного – самого ведь нет сейчас, он в Америке. И.о. спрашивает у заведующего насчет вашего материала, а тот говорит: материал не готов, мы дважды заворачивали его и автору повести, и журналисту. Понимаете: он сказал, что и вам тоже «заворачивали». Соврал. Тогда зам достает ваш материал и говорит: вот же он, отличный материал, в чем дело? Заведующий аж позеленел… Ну, в общем, я оставила заму ваш телефон, он вам позвонит.
Но до пяти вечера телефон молчал.
В пять я решил позвонить Вике.
– Журналист доделал свою линию, материал стал гораздо лучше, – оживленно сказала она. – Он у заведующего после машинки. Он или смотрит его или уже отдал в секретариат.
«После машинки»? Ну, неуемные люди, до чего ж трудолюбивы!
Звоню заведующему:
– Материал стал гораздо лучше, – говорит он, ничтоже сумняшеся. – Острее стало, прояснились позиции… Я сейчас как раз смотрю его и – на машинку, потому что грязно… Сегодня машинистка, видимо, не успеет перепечатать, ну, тогда завтра с утра. И – в секретариат. Вы приходите завтра во второй половине дня.
Так. Опять на машинку. Второй раз. Завтра? Во второй половине дня? Ведь сдать нужно было уже позавчера.
Прежде, чем опять связаться с Лилей Николаевной, я позвонил своему другу – писателю и журналисту Саше Нежному, – который не раз печатался в этой газете. И рассказал ему все от начала и до конца.
– Обязательно проконтролируй все. Обязательно, до самого конца, до засыла верстки в печать. А я позвоню заму, он хороший мужик, спрошу у него. Что-то они темнят. Скорее всего, трусят.
– Чепуха какая-то! – сказала Лиля Николаевна. – Зачем машинка? Ведь у зама есть ваш текст, его и надо было послать. Вот что, узнайте у своего друга домашний телефон зама, я ему позвоню.
Звоню Саше, а тот:
– Только что звонил заму, собирался звонить тебе. Он сказал так: получилась неприятная вещь, ты дал отличный материал, а тут его замотали.
– Так и сказал?
– Так и сказал: отличный материал. И его замотали.
Лиля Николаевна решает опять ехать в редакцию утром в четверг, но зам обещает взять все на себя. И действительно – звонит мне утром в четверг.
– Ваш материал сейчас у и.о. После него пойдет на машинку. Как только сдадим, позвоню вам и приезжайте.
Звонит без четверти одиннадцать:
– Приезжайте через час.
– Куда заходить, сразу к вам?
– Лучше сначала к заведующему, а потом ко мне, наши комнаты рядом.
Еду. Зав на месте.
– Почему так рано? Договорились ведь в конце дня, – недоумевает он.
– Был в редакции журнала, тут рядом, решил зайти к вам.
– Сейчас пойду, узнаю… – выходит, возвращается: – Будет готов через час-полтора.
Выхожу, захожу к заму.
– Посидите, пойду, узнаю.
И… возвращается с материалом.
– Читайте внимательно, можете восстанавливать, но только то, что действительно необходимо. Учтите, что счет идет даже не на часы, а на минуты. И постарайтесь без обострения отношений с заведующим.
– Сколько можно восстановить? – спрашиваю после прочтения.
– Пойдемте к техреду, выясним у нее, номер ведь сверстан.
Выясняется, что строк двадцать. Восстанавливаю. Естественно, что сокращено было за мой счет – у журналиста, наоборот, увеличено. Фотография у техреда уже была, и даже на фотографии получилось так, что журналист – мэтр, разъясняющий что-то строго мне, внимательно слушающему, «молодому». Даже техред заметила, что он, журналист, держится гоголем. Сокращены были, конечно же, самые острые места у меня. Вот тебе и самая прогрессивная газета!
Восстановленное печатаю тут же на машинке, и зам вклеивает кусочки в верстку собственноручно. И тут входит… заведующий. Он жалок. Он, очевидно, все понял. Мне жаль его, хотя накануне я полночи не мог уснуть и многократно представлял в лицах, как я вхожу к нему в кабинет, называю вещи своими именами, даю пощечину и так далее, и так далее… Но теперь я, кажется, победил.
«…«Общественное мнение» всегда против нас. Нет ни перспективы, ни поддержки. В оккупации было лучше. Там ясно, где враги, где свои. А здесь? Можно только смириться и признать «целесообразность» действия этой системы, что я и сделала. В результате было констатировано, что мое психическое состояние стабилизировалось.
Какая перспектива у нашего народа?
Чего будут стоить все постановления, которые будут приняты, если не отменят Инструкцию? Пока что на страже нарушения законности стоит дьявольский триумвират МВД, Минздрава и Прокуратуры и главный орган, которому это необходимо – ЦК.
Оптимальным социально-психологическим вариантом личности является проституированная личность, охотно признающая УСЛОВНОСТЬ существования закона, неизбежность его невыполнения, его чисто украшательскую значимость.
Чувство собственного достоинства, связанное с неприятием искажения общечеловеческих ценностей, этой системой подавляется.
Ликвидация понятия ВИНЫ как сознательной основы неугодных действий устраняет и аналоги в общественном сознании, чем и можно объяснить отсутствие массового возмущения.
Действие и масштаб распространения психиатрического взгляда на поведение равнозначны раковым метастазам в нашей стране.
…Пока у других мир, у нас необъявленная война.
Так живем не только мы. У других хуже.
Извините за анонимность и за то, что плохо написано».
(Окончание анонимного письма женщины.
Письмо № 79, 1987)
Относительная победа
Верстка с моими вставками сдана, мы расстаемся с замом в дружбе и взаимном расположении – не меньше часа разговариваем о перестройке. Он обещает восстановить еще одно, самое острое место и проследить, чтобы мои поправки и вставки были обязательно учтены. Все решится, оказывается, в понедельник, ибо должен прочитать и.о. и приезжает главный. Последний срок, оказывается, не в прошлый понедельник, а в следующий. В понедельник номер идет в печать.
– Хорошо, я обещаю вам восстановить место о Горбачеве, – говорит он. – Обещаю проследить, чтобы все ваши вставки и исправления учли. А вы потом поедете от нас в командировку и напишете что-нибудь о перестройке. Договорились?
– Договорились, – соглашаюсь я и с симпатией жму руку заму.
Но оказалось, что это не все. Странности на этом не кончились.
В среду номер вышел из печати, но зам не выполнил своего обещания: острое место не восстановлено, сокращено кое-что из вставок, мои поправки не все учтены. В столь коротком тексте иной раз имеет очень большое значение одно только слово, оно или поднимает материал, делает его значительным, или, наоборот, сильно снижает его. Профессионалы-газетчики не могут не знать этого элементарнейшего закона. Сокращения же были вызваны, как выяснилось, тем, что на полосу, кроме нашего, поставили еще один маленький материальчик.
Наш «диалог» получился наполовину урезанным и ослабленным.
На обсуждении номера в присутствии главного зам сказал относительно нашего «диалога», что он «мог бы быть значительно острее». Но, по словам Лили Николаевны, которая присутствовала на обсуждении, звучало это так, что виноват в недостаточной остроте был не кто иной, как я, автор повести.
Вот так мы, значит, работаем. О, Астольф де Кюстин! Тогда я еще не читал твоей книги, но теперь перечитываю, словно свою. Поразительно, как еще 160 лет назад все было точно угадано!