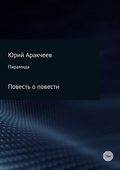Юрий Сергеевич Аракчеев
Пирамида жива…
Переводчики и иностранные корреспонденты
Один любопытный факт я упустил в своем хронологическом пересказе событий.
Еще до выхода первой половины повести, но уже после окончательной экзекуции над второй, мне позвонили домой прямо-таки… Трудно поверить, но факт: из Парижа! Самое интересное, что этот звонок никак не был связан с моей недавней поездкой. Из каких-то неизвестных мне каналов переводчица с русского на французский Елена Жюли, бывшая советская подданная, вышедшая замуж за француза, узнала о предстоящей публикации повести и постаралась заручиться моим разрешением на перевод и издание в одном из парижских издательств. Мой телефон ей дал в журнале, как выяснилось, Первый зам.
Чтобы ускорить дело, Елена попросила передать верстку повести ее матери, которая живет в Москве, с тем, чтобы та через «оказию» привезла ее в Париж. Еще требовалась моя автобиография для одного из французских журналов и фотография. Естественно мое отношение ко всему этому было вполне положительным.
А уже после выхода второй половины и колонки в «Известиях» мне звонили корреспонденты: сначала японской газеты «Иомиури», а потом американской «Крисчен сайенс монитор» – оба с просьбой дать интервью.
С первым мы встретились в Центральном Доме Литераторов, он записал интервью для своей газеты – в присутствии одной из наших известных переводчиц с русского на японский – и обещал известить, как только интервью выйдет в Японии. Произвел он на меня впечатление очень симпатичного и обязательного человека, свободно и живо изъясняющегося по-русски.
Со вторым тоже встречались, однако эта встреча оказалась довольно странной. Он очень вежливо и настойчиво говорил по телефону оба раза (после первого звонка мы не смогли встретиться, и он позвонил опять), но потом опоздал на двадцать минут (так что я даже собирался уйти), и разговор наш был почему-то натянутым, не с моей стороны, а с его. Почему? Это остается загадкой для меня до сих пор. Правда, особый интерес он почему-то проявил к моей встрече с лейтенантом из КГБ, которая описана в «Пирамиде». Но ведь встреча эта в контексте повести не имеет особенного значения… Так почему же?…
Впрочем, ни первой (Франция), ни второй (Япония), ни третьей (Америка) встречам я особенного значения не придал в густом потоке звонков и писем. Главным для меня все же было то, как откликнется родина, какой резонанс и какую трибуну я получу у себя. Насколько активно смогу участвовать в тех процессах, которые, несмотря на скепсис большинства авторов писем, в моей стране начались. Но родина в своих средствах массовой информации пока упорно молчала.
Звонки
– Здравствуйте, говорит заместитель главного редактора Полного собрания сочинений Достоевского… (Звонок был междугородний, из Ленинграда). Я узнал Ваш телефон по справочнику СП… Поздравляю с прекрасной повестью. Получилось так, что мы с женой отдыхали у вас, под Москвой, там прочитали только первую половину, она тоже понравилась, но все же не настолько, чтобы Вам позвонить. Здесь, в Ленинграде, прочитали вторую, и я решил, что позвонить надо. Это прекрасная вещь, и она очень сейчас нужна. Мы с женой от души Вас поздравляем. Я собираюсь звонить главному редактору журнала, скажу и ему. Успехов Вам, так держать!
– Юра, привет. Прочитал. Отлично. Зацепила твоя «Пирамида». Молодец, очень рад за тебя…
Это звонил один из молодых, но уже известных, входящих в моду критиков. Он часто печатался в разных газетах и журналах.
– Ну, что ж, Юра, от души поздравляю. Нас тут завалили письмами. И звонят много. Причем все хорошие люди. Это настоящий успех, настоящий. Рада за тебя…
Это звонок редактора, с которой мы совершали «экзекуцию» над рукописью, но которой я, тем не менее, был искренне благодарен. Я чувствовал: Эмма действительно рада. И рада за дело и за меня.
Звонков были десятки, сотни. А прорвались ведь не все – я же говорил, что начал отключать телефон.
Многие просили встречи или конкретной помощи. Они по характеру напоминали письма. Пострадавшие, просящие за других, просто благодарные, начинающие или достаточно «взрослые», но безнадежно погрязшие в редакционных глубинах писатели, юристы, друзья, родственники, знакомые давние и недавние…
Расскажу еще только о четырех, имеющих значение для дальнейшего повествования.
Первый:
– Здравствуйте. Говорит секретарь Союза Писателей РСФСР. От души поздравляю Вас. Ваша повесть – лучшее, что появилось у нас в последнее время, она лучше всех тех «бестселлеров», о которых раззвонили критики. Серьезно, умно, доказательно, эмоционально, добротно. И – о настоящем, а не о прошлом, как все пишут, вот что важно! Я предрекаю Вам большой успех… Странно, в секретариате совсем не знали Вашей фамилии – первый секретарь, Сергей Владимирович Михалков ничего Вашего не читал и не слышал о Вас. Вот нонсенс! Но я сказал ему, чтобы обязательно прочел «Пирамиду». Кстати, Вы не хотели бы поехать в Чехословакию в декабре? Вместе с еще одним молодым талантливым писателем, секретарем Союза?
Второй:
Позвонил сам первый секретарь СП РСФСР С.В.Михалков. Минут двадцать мы разговаривали, он хвалил «Пирамиду», рассказывал о том, как однажды сам заступался за несправедливо осужденного человека. Предложил обращаться лично к нему, если нужна какая-то помощь.
Третий:
По какому-то поводу я понадобился Первому заму…
– У Вас настоящая слава, – сказал мне Первый зам. – Смотрите, не загордитесь. Темечко выдержит?
Тон был странный, почти издевательский, как впрочем и слова. За что?
– С Вашей помощью, думаю, выдержит, – машинально ответил я.
От этого короткого разговора остался осадок мерзкий. Действительно: за что?
Четвертый:
Звонил один из героев «Пирамиды» В.Г.Сорокин, член Военной Коллегии Верховного Суда СССР. Он сказал, что в Верховном Суде «сложилось благоприятное мнение о повести», и Председатель Верховного Суда, якобы, рекомендовал ее для прочтения аппарату. То же, будто бы, и в Министерстве юстиции. Оттуда чуть ли не собираются пригласить меня на выступление.
Часть 3. Мы – советские граждане. 1917 – 1988
Загадочная русская душа
Почему мы так плохо живем? Почему большинство народа богатейшей по природным ресурсам страны мира из года в год влачит жалкое существование – при любых государственных системах?
Многие иностранцы русских любят. «Русская душа», загадочная русская душа, таинственная русская душа, странная («Люблю отчизну я, но странною любовью…), непонятная («Умом Россию не понять…»), широкая («И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда «черт побери все…»)… В самое последнее время, когда стало модно не прославлять, а – наоборот – всячески чернить Россию, то есть Советский Союз («империю зла»), подвергаются сомнению какие-то особенные и положительные качества русской души – уже и завоеватели татаро-монголы приплетаются сюда, и печенеги, и немцы (те, которые царствовали – Анна, Екатерина и т.д.), и варяги, что только и смогли навести хоть какой-то порядок в раздираемой междоусобицами стране. И, конечно, евреи – сионисты, масоны, «иноземцы»… Короче, мол, русской нации вообще нет, а есть непонятная смесь, главные свойства которой – глупость, лень и детски-собачья верность пустым идеалам, насильно внедренным в слаборазвитую, тупо-доверчивую русскую душу. И вообще история русского народа – это история рабства, которое после 1917-го достигло апогея.
Как ни горько признать, но отблески правды есть, наверное, во всех этих высказываниях. «Кюстиновская» пирамида, увы, реальность.
А все же нечто, присущее именно русским людям, живущим именно на этих убогих, унылых, но удивительно трогательных, милых не только русскому сердцу землях, есть.
Покосившаяся избенка,
Плач овцы, и вдали на ветру,
Машет тощим хвостом лошаденка,
Заглядевшись в неласковый пруд.
Это все, что зовем мы родиной,
Это все, отчего на ней
Пьют и плачут в одно с непогодиной,
Дожидаясь улыбчивых дней.
(С.Есенин)
Так что же все-таки? Доброта? Мистическая настроенность? Доверчивость и наивность? Устремленность духовная? Или чрезмерно затянувшаяся детскость, нежеланье взрослеть?
Может быть… А может быть и еще что-то. Может быть, жертвенность? Жертвенность и… женственность есть в чертах нашей нации.
Широчайшая палитра народных характеров – от холодных, рациональных прибалтийцев, карелов, угро-финнов, а также невозмутимых детей природы чукчей – до горячих кавказцев, узбеков, туркмен, мистически настроенных тувинцев, удэгейцев, бурятов, алтайцев… Больше сотни национальностей и народностей! И худо-бедно, однако же на протяжении столетий все уживались друг с другом. Эта широта, эта пусть порой вынужденная, но – терпимость, это постоянное общение и смешение рас, дающее порой яркие генетические всплески в отдельных выдающихся личностях (как и в признанной всем миром красоте российских женщин) – это же некая модель мира, где представители разных национальностей не воюют постоянно друг с другом, а общаются, сосуществуют, сотрудничают. Так уж сложилось исторически, что огромная российская империя объединила в себе рациональный, материалистический Запад и мистический, духовный Восток. Это гигантский полигон, модель всеобщего братства людей планеты. Именно здесь решалось, смогут ли люди жить на Земле единой дружной семьей или уничтожат в постоянных междоусобицах друг друга, а вместе с собой и всю природу планеты.
И если так, то понятно, почему силы зла постоянно испытывают Россию. Вот и в Книге рекордов Гиннеса Россия занимает первое место по числу жертв геноцида собственного народа…
Вечная двойственность России… Деспотизм, безжалостный террор с одной стороны – и постоянные стенания, вопли, весьма пассивное все же недовольство с другой… Хотя при всем при том удивительная живучесть и другого – постоянная, то затихающая, то вспыхивающая с новой силой, мужественная борьба «общинных», духовных, сочувствующих угнетаемому человеческому достоинству сил. И – умение сочувствовать, понимать боль другого.
«Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка-Русь!»
Вот и в литературе. Толстой, Достоевский, Чехов – самые «жалостливые», самые добрые, может быть, самые нравственные, духовные, самые «общинные» в мире писатели. И философы такого же плана – Соловьев, Бердяев, Федоров, Флоренский, Герцен… – тоже наши. А музыка, живопись? Но особенно все-таки – литература. Ни в одной стране, пожалуй, литература не была в такой степени жертвенной, совестливой, так мучительно и неравно противостоящей властям. Многократно ссылаемый, а потом и сожженный протопоп Аввакум, объявленный «бунтовщиком» Радищев, официально считавшийся сумасшедшим Чаадаев, приговоренный к смертной казни Достоевский, отлученный от церкви Толстой, проклятый властями и высланный из страны Солженицын. Сотни писателей, уморенных в концлагерях, расстрелянных, доведенных до самоубийства, затравленных. Мачехой для лучших своих сынов и дочерей назвал Россию поэт Максимилиан Волошин. Где, в какой стране такое было еще? «Вся русская литература возникла по недосмотру начальства» – кажется, эти слова принадлежат Салтыкову-Щедрину.
Но… Наряду с героями-защитниками, выразителями «совести и боли народной», ни в одной стране, наверное, не было столь бездарной, однако же нахрапистой, столь продажной, трусливой, подлой литературы, как определенная часть литературы нашей. Где еще могли так слащаво (и так серьезно!) восхвалять вельможных тупиц и убийц, одновременно слыша и – не желая слышать! – вопли терзаемых, убиваемых – тех, от имени которых и восхваляли?
Самодурство и мазохизм, вязкая лень и безоглядный порыв, озлобленность и безграничная доброта, покорная униженность и убежденное мессианство…
Так и кажется, что в Россию не устают посылать десант – чтоб удушить в конце концов эту «жалостливость», «общинность», доверчивость и наивность, широту и «загадочность» русской души, которая, несмотря ни на что, все еще жива…
Откуда-то извне десант, что ли? Звездные, что ли, пришельцы? Серые карлики. Об этом, кстати, и повесть последняя моя – «Карлики».
А все-таки русских любят. В какой-то степени и сейчас. Несмотря ни на что.
И стоило только затеять нашим правителям «перестройку», как весь мир тотчас со вниманием и сочувствием повернулся к нам. А Горбачев стал самым популярным политическим деятелем.
И при всем нашем «ненавязчивом» сервисе, бытовой неустроенности, бестолковости, засилье тупого бюрократического начальства, иностранцы любят у нас бывать. И бывали бы еще больше, гораздо больше, если бы не гонор, невежество, подозрительность, беспардонное хамство, некомпетентность тысячи тысяч наших чиновников, этих многочисленных «серых карликов», словно поставивших своей целью создать в «загадочной» стране совершенно невыносимую атмосферу.
– Что же вам нравится у нас? – не раз спрашивал я у гостей из разных стран мира.
– Понимаете, ни у кого в мире, кроме вас, нет такой открытой души, – приблизительно так отвечали многие. – В Европе, например, просто немыслимо, чтобы один человек вот так, ни с того, ни с сего открывал вдруг душу другому. И бескорыстно! – вот что непостижимо. У вас сочувствовать умеют чужому человеку, понимаете? У вас улыбки хоть и редкие, но искренние, сердечные. А у нас они сплошь да рядом приклеенные. Чтоб показать: все, мол, в полном порядке, о-кей, я молодец, а потому и дела у меня всегда в ажуре. Хотя на самом деле это далеко не всегда так.
Не берусь судить. Думаю даже, что мнение это на сегодняшний день очень поверхностно. Потому что именно доверчивость, именно умение и желание сочувствовать другому искореняли в нас в течение последних семидесяти с лишним лет Советской власти особенно упорно, дьявольски, силами невиданного в истории репрессивного аппарата. Уникальный символ – Павлик Морозов – родился у нас. Это вам не синьор Монтанелли, мучительно переживающий свой вынужденный поступок. Но… Некий серьезнейший смысл в его поступке ведь есть! Ведь еще Христос сказал: «И враги человеку домашние его» («От Матф.» 10-36). Почему? А потому, что древние «домостроевские» устои тормозили человеческую личность на святом ее пути к самому Христу – к свободе. Ведь отец Павлика Морозова был кулак, эксплуататор народа, а значит и на самом деле враг Павлика. Идейный враг. А ведь борьба идей шла всерьез – не на жизнь, а на смерть. Ведь Российская империя – самодержавная, царская – держалась силой. А идея, провозглашенная коммунистами, должна была объединить ее добровольно, без унижения властью, на основании общей задачи – создания справедливого, многонационального общества, без эксплуатации человека человеком, где человек человеку «друг, товарищ и брат». Это сейчас новые хозяева смеются над тем лозунгом. Он кажется им наивным, глупым, абсолютно нереальным. А зря. Иного пути у человечества все равно нет. Иной путь – терроризм и война. Теперь термоядерная.
Другое дело, что большевики во главе с Лениным в решающий момент, когда стало трудно, фактически предали социалистические идеи всемирного братства, взяв на вооружение абсолютное «единоначалие» и жестокий террор. Тонкое это дело! Нельзя, идя к цели, пользоваться средствами, противоречащими этой цели, нельзя терять из виду желаемую вершину. А большевики потеряли. Но нельзя забывать, что первым был, все-таки, Белый террор, и только в ответ на него – Красный.
Очевидно теперь, что при всех несомненных все-таки достижениях советского строя, их средства в значительной степени перечеркнули их цель. Увы.
И все же нечто такое, о чем говорят иностранные гости, в нас действительно есть. Не выбили до конца. И так хочется в мучительной тоске повторять: «Ты проснешься ль, исполненный сил?… Иль… духовно навеки почил?» «Вынесет все – и широкую, ясную, грудью дорогу проложит…»? «Россия вспрянет ото сна»?
Вот и в книге Кюстина «Россия в 1839» такие строчки: «Долго ли будет провидение держать под гнетом этот народ, цвет человеческой расы? Когда пробьет для него час освобождения, больше того – час торжества? Кто знает? Кто возьмется ответить на этот вопрос?» (Маркиз Астольф де Кюстин «Николаевская Россия» М. Изд. Политической литературы, 1990, стр. 275).
И как же пришлось мне ощутить те же самые чувства после выхода моей «Пирамиды», читая взволнованные, искренние письма и… видя совершенно противоречащее им глухое молчание официальной прессы и странное поведение коллег и сослуживцев, похожее если не на предательство и трусость, то на что? Искренние, честные, исповедальные письма были все с обратными адресами как знаками абсолютного доверия. Звонки. Визиты домой… Да-да, были «ходоки» из разных мест необъятной Родины. Возвращаюсь домой откуда-то – стоят на лестнице, ждут. Или звонят в дверь, когда я дома.
– Я приехал (приехала) из… (назывался город). Вот, почитайте, пожалуйста, я потом позвоню, и если вы захотите со мной встретиться, я приду опять.
Я читал. Как правило, это жалоба, описание такого беспредела – за одно разглашение которого могли посадить в «психушку» (хотя через два года уже печатали в прессе). Человек приходил снова: «Помогите хоть советом, хоть чем…» Я только и мог – советом…
Иногда бывали заявления и такие:
– Скажите, что мы должны делать. Ведь ждать нельзя. Родина гибнет. Я не один, нас целая группа, мы ничего не боимся, устали ждать. Что делать, скажите!
Не мог же я советовать им поднять восстание. Не готов к нему наш народ, увы.
…Да, теперь все чаще и чаще мы оглядываемся не только назад, но и вокруг. В недоумении и печали спрашиваем себя: почему же так плохо живем?
А и правда, почему же это, а?
Выступление в Центральной библиотеке имени Некрасова
На выступления перед читателями приглашали много. Я и раньше выступал нередко – главным образом со слайдами и рассказом о «джунглях во дворе», то есть о фотографировании насекомых и других существ природы крупным планом, как автор «природоведческих» книг. Теперь приглашали как автора «Пирамиды».
Все приглашения невозможно было принять, их слишком много. Да еще никак не мог выйти из стресса в связи с потоком писем, звонков и недоумением от молчания прессы. А кроме того заканчивал повесть. Она должна была выйти как раз вслед за «Пирамидой». Я уже говорил, что она называлась «Карлики».
Вообще не хотелось терять время, ведь пришел, кажется, мой «звездный час». Ко скольким людям обращусь на выступлении – сто, двести человек? А сколько человек будут читать книгу? Так что соглашался на выступления я далеко не всегда.
Но в этой библиотеке решил все же выступить. Потому что приглашала и прямо-таки уговаривала милая женщина, заведующая филиалом, у которой я раньше выступал «с букашками» неоднократно.
– Я не смогу умереть спокойно, если Вы не выступите у нас, – приблизительно так говорила она и уверяла, что и она, и большинство читателей считают, что «Пирамида» непременно должна быть «напечатана самым массовым тиражом, экранизирована и выдвинута на Ленинскую премию». – Мы пригласим заместителя главного редактора журнала, заведующего отделом, это будет прекрасный вечер, – уговаривала она меня.
И я согласился.
Опасался, что будет мало народу. Письма письмами, звонки звонками, а пресса-то молчала. Хотя на все лады расхваливали другие вещи, вышедшие в последнее время. Особенно – чуть ли не заглушая все остальное – гремел роман, где – наконец-то! – выведен мерзавец-Сталин не в славе Генералиссимуса и не в позе светоносного Отца Всех Народов, благословляющего своих старых и малых сынов на труд и на подвиг, а – этаким коварным демоном Вельзевулом, догматиком террора, нацеленным исключительно на сугубо личное собственное всевластие, искажение великих принципов божественного предшественника – мудро ведь предостерегавшего соратников по священной борьбе: «Не пускать его в Генсеки!» А вот не послушали наивные соратники, пустили – туда, где «необъятная власть» – и поплатились за свою наивную, чистую доверчивость: один за другим, невинные коварно убиты… Был этот роман немедленно вознесен на недосягаемую высоту, прославлен… Удивляло, правда, не столько даже детское упоение читателей примитивным пониманием истории нашей, сколько снисходительное отношение властей к успеху романа. Удивляло, правда, лишь на первых порах, ибо скоро ясно стало: на основы роман не посягал ни в какой мере. Причиной всех безобразий в романе был Сталин, именно Сталин, его нечеловеческая жестокость, властолюбие, себялюбие, и вообще советская власть. А простые люди, особенно интеллигенция, конечно же, молодцы. Хоть и пострадали от Сталина крепко. Непонятным поначалу казался и невиданный, ну просто неудержимый интерес иностранцев к роману – его переводили наперебой, автор не успевал на родине побывать, как вновь ехал в какую-нибудь страну, чтобы благословить выход очередного издания. И это после Солженицына, после Шаламова, Гроссмана, Трифонова… Можно было понять: роман хорошо читался, это была профессиональная беллетристика, кроме того, его очень хорошо рекламировали, а реклама для Запада /и только ли для него?/ первое дело. У нас роман читали взахлеб. К тому же, из книги рекордов Гиннеса, опять же известно, что произведения не кого-нибудь, а Иосифа Сталина занимают одно из первых мест по количеству переводов на разные языки мира, и к самой его фигуре интерес во всем мире не угасает, так что…
Много писали и о других вещах, которые повествовали о горьком нашем прошлом, критики, казалось, соревновались: кто быстрее, ярче, комплиментарнее напишет о произведении, бичующем те самые годы, которые когда-то так неудержимо и радостно воспевались. «Успех Вашей книги необыкновенный, потрясающий…» – так начиналась, к примеру, одна из бесед критика с писателем антисталинской темы.
В этом дружном и громком хоре фактически ничего не было о «Пирамиде», хотя прошло уже больше двух месяцев после выхода второй половины, поэтому я и боялся, что народ на встречу со мной не придет.
Подозреваю, что того же опасалась и женщина-библиотекарь, которая меня приглашала, потому и решила она позвать представителей редакции популярнейшего журнала – зама и зава, – позвонила им сама и попросила меня подтвердить приглашение. Пригласил я также и адвоката Беднорца, одного из главных героев повести.
Народу пришло очень много – человек двести-триста, хотя зал не был рассчитан на такое количество, – и некоторым пришлось стоять.
Встреча прошла активно – мы все выступали, было много вопросов из зала. Но… По мере того, как шла встреча, я все больше испытывал странное чувство. Интерес присутствующих был не столько ко мне, автору повести, и к Беднорцу как к одному из ее героев, сколько к представителям редакции журнала, на страницах которого эта повесть была напечатана. Именно к ним было больше всего вопросов… Странно. Ведь афиша крупными буквами объявляла встречу именно с «автором «Пирамиды» и только мелким шрифтом «и редакцией журнала». И вопросы из зала, повторяю, касались больше планов редакции, чем повести и вопросов, поднятых в ней.
Три момента особенно запомнились: я тогда не придал им большого значения, однако потом, по прошествии времени, вспоминал именно их. Когда выступали представители редакции – зам главного и зав отделом, – то они тоже говорили очень мало о повести и почти ничего о проблемах, поднятых в ней, а все – о журнале, о планах на будущий год. Это первое. И аудитория, затаив дыхание, слушала.
Второе заключалось в том, что незадолго до этого – как раз тогда, когда я звонил заведующему отделом и приглашал его, он, в свою очередь, пригласил меня на будущую выездную встречу редакции и авторов журнала с читателями журнала в большом, очень престижном Научно-исследовательском институте в подмосковном поселке Черноголовка. Я тогда согласился и даже готов был отложить намеченную поездку в Ленинград, к друзьям. Через день, правда, заведующий позвонил и сказал, что встреча не состоится. А вот теперь, когда мы вместе шли из библиотеки, выяснилось, что она все же состоялась и в тот самый день, в который было намечено. А просто меня на нее решили не приглашать. Почему? Естественно, никто объяснять не собирался.
И, наконец, третье. Хотя за такие встречи с читателями библиотека обязана нам платить – на это специально отпускаются средства, – мы с заведующим отделом отказывались от оплаты. Тем не менее, женщина-библиотекарь вручила мне конверт с квитанциями – ему и мне. Ему – дорогая, полуторная, за так называемое «авторское выступление в одном отделении». Мне же – дешевенькая, ординарная, за простое выступление, в ряду других. «Какая мелочь! – воскликнут некоторые, прочитав эти строчки. – Вот что интересует его, оказывается, больше всего: деньги!» Да нет, господа. Не в деньгах дело, тем более что сумма-то мизерная, да мы оба то нее и отказывались. Тут другое, совсем другое. Не давали мне покоя перечисленные эти «нюансы», пока я не понял, наконец, почему.