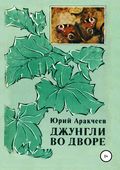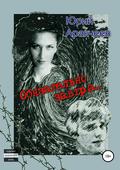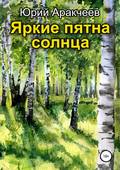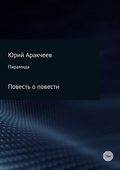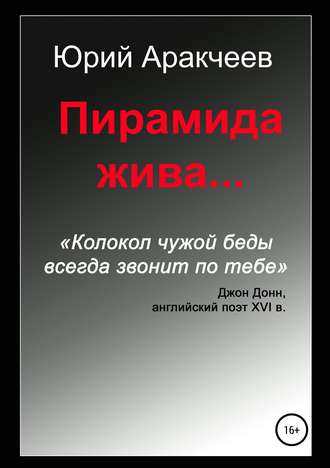
Юрий Сергеевич Аракчеев
Пирамида жива…
Оправдание «сумасшествия», или апология крамолы, или втык неправедной власти, или укор врачам
(пособие для диссидентов и материал для инквизиции).
«В философии с давних времен много места уделялось вопросу о соотношении цели и действий, направленных на ее осуществление. Все философы сходятся к тому, что без цели невозможна практически никакая деятельность. Но вот в вопросе о том, что при этом первично, а что вторично – цель или действия – мнения философов разошлись. Гегель говорил, что без цели человек ничего не делает, но суть дела исчерпывается не целью, а ее осуществлением. Эдуард Бернштейн утрировал эту мысль Гегеля и выдвинул свой известный «ревизионистский» лозунг: «Конечная цель – ничто, движение – все». Маркс на вопрос: «Ваше представление о счастье», – ответил: «Борьба», то есть одну из целей человечества – счастье – он отождествил с движением.
Высказывания этих трех мыслителей содержат единое ядро, которое заключается в следующем.
Внутреннее содержание, истинный смысл, сущность, практическая и моральная ценность цели полностью выявляются не сразу, а только в процессе своего осуществления, поскольку мир устроен таким образом, что будущее, вообще говоря, можно предвидеть только в общих чертах и на небольшой срок. В этом смысле цель является вторичной по отношению к действию, менее важной, чем сами действия.
Сформулированный постулат я называю принципом вторичности цели.
Принцип вторичности цели полностью покоится на общественно-исторической практике людей и не может быть доказан или опровергнут теоретически, подобно тому, как невозможно решить таким образом основной вопрос философии. Что касается вопроса о причинно-следственной связи между целью и действиями, то он не имеет смысла: цель всегда имеет причиной прошлые действия (а не возникает на пустом месте) и одновременно является причиной будущих действий (так как без цели никакая деятельность невозможна).
Из принципа вторичности цели вытекает немедленно очень важный вывод: какой бы «великой» не казалась цель в моменты ее формулирования и начала осуществления, всегда существует ненулевая вероятность, что, в конечном итоге, она окажется ничтожной и безнравственной. Классическими примерами таких низвергнутых целей являются цель уничтожения ереси, которую поставила перед собой средневековая церковь и святая инквизиция, и гитлеровский план установления мирового господства арийской расы…»
Это написано Лашкиным в 1979-м, теперь же, через 11 лет, даже в средствах массовой информации спокойно говорится о том, что и ленинский план построения социализма в нашей стране, оказался совершенно несостоятельным, а потому его смело можно поставить в этот же ряд. Но продолжим.
«Второй, не менее важный практический вывод из принципа вторичности цели состоит в том, что в процессе осуществления цели может возникнуть необходимость ее корректирования.
Оба вывода не представляют собой открытия и известны людям с незапамятных времен, но существенно то, что они являются следствиями более общего утверждения.
Таким образом, «ревизионистский» лозунг Э.Бернштейна есть не что иное как упрощенная формулировка принципа вторичности цели в применении к классовой борьбе и поэтому содержит рациональное ядро. Но, повторяю, эта формулировка весьма утрирована, так как низводит роль цели до «ничто», то есть до нуля.
…Когда я устраивал голодовки, терял кровь и писал заявления, я думал не только о непосредственных, практических результатах своих действий – что свойственно людям, действующим только в соответствии с соображениями здравого смысла, житейского рассудка и обыденного разума, но и об их отдаленных – как во времени, так и в пространстве – последствиях, в частности о том, чтобы в будущем иметь неопровержимые доказательства, что при отсутствии контроля со стороны общественного мнения советская прокуратура совершенно неспособна в некоторых ситуациях выполнять свои надзорные функции, напротив, она сама в этих ситуациях склонна к необузданному произволу.
Главной моей целью была «вечная» цель человека – борьба. Как писал Гейне: «Буди барабаном уснувших, тревогу без устали бей – вся мудрость великая в этом, весь смысл глубочайших идей».
Впрочем, я выбрал путь борьбы не только с помощью философских и логических рассуждений, но еще и потому, что во мне клокотали ярость, гнев, возмущение, ненависть, обида, чувство оскорбленного достоинства.
Я подробно остановился на описании своего сопротивления потому, что психиатры специальной психиатрической лечебницы пытались его трактовать как проявление душевной болезни. У них, в виду низкого интеллекта, не укладывалось в голове, как это я, умный, образованный человек мог, сломя голову, броситься в пропасть и совершать такие безрассудные поступки. Здесь я опять вынужден обратиться к философии».
Итак, дорогие читатели, опять обращаю особое внимание ваше на то, что как раз тогда, в то же самое время, будучи не в сумасшедшем доме, а на свободе, числясь членом Союза Писателей СССР, я в своей «Высшей мере», так и не напечатанной в «Литгазете», исповедовал те же самые мысли. И если бы только я! А Каспаров – главный герой этой «Высшей меры»? А Залман Румер, заведующий отделом писем «Литературной газеты»? А адвокат Беднорц? Я уж не говорю о многочисленных, известных всему миру и, в частности, нам (благодаря ему) диссидентах, и о еще более многочисленных, хотя и не известных ни миру, ни многим из нас, просто порядочных людях. Разве не то же самое исповедовали – пусть не всегда громко – и многие из вас, читатели? Выходит всем им (и мне в том числе) и кое-кому из вас было место где же? Ясно где. Ведь не понимали, не слышали судьи доводов. Ибо указанная вождями цель, а также страх за собственное благополучие, были критериями «пользы дела»… Так не сошла ли с ума вся страна наша на определенном этапе своей истории? И не то же ли самое продолжается и сейчас в некоторых странах мира? Давно существует поговорка: «Ум за разум зашел». Как же четко объясняет эту механику Вадим Иванович Лашкин, пациент Ташкентской спецпсихбольницы… Ведь это прямо-таки ликбез для дипломированных советских врачей-психиатров! Но продолжим чтение…
«Диалектический материализм учит, что существуют две качественные ступени человеческого сознания, последовательно образовавшиеся в процессе длительной эволюции человека.
Первая, низшая ступень присуща всем людям без исключения и называется здравым смыслом, житейским рассудком, обыденным разумом или просто рассудком. Рассудок в своих решениях руководствуется только практическими целями и инстинктами индивида. Цели других людей он учитывает постольку, поскольку это необходимо для реализации своих целей. К потенциальным целям рассудок не стремится.
Рассудок мыслит метафизически, ограниченно, ему не под силу понять взаимосвязь, взаимопроникновение таких антиномий, как жизнь и смерть, добро и зло, поэтому он всегда выберет для себя жизнь, а не смерть, добро, а не зло.
Рассудок не думает и не может думать об отдаленных последствиях своих решений, так как для него важны только непосредственные, ближайшие результаты действий.
Вторая, высшая ступень человеческого сознания носит название разума, или интеллекта. В полной мере интеллектом обладают далеко не все люди.
В отличие от рассудка, разум мыслит диалектически, то есть рассматривает все в движении, изменении, развитии и во взаимной связи – стремится познать универсальное взаимодействие между явлениями и предметами окружающего мира.
Побудительными мотивами разума становятся цели других людей, взятые сами по себе, а также потенциальные цели первого и второго рода. В некоторых ситуациях разум выбирает для себя смерть, а не жизнь, зло, а не добро, так как существенное значение для разума могут иметь не ближайшие, а отдаленные последствия такого выбора, что является парадоксальным с точки зрения рассудка.
Разум в своих решениях руководствуется не только практической пользой и инстинктами, а еще идеями и идеалами.
Сознание каждого человека, кроме рассудка, всегда содержит элементы разума. Рассудок и разум диалектически взаимодействуют между собой и подчас приходят в противоречие. В процессе этого непрерывного взаимодействия и борьбы происходит духовное совершенствование человека в сторону усиления в нем разумного начала.
Теперь все становится на свои места.
С точки зрения рассудка, все мои действия, начиная с момента написания письма в «Правду», являются безумными, так как я потерял на неопределенный срок свободу, принес много горя своей семье (когда меня арестовали, жена была беременна и родила вторую дочь 2-го сентября 1974 года – я ее так и не видел), лишился всяких перспектив на будущее (до ареста я имел реальный шанс получить степень кандидата физико-математических наук), подорвал материальное благополучие семьи (с сентября 1972 года, вплоть до ареста, я не работал из-за урологической болезни, но материально был обеспечен хорошо: я имел дело со студентами-заочниками вузов и техникумов и оказывал им помощь при решении задач и заданий по математике, механике, физике, сопротивлению материалов и теории вероятностей). К тому же я необратимо подорвал свое здоровье (в результате последней кровопотери в Ашхабадской тюрьме – 19 декабря 1974 года – у меня резко обострился урологический воспалительный процесс, с 21 декабря он начал протекать в очень болезненной форме и теперь, по всей вероятности, неизлечим); приобрел несмываемое клеймо душевнобольного (последствия чего даже трудно представить); лишился непосредственного общения с семьей и возможности воспитывать своих детей.
Однако с точки зрения разума дело обстоит по-другому, и все выглядит в порядке вещей.
Руководствуясь целью развития социалистического строя в направлении общественного прогресса, как я его понимаю, я воспользовался правом на свободу слова, гарантированным мне 50-й статьей Конституции СССР, и открыто изложил свои политические взгляды. Эти взгляды имеют негативный характер, но ведь известно, что любое развитие начинается с диалектического отрицания (а мое отрицание было именно диалектическим – «отрицанием отрицания», – а не голым, зряшным, огульным, так как не подрывало, не ослабляло и не дискредитировало основ социалистического строя – общественной собственности на средства производства и Советов депутатов трудящихся).
В своих действиях я руководствовался потенциальной целью второго рода – общественным прогрессом, и поэтому мало обращал внимания на первые, непосредственные результаты моих действий. Мое дело было посеять, а пожинать плоды будут другие. Я поступил в соответствии со своими убеждениями и внес свой вклад в движение за гражданские права в Советском Союзе, которое победит еще не скоро, так как находится в самой начальной стадии своего становления.
Но, как все новое, прогрессивное, это движение будет неодолимо крепнуть, множиться, обрастать все новыми и новыми участниками и, в конце концов, увлечет за собой массы и победит. Это движение нельзя задушить насмерть, так как оно питается соками общественной психологии, то есть определенными устойчивыми чувствами и умонастроениями всего народа, а не вносится в советское общество из-за рубежа, как это лживо и тщетно (поскольку духовный голод народа нельзя утолить болтовней) пытается представить официальная пропаганда (в частности и ваша газета). Не поможет и дьявольское оружие, которое вы изобрели, – психиатрические лечебницы…»
Вот так, дорогие читатели-сограждане. На этом я прекращаю цитирование «Неотправленного послания» Вадима Ивановича Лашкина. Обращаю ваше внимание на один очень тонкий момент. Ревнители и защитники «единственно верного Учения» могут возразить: но ведь и большевики в своих перехлестах и казнях руководствовались «общественным прогрессом», как они его понимали, не так ли? Рассудок был против казней и экспроприаций, а вот соображения «светлого будущего» их оправдывали… Поэтому большевики и их современные последователи – судьи и психиатры – точно так же, как и Лашкин, «мало обращали внимание на первые, непосредственные результаты своих действий»… В чем же разница? Разница в том, что Лашкин истязал не других, а себя. Разница в том, что он не нарушал закон, а, наоборот, требовал его исполнения, одинакового для всех. Разница в том, что он, в отличие от большевиков, не лгал, не подтасовывал соображения о будущем под «злобу дня». В своем «экскурсе в область философии» он даже и не рассуждает на тему о соответствии цели и средств, это для него само собой понятно, ибо и в том, и в другом ясен для него примат разума, а, следовательно, человечности, любви к ближнему, добра. Он человек ЖИВОЙ, не манкурт, в отличие от тех, кто его судил и упекал в ад «спецпсихбольницы».
Победа
– Как же выдержали вы четыре года в этом аду? – спросил я. – Как удалось вам сохранить себя – и рассудок, и жизнь? Ведь они действительно ненормальные, убийцы…
– Да нет, в общем-то ничего страшного не было, – спокойно отвечал мой собеседник. – Со многими я беседовал. Они ведь все равно люди, хоть и больные. Им даже нравится исповедоваться…
– Неужели конфликтов не было? – не унимался я.
– Да нет, серьезных не было. Конечно, иной раз нелегко было выдержать. Психика у них на самом деле больная – раздражительность повышенная, очень «выступать» любят, хвастаться, хорохориться. Иной раз ночью спать не дают, дурачатся, выпендриваются. Но выдержать можно. Меня вообще-то уважали.
Еще отрывок из упомянутого уже «Обращения к психиатрам»:
«В июле 1978 года врачебная комиссия психбольницы УЯ 64 ПБ вынесла заключение о возможности моей выписки оттуда. В Марыйский областной суд был направлен акт врачебной комиссии, предлагавшей суду снять с меня принудлечение и перевести в психбольницу общего типа по месту жительства на общих основаниях.
В этом случае меня выписали бы из больницы домой в скором времени.
Но Марыйский областной суд решение врачей спецпсихбольницы не утвердил и 16 октября 1978 года вынес определение, которым продлили мне принудлечение в психбольнице общего типа, причем члены суда Большакова, Бычкова и Долбня, чтобы как-то «обосновать» это определение пошли на прямой подлог и в своем определении написали, что администрация спецпсихбольницы УЯ 64 ПБ якобы просила продолжить принудлечение. Почти четырех с половиной лет лишения свободы для меня суду показалось маловато – благо, что срок принудлечения никаким пределом сверху не ограничен.
И я был лишен свободы еще на 8 месяцев…»
Что же было дальше?
А дальше Вадим Иванович Лашкин, буквально ни в чем не уступая своим палачам, не сдаваясь, продолжал добиваться полной реабилитации, то есть снятия с себя диагноза душевнобольного. Однако доблестная наша психиатрия не сдавалась. Освободив в июле 79-го, его вновь – словно воина, уволенного в запас, – трижды отправляли на психиатрические «сборы» в Марыйский областной психоневрологический диспансер, с помощью милиции, разумеется. Где и продержали в общей сложности пять с половиной месяцев. Очевидно, чтобы не забывал, что он псих, ибо ведь только псих может сохранять в нашей стране ясность мышления да еще и не скрывать этого от других – открыто выражать свое мнение. Интересно, что два таких «сбора» пришлись уже и на годы «перестройки» – 86-й и 87-й.
Но не сдавался потомок протопопа Аввакума! Все же достигли мы в своей стране прогресса: не прикончили ведь его сразу и в психушке не задушили, с голоду, опять же помереть не дали и кровь вовремя останавливали. Самое фантастическое, пожалуй, то, что в «перестроечное» время Лашкина в психбольницах не только не кололи, но даже… предоставляли ему свободную комнату для занятий с абитуриентами, которых он готовил для вступительных экзаменов в институты, а также студентами-заочниками. Ведь Вадим Иванович Лашкин зарабатывал репетиторством приличные деньги в последнее время и исправно платил налог государству.
СПРАВКА. Выдана Лашкину В.И. в том, что он действительно занимается индивидуально-трудовой деятельностью с 4 июля 1986 года по настоящее время, проведением занятий в порядке репетиторства (частной педагогической деятельностью) по дисциплинам, входящим в программу Высших и средних учебных заведений СССР.
Подоходный налог за указанный период деятельности в общей сумме 3850 руб. 10 (три тысячи восемьсот пятьдесят рубл. 10 коп) уплочен полностью.
Заведующий Марыйским горфинотделом И.Хабибов. 11 января 1990 года.
Ну не пикантный ли момент: абитуриенты и студенты-заочники шли в психиатрическую лечебницу, чтобы заниматься науками, да еще платили деньги за это! Нарочно ведь не придумаешь… А преподавал Вадим Иванович 14 предметов: математику, теоретическую механику, сопромат, теорию вероятностей, философию, политэкономию… И заработок его достигал в некоторые месяцы двух тысяч рублей.
Но неприятным все же было клеймо психа, и в 1988 году, на четвертом году перестройки, пишет Вадим Иванович Заявление начальнику Марыйского горвоенкомата с просьбой направить его как бывшего офицера запаса на комиссию к военным психиатрам «в целях переосвидетельствования его психического здоровья».
Говоря о причинах, по которым его подвергли психиатрическим репрессиям («заведомо ложные измышления, порочащие…»), он прилагает к Заявлению этакий «экран новостей прессы» – выдержки из статей, а также из выступлений Генерального секретаря М.С.Горбачева, которые порой дословно совпадают с его, В.И.Лашкина, «заведомо ложными измышлениями».
«Таким образом, время показало, – пишет пациент психиатрической клиники в июне 1988 года, – что я был в 1974 году прав, но слишком опередил время. Однако повернуть судебную машину назад невозможно, да мне это и не нужно. А вот фальшивый, унижающий меня диагноз «шизофрения», убрать с меня можно, но только с помощью военных психиатров, так как гражданские сплотились плечом к плечу и стали против меня несокрушимой стеной, у них действует преступная круговая порука…»
И в июле того же года, всего через месяц, появляется Определение Марыйского городского суда, обязывающее Главного психиатра Марыйского облздравотдела снять В.И.Лашкина с психиатрического учета, о чем уведомить означенного гражданина в месячный срок, ибо в виду изменившейся в стране ситуации он теперь, выходит, не шизофреник…
Никаких уведомлений означенный гражданин не дождался и, не желая числиться шизиком, продолжал писать письма и жалобы, теперь уже не получая никакого ответа. Наконец, он решил обратиться в Комитет по вопросам гласности, прав и обращений граждан при новом Верховном Совете СССР. Обращение заканчивалось предупреждением о том, что в случае неисполнения Определения Марыйского городского суда он вместе с семьей будет вынужден обратиться в Посольство Соединенных Штатов Америки с просьбой политического убежища.
В первый раз он послал Обращение в феврале 1990 года. И не получил никакого ответа. Ксерокопию послал еще раз в марте, а потом и еще раз в апреле – с припиской, что ответа до сих пор нет.
Наконец, в начале мая появился первый проблеск победы: конверт с крошечной справкой о том, что «В.И.Лашкин в Марыйском облпсихдиспансере на учете не состоит». Это был первый проблеск победы, но это не было настоящей победой, ибо принципиально важен был факт снятия с учета. И все же монолитный клан доблестных советских психиатров не устоял: гигантскими усилиями диссидент Лашкин выдавил из них эту справку – как каплю крови (или гноя?).
И один в поле воин! Этот девиз Вадим Иванович с уверенностью произнес во время нашей встречи, а на мой вопрос, почему же он все-таки не обращался к иностранным корреспондентам или хотя бы к современным «неформалам», имеющим печатные издания, ответил:
– Да не хочу я лавировать. Я чувствую свою правоту, и мне важно в принципе доказать ее самому. И прямым, законным путем.
Ну не хочет гнуться человек, что ты сделаешь! Представляете, как должны ненавидеть его те, кто сам не может похвастаться тем же?
Но тесен мир. И нет такого тайного, какое не стало бы явным…
Под конец рассказа о Вадиме Ивановиче Лашкине, приведу выдержки из любопытнейшего документа. Это – Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Туркменской ССР в составе председательствующего Кукушкина В.Ф. и членов – Чудиновских Е.Г. и Розенштейн Г.В. – от 29 октября 1974 года. Это были времена событий, описанных в повести «Высшая мера». И – внимание! внимание! – все три члена Судебной коллегии были, волей судеб, участниками Дела Клименкина. Только в «Пирамиде» я их имена заменил…
Итак, что же содержится в этом документе, рожденном в недрах надзорной инстанции, во власти которой было освободить Вадима Ивановича Лашкина, истинного героя своего времени, от ужаса сумасшедшего дома?
А вот что. Судебная коллегия:
«Рассмотрела… кассационную жалобу Лашкиной З.Е.(жены Вадима Ивановича – Ю.А.) на определение судебной коллегии Марыйского областного суда от 24 сентября 1974 года, которым… Лашкин В.И. … уроженец г.Мары, русский, семейный, не судим, образование высшее… направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу специального типа…
УСТАНОВИЛА: Лашкин в г.г.Мары и Куйбышеве систематически в устной и печатной форме распространял заведомо ложные измышления, порочащие советский строй. Он вел разговоры о ненужности профсоюзов, комсомола, соцсоревнования, что в СССР нет демократии, в газетах и по радио правду не печатают и не передают. Из рук Советов депутатов трудящихся вырвана власть, которую захватила партийная верхушка.
В процессе расследования уголовного дела, по которому Лашкин обвинялся…, он был подвергнут судебно-психиатрической экспертизе, которая признала его невменяемым, страдающим психическим заболеванием в форме шизофрении…
Обсудив доводы кассационной жалобы и проверив материалы дела в полном объеме, судебная коллегия считает, что определение судебной коллегии областного суда является правильным…
ОПРЕДЕЛИЛА: Определение… оставить без изменения, а жалобу его жены – без удовлетворения».
Ну, что скажете, граждане Страны Советов? Сколькие из нас, считая отчасти и самого Генерального секретаря КПСС, подлежат заключению в спецпсихбольницу с диагнозом «шизофрения» – с точки зрения и психиатров, и членов Верховного Суда ТССР? И только ли с их точки зрения… Впрочем, надо ли нас туда заключать? Не похожа ли вся страна наша на… Вот, вот. Поневоле запутаешься.
(Заметьте, кстати: хотя дело происходит в Туркмении, как когда-то история с Клименкиным, – однако туркмены тут не при чем! Все трое, подписавших Определение, – не туркмены! Так что и история с Лашкиным – точно так же, как история с Клименкиным, – подтверждает: у мерзости нет национальных корней. Манкурты – явление наднациональное!)
Но так ли уж виноваты туркменские судьи и психиатры? Могли ли они тогда поступить по-другому, если хотели оставаться на своих постах? Да, конечно, не могли. Верно, казалось бы… С точки зрения рассудка.
Но в те же годы и в той же самой стране, при тех же точно условиях жил и Вадим Иванович Лашкин. И не он один. Ау, манкурты!