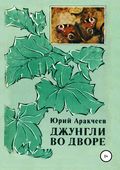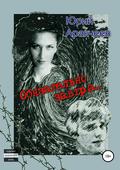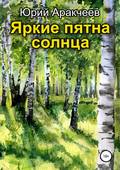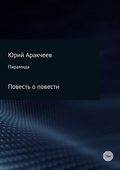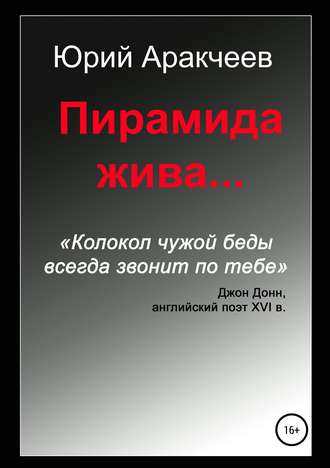
Юрий Сергеевич Аракчеев
Пирамида жива…
«Индекс популярности»
Перечисляя редкие отзывы на «Пирамиду», я забыл сказать, что в новогоднем номере «Литературной газеты» был опубликован социологический опрос читателей и писателей о наиболее заметных публикациях прошлого года. Двое из читателей назвали «Пирамиду» в очень лестном для меня контексте. Но ни в одном писательском отзыве она даже не промелькнула. Действительно было так или «Литературная газета» откорректировала?
И еще я забыл сказать, что когда вышла только первая половина повести, мне позвонили из одного уважаемого издательства и предложили издать «Пирамиду» отдельным изданием очень быстро, за несколько месяцев, так называемым «экспресс-методом», входящим в моду в самое последнее время.
Разумеется, возражений с моей стороны не последовало, я принес в редакцию 8-й номер журнала и верстку следующего, 9-го. Оказалось, что столь лестное для меня предложение – инициатива директора издательства, Валентина Федоровича Юркина, за что я и останусь ему благодарным, как говорится, «по гроб жизни». Тем более, что, как я теперь понимаю, чуть позже его инициатива вряд ли бы увенчалась успехом.
Но даже этот отрадный факт не мог вызвать во мне радостной эйфории на фоне последующего глухого молчания прессы. Интересно, что книга вышла-таки и даже большим тиражом, чем предполагалось сначала, – значит, «верхи» не были категорически настроены против меня! – однако и на ее выход доблестная наша пресса едва откликнулась двумя крошечными рецензиями, да и то отмечающими лишь ее чисто криминальную сторону.
В конце марта 88-го мне позвонила знакомая и радостно сообщила, что газета «Книжное обозрение» опубликовала «индекс популярности» журнальных публикаций последнего времени, и «Пирамида» там расположена, якобы, весьма высоко.
Да, действительно. Всего была 31 позиция. Последнюю, 31, занимали публикации В.Набокова. Первую – «Жизнь и судьба» В.Гроссмана. Если считать ныне живущих, то «Пирамида» стояла на четвертом месте – сразу после только что вышедшей пьесы М.Шатрова о Ленине и Сталине, знаменитых и многократно расхваленных критикой «Детей Арбата» Рыбакова и «Ста дней до приказа» Ю.Полякова, намного опередив другие «обоймные» вещи последнего времени. Интересно, что она стала единственной, пожалуй, вещью списка, которая не получила широкого резонанса в прессе. К тому же при опросе /а он проводился среди читателей и работников массовых библиотек/ наверняка не были учтены мнения одного из самых широких контингентов моих читателей – заключенных. А то бы, может быть, она и еще кого-то опередила…
(Много позже из «неофициальных источников» мне конфиденциально сообщили, что по «закрытым данным Госкомстата» моя «Пирамида» на самом деле занимала верхнюю строку – хотя за эту информацию я, естественно, не отвечаю).
Это, конечно, радовало. Однако я был достаточно трезв для того, чтобы понять: без поддержки прессы этот отрадный факт все равно имеет очень небольшое значение. А время идет.
Естественно, что даже опубликование «индекса популярности» ничего не изменило в моей судьбе. Как, разумеется, и в судьбе тех, кто писал мне кричащие письма.
«Повышение по службе»
Звонков, как уже говорил, было много, но один меня «гомерически» рассмешил.
– Послушай, – возбужденно говорил мой знакомый, писатель Артем Захарович Анфиногенов, бывший, между прочим, одним из секретарей Московской писательской организации. – Я сегодня выступал на Секретариате и сказал, что тебя несправедливо замалчивают – и с «Пирамидой» твоей, и с «Переполохом». И что секретариат должен обратить на это внимание. Знаешь, что мне ответил наш первый секретарь, Феликс Феодосьевич Кузнецов?
– Что же?
– Он сказал, что ты – полковник КГБ!
– Что-что? – не понял я. – Кузнецов сказал? Так и сказал? Не может быть…
– Да-да, Кузнецов. Именно так и сказал. Я ему говорю про тебя, а он: «О, – говорит, – это серьезный человек, он полковник КГБ!»
– Не может быть… А вы что ответили?
– Сказал, что, разумеется, это чепуха. Какой ты, к черту, полковник, если живешь черт знает в каких условиях и тебя не печатают…
Ну и ну. Вот что делает страх. Первый секретарь то ли прочитал в «Пирамиде» о моей встрече с лейтенантом по поводу Каспарова и со страху произвел меня… аж в полковники! То ли помнил мое письмо в ЦК (так и не отправленное ведь!) и этим дурацким слухом хотел мне отомстить. Ну, что ж, подумал я, спасибо, что не в младшие лейтенанты какие-нибудь… Уважает, значит, все-таки. Полковник – это звучит!
А ведь он, Феликс Феодосьевич Кузнецов, выступал когда-то с большими авансами в мой адрес на многолюдном «открытом» секретариате и дал возможность выступить мне… Я выступил тогда очень «остро», выступление прозвучало, и даже сам Евгений Александрович Евтушенко в перерыве подошел ко мне и предложил «выпить шампанского со старым поэтом»… Но потом, правда, Феликс Феодосьевич о моем существовании как бы забыл и даже не пригласил меня ни на одну из телепередач, которые регулярно вел – о молодых писателях Москвы. Долгое время я недоумевал: почему же это, а? А теперь думаю: может быть потому и не приглашал, что боялся? Все ж таки полковник! Мало ли что.
И смех, и грех…
Индия… Чехословакия? Дания? Польша? Рязань!
Вот еще забавная история о моих несостоявшихся «послепирамидных» заграничных вояжах.
Ездить за границу в последнее время стали очень много. Сталинского «железного занавеса» не стало, общественность была теперь вполне осведомлена о разнице жизни «у нас» и «у них», пудрить мозги о толпах нищих и постоянном удорожании жизни в странах капитала не решались теперь даже самые ретивые и услужливые журналисты-международники. Наоборот – в моду вошли бурные восторги. Так тем более посмотреть на человеческую жизнь хочется, и за каждую поездку «за бугор» коллеги и сослуживцы дрались отчаянно.
Почему я еще до выхода «Пирамиды» попал во Францию, мне – как уже сказано – неясно до сих пор. Но уж потом-то, казалось бы… Все-таки есть уже заграничный паспорт, да и вышла в одном из лучших модных журналов большая повесть, ставшая в народе такой популярной…
Еще перед моим отъездом во Францию – работа над повестью с редактором шла у нас полным ходом – я зашел к Главному редактору, и там же сидел Первый зам. Он, улыбаясь, сказал, что после выхода повести они смогут послать меня куда-нибудь в командировку, ну, например, в Индию – ведь этот год проходит под знаком советско-индийской дружбы… Я воспринял всерьез и радостно закивал: да, конечно, это было бы очень хорошо, я ведь знаком с культурой этой страны, очень уважаю ее людей, природу…
Теперь прошло больше четырех месяцев после публикации «Пирамиды», и стало совершенно ясно, что то были просто слова. Теперь даже на встречи с читателями не приглашали, какая уж там Индия…
Но было ведь еще приглашение по телефону в Чехословакию – от секретаря Российской писательской организации… Увы, не состоялась и эта поездка. Ибо, как мне сказали потом, поехать решил один из секретарей собственной высокородной персоной (не тот, который звонил, а другой, который первее). Ну, это тоже понятно: если изволит хотеть начальство, то простым смертным соваться просто даже и неприлично.
Отпала Чехословакия, но появилась на горизонте… Дания!
Позвонили из Правления Московской писательской организации:
– Поедете в Данию? Не возражаете?
Еще бы я возражал. На родину великого сказочника, Ганса-Христиана Андерсена!
– Вам позвонят…
Долго не звонили. Потом позвонили все же. Но не о Дании.
– Не поедете ли Вы, Юрий Сергеевич, в Польшу? Вы ведь сможете написать о том, как у них там на самом деле…
– Видите ли… – замялся я, – меня тут в Данию послать собираются. Как бы одно другому не помешало…
– Не помешает. В Польшу на одну только неделю. Съездите, а потом – в Данию. Согласны?
– Согласен…
– Вам позвоним.
Позвонили. Сказали, что Польша накрылась. Другой кто-то едет. Кто первее. Ну, что ж. Значит в одну только Данию. Только вот когда?
Но не звонили и не звонили мне насчет Дании. Тогда я решил сам узнать, а то сидел и не знал. Звонил то по одному телефону, то по другому, который мне любезно давали. Никто ничего не мог сказать насчет Дании. Но вообще-то я уже стал спокойным. Понял, кто я такой: рядовой член. А значит должен дома сидеть. Тем более, что проштрафился: «Пирамиду» протолкнул.
Но позвонили мне в конце года – 1988-го – все же еще раз:
– А не поедете ли Вы, Юрий Сергеевич, в Рязань?
Не знаю уж, почему, но тут я поверил: пошлют, еще как пошлют! Не обманут на этот раз, точно. Но тут уж я сам отказался. Родина Сергея Есенина, я понимаю, конечно. Однако совсем не так уж и давно я именно туда на велосипеде ездил. И хорошая, скажу вам, была поездка. Самостоятельная, главное, без начальников и секретарей. Зачем же, думаю, теперь повторяться, да еще «по официальной линии», с друзьями-соратниками?
Никаких приглашений после того не последовало. Так и не завязались мои международные связи.
Часть 4. Криминальные истории
Совмещение…
Пресса о «Пирамиде» молчала, официальных откликов не было, и хотя по инерции я все еще чего-то ждал, однако постепенно смирялся, понимал: все по-прежнему. Ничего не менялось в государственной структуре, не было расформировано ни одно министерство, ни один комитет, было создано даже новое гигантское ведомство – Агропром, – еще один мощный паразитический нарост на тощем многострадальном теле крестьянства. Многомиллионный класс «захребетников» блаженствовал, как ни в чем не бывало, лишайниковая грибная поросль пронизывала страну, а свет гласности и ветерок словесных обличений пока что ничего не изменил в нашей жизни. Наш замызганный, закопченный, увешанный потрепанными лозунгами «паровоз» все еще двигался на допотопной тяге, а главный наш машинист хотя и провозгласил себя «инициатором перестройки» и объявил неизбежным «переход к компьютеризации», все же никак не решался избрать другое транспортное средство и нанять других кочегаров. И на каждом из многократных и многословных выступлений своих повторял, что «мы верны раз навсегда сделанному выбору», верны маршруту и во всем будем следовать заветам того, кто этот маршрут проложил и паровоз построил.
И все же мы еще на что-то надеялись…
А меня тем временем поглощала стихия уже полученных и все еще приходящих писем. Чужая боль, чужие мысли, чужой жизненный опыт становились и моими. Это я в ином воплощении жил в далеком, затерянном на просторах страны городке, поселке, мучился от непонимания, грубости окружающих, от безуспешных попыток найти свое место в жестоком мире, освободиться от паутины предвзятостей, злых придирок, несправедливостей, которые все безнадежней сковывали, сдавливали так, что невозможно было дышать. Это на меня вдруг мистически сваливались тяжелые беды, и внезапно я оказывался в гуще непредсказуемых, странных событий – страдал от тупого, озлобленного следствия, неправедного, глухого суда, механического бездушия прокуратуры, а потом жестокости лагерных надзирателей, кошмарного тюремного быта… Это я мучился от беспомощности в психиатричке, подставляя себя под уколы, которые разрушали мое единственное многострадальное тело, превращали жизнь в постоянную муку, раздирали и так издерганное сознание. Из последних сил взывал я к милосердию тех, кто, казалось бы, по долгу службы обязан заботиться о моем здоровье, а не разрушать его по чьим-то безжалостным постановлениям, инструкциям, приказам. Но тщетно. Они не слышали. Они не воспринимали меня таким же, как они, человеком, ощущающим боль, мыслящим, чувствующим, каждую минуту могущим умереть. Кто они? Почему так поступают? Люди ли они вообще?… Да, это меня заставляли ходить «гусиным шагом» в полуприсядку или на коленях со скованными сзади руками, вешали «ласточкой», связывая за спиной руки с ногами, надували сжатым воздухом из шланга, накидывали на голову полиэтиленовый пакет и завязывали, не давая дышать, морили голодом, холодом, сыростью и били, били, били. Пришельцы непонятно откуда. Бесчувственные роботы, поставившие целью истребить жизнь на нашей планете. Серые карлики, созданные словно из неземной плоти… Но самым страшным были не физические страдания – хотя и они порой бывали непереносимыми. Самым страшным была бессмысленность их, необъяснимость жестокости тех, кто надо мной издевался. И ощущение безнадеги. Люди ли они? И что же это за мир вокруг, почему в нем торжествует не любовь, не понимание, не сочувствие, а – ненависть? Ведь каждый на самом деле жаждет сочувствия и добра!
И главное: почему мы это терпим?
Конечно, я понимал, что среди авторов писем были и такие, кто сам вел себя, мягко говоря, несправедливо по отношению к другим, а когда коснулось его самого, ощутил, как неприятна чужая несправедливость, если она против тебя. Нас не касается – нам хоть бы что. И только если коснется нас – мы страдаем…
Да, вот именно: если попытаться осмыслить трезво, встав над своими все-таки случайными обстоятельствами, то видно же, во-первых, что нет чрезвычайности, какой-то умышленной, особенной несправедливости по отношению только к тебе – у многих других не лучше, а то и похуже еще. Во-вторых, во всем ли ты справедлив к другим, таким же, как и ты, живым, чувствующим людям, не относится ли кто-то к тебе так же, как ты относишься к тем, кто тебя ненавидит и считает тебя бесчувственным и жестоким? И, наконец в-третьих, все ли ты сделал, чтобы вылезти из беды, все ли возможности исчерпал, увидел ли все многообразие путей выхода из лабиринта несчастий, которые на тебя свалились… Да, все это было мне видно особенно, ибо, читая письма, я, с одной стороны, примерял на себя груз несчастий каждого, а с другой – видел каждого как бы со стороны, в соотнесении и сравнении с другими. И убеждался, что прав во всех трех утверждениях. Главная наша беда – слепота. Непонимание. И полное отделение своих бед от других.
Вновь и вновь приходил я к мысли о том, что все-таки очень важно не ныть, не воздевать руки в бесконечном и бесплодном отчаяньи, а стараться понять. Чтобы действовать, чтобы выйти-таки из мрачного лабиринта – к свободе, к жизни. Выйти всем. А значит нужна, просто необходима правда.
«Прежде, чем глаза научатся видеть, они должны стать недоступны слезам». «Если ты потерял мужество – ты потерял все…» Вот два этих правила – одно оккультное, другое из древнеримской пословицы – поддерживали меня.
«Засветился» я, вылез на свет Божий со своей повестью – и вот теперь накинулись на меня страждущие, и стоял я на свету, на виду, и вот уже кости мои, кажется, от этой непосильной нагрузки трещали. Один человек, с которым я поделился, сказал:
– Оставь письма, не распечатывай, не читай, иначе погибнешь. Ты все равно ничего не можешь сделать, так не трави себе душу.
Но и другое я понимал. Это – счастье. За все приходится в жизни платить. И за прозрение тоже. Люди обращались ко мне, потому что поверили. Пусть я не в состоянии им помочь и даже просто ответить всем. Но хотя бы прочитать и уже тем самым как бы разделить чужую беду – от этого уходить нельзя. По мере чтения во мне накапливалась «отрицательная» энергия других людей, она не находила выхода, и выдержать это было тяжело. Но читать необходимо. Я даже регистрировал эти письма в толстой тетради. Кому-то отвечал «словами поддержки», кого-то – из тех, что звонили и приходили – направлял к адвокату Рихарду Францевичу Беднорцу, герою «Высшей меры», с его разрешения. Увы, всего этого было, конечно, мало. Не остановят лавину кидаемые на ее пути бревнышки. В стране ведь все оставалось по-прежнему. И сила по-прежнему была не у нас. Со страниц газет, журналов, с экранов телевизоров, из радиодинамиков обрушивалась мрачная информация, особенно о прошлом, стали слышны голоса не только живых, но и миллионов погибших – расстрелянных, задавленных, уморенных. Кое-что становилось известно и о теперешнем. И отвернуться, заткнуть уши, сделать вид, что все хорошо, было нельзя. Но и помочь трудно: реальных возможностей изменить жизнь у нас пока не появилось, Пирамида стояла по-прежнему. Та, главная пирамида. Скрытая. Замаскированная. Остроконечная.
Картина открывалась страшная, на этом черном, кровавом фоне «Дело Клименкина» казалось легкой шалостью местных туркменских властей. Становились известными кровавые происшествия теперешние, времен «перестройки и гласности», это представлялось немыслимым, в это не верилось. Но это было.
И что-то не слышали мы о процессах над следователями, которые применяли противозаконные методы теперь, да и судьи, выносившие несправедливые приговоры, спокойно сидели на своих местах.
Покаяния, увы, что-то не наблюдалось.
«В помощи не нуждаюсь, надеюсь только на себя…»
«…Во-первых, хочу сразу оговорить, что никаких целей своим письмом не преследую. Только общение, если это возможно. Во-вторых, хочу надеяться, что письмо будет прочитано прежде, чем попадет в корзину, если вы сочтете, что его место там. В-третьих, приношу извинения за свой почерк, безобразный.
Немного о себе. Руденко Станислав Юрьевич, 1953 года рождения, в настоящее время – б\п, холост, отбываю второй срок наказания на строгом режиме, до конца срока осталось шесть месяцев. Первая судимость за автопроисшествие, погиб человек, вторая – государственная кража. Оба срока по 4 года. За период с июля 1980 г. «блестящая карьера» от капитана Советской Армии до уголовника строгого режима. Был перерыв между судимостями в год. Таковы факты. Имея две судимости, виновным себя не считаю и не признаю ни по сути дел, ни по совести человеческой. Дело не во мне лично, в помощи не нуждаюсь, надеюсь только на себя и отвечаю прежде всего за себя.
Сейчас в печати много пишут критического материала о милиции, о прокуратуре, судах, а это все конкретные люди, их поступки, деяния и последствия. А «последствия» сейчас сидят в зонах и проклинают их. К сожалению, все это подается как нетипичные факты нашего общества. Мое мнение другое, они не только типичны, они преобразовались в «железную» систему.
Хочу, чтобы не было недомолвок. Я человек жесткий, со своими убеждениями, недостатками и достоинствами. Но я воспитан и рожден на нашей земле. Первая судимость подрубила меня под корень, почти полтора года я находился в сонном, заторможенном состоянии. Но в конце концов проснулся, понял, что жизнь продолжается, надо жить, начинать все с нуля. Только справедливости не нашел. Вторую судимость воспринял уже спокойно. Имея кой-какой опыт за плечами. За эти три с половиной года не имею нарушений, взысканий, одни поощрения и благодарности. Правду и справедливость не ищу. «Образцовый осужденный, вставший на путь исправления». Это все на поверхности, а в душу мне кто-нибудь пробовал заглянуть? Пускай и не пытаются, чревато осложнениями. Цель пока единственная – сохранить здоровье до свободы. Цинично, вы подумаете, Юрий Сергеевич? Зато честно. Кто этого не понимает, тот безумен. Железобетонную стену головой не прошибешь. В лучшем случае останешься без головы, в худшем – останешься инвалидом на всю оставшуюся жизнь.
Эти четыре года проходят. Осудили в Прибалтике, отбыл два года, потом было переселение на север, в Коми. За это время многое довелось увидеть, десяток тюрем, пересылок, сотни людей, сотни судеб. К сожалению, я не обладаю писательским даром, что не дано, то не дано. За эти четыре года через мои руки прошли сотни приговоров различных людей, различных судов, обвинительные заключения. И сами люди! По ту и эту сторону забора, порядки, режим, питание, идеологическая работа, медицинское обслуживание и многое другое. Все это надо, к сожалению, прочувствовать было своей шкурой. Так что опыт, как видите, очень большой. Исходя из этого опыта, делаешь свои выводы.
Во-первых, органы милиции. Ведут поиск преступника, задержание, первичное следствие. По времени ограничены различными инструкциями, циркулярами, положениями. Людей сразу ставят в зависимость от бумаг и времени. Отсюда большой процент нераскрытых преступлений… Поэтому при аресте любого подозреваемого всеми дозволенными и недозволенными способами пытаются заставить хоть что-то признать, даже чужое, чтобы списать на него и повысить процент. Многие ломаются, не выдерживают, берут в расчете на какие-то «будущие льготы», которые никогда не получат. Самое настоящее беззаконие начинается прежде всего с них, работников милиции…
Далее дело поступает в руки работников прокуратуры для дальнейшего расследования. Правда, следователь прокуратуры «контролирует» и первичное расследование, по крайней мере числится. Все его допросы и беседы с подозреваемым строятся на материалах первичного расследования, т.е. «добровольных» признаниях подследственного, который если еще и взят под стражу, то вообще красота, делай с ним что душе угодно. Если и попробуешь изменить свои показания, то это уже не поможет, этого никто не заметит, «чистосердечные добровольные» признания будут видеть все, перемены – нет. Если обнаружатся какие-то огрехи работников милиции, то следователь прокуратуры их подчистит, доработает и дело готово для суда…
И вот суд. Судья свое мнение вырабатывает на основании документов следствия, характеристик. У заседателей редко складывается свое мнение, обычно смотрят в рот судье, ведь у этого человека юридические знания, он профессионал… Теперь УК СССР! Большинство статей дают такую «прекрасную» возможность, как разрыв между минимумом и максимумом, зыбкость разграничения между статьями, частями этих статей. Вообще возможности неограниченны, можно дать и три и восемь лет, сменить статью или часть, вот уже пожалуйста и пять и пятнадцать, а то и… Когда приговор принят, практически его изменить трудно, теоретически можно (в мечтах). Изменения приговоров, смягчение – единичные случаи.
И последний этап – исправление, перевоспитание осужденных. Человек, который не испытал этого, может и не поверить. И будет прав. Если бы мне рассказали, что в наши дни, в нашей стране люди умирают от дистрофии, я бы не поверил. О зонах вспомнят, вспомнят очень скоро! Если СПИД на самом деле чума ХХ века, то здесь, в зонах, этот пожар скоро вспыхнет так, что потушить его будет очень непросто.
Юстиция, юстиция! Куда не посмотришь, везде главная причина – люди! Честные люди! Где они? Неужели мы сами породили и воспитали этих чудовищ, с которыми сейчас и боремся, пытаемся бороться? Откуда это в нас? Иногда даже страшно думать, заберешься в такие дебри, из которых назад хода не будет.
…А свой крест нести мне до конца. Оставшийся срок меня уже не волнует, здесь все ясно и понятно. Вот проблема освобождения – это да! Это вопросы и вопросы… Поживем – увидим.
Повесть вызовет большой резонанс. В зоне много говорят о ней. Вы получите множество писем от нашего «брата», с просьбой помочь, протолкнуть, пересмотреть. Еще глубже окунетесь в эту атмосферу вседозволенности и несправедливости. Единственным помощником в этом будет ваша совесть. Вы прожили трудную и интересную пору своей жизни и не мне что-то советовать вам. А за повесть вашу большое спасибо…
Одна просьба все-таки имеется. Это письмо я отправляю нелегально, через верных и надежных людей, у нас говорят «через дырку». Из Коми оно уйдет обязательно, мне не хотелось бы, чтобы оно, письмо, вернулось вдруг назад к моей администрации. Лучше выбросите, если чем-то письмо неприятно. Мой адрес…
Ну, вот и все. С искренним уважением».
(Письмо № 66).