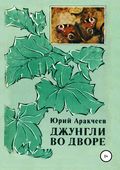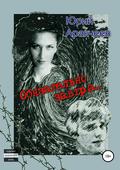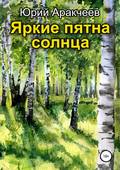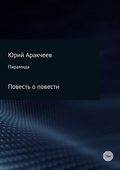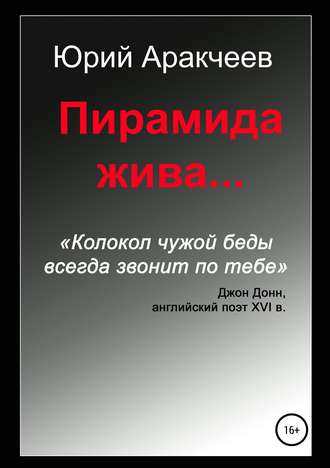
Юрий Сергеевич Аракчеев
Пирамида жива…
Ожидание. 1986-1987
Итак, я принес рукопись «Пирамиды» в журнал, и ее взял для прочтения сам завотделом.
– Сколько времени вы мне даете для чтения? – спросил он.
Такой вопрос был, конечно, знаком симпатии и расположения, к тому же и я, и, очевидно, он, помнили, что на чаепитии в редакции одним из писателей были сказаны весьма лестные слова в адрес новой редакции журнала: «Мы все помним, как подолгу мариновали наши рукописи раньше, а в этом журнале мой роман прочитали за шесть дней, и главный редактор сам позвонил мне, сказав, что роман будет опубликован в ближайших номерах». Это было чрезвычайно важно – ведь в те времена рукописи в редакциях читали месяцами, годами, планы составляли чуть ли не на годы вперед! Только «своих» печатали более-менее быстро.
И я, выступая, пожелал новой редакции прежде всего именно этого – скорости решения, ибо ничто, даже решительный отказ, не вредит нам так, как изнурительная волокита.
На вопрос завотделом теперь я отвечал тактично – «столько, сколько понадобится, но побыстрее…» – и он обещал дать ответ дней через десять и уж во всяком случае в двадцатых числах января. А был конец декабря. Не «шесть дней», увы, но что поделаешь – новогодние праздники все-таки. И страниц много. Предстояли мучительные дни ожидания.
Когда в стране действительно как будто бы началась перестройка, когда задули эти самые «ветры перемен» и ползущее время вдруг понеслось вскачь, когда повесть твоя – в муках выношенное дитя, ожидавшее появления на свет вот уже десять мрачных застойных лет – вот-вот может выйти на свет Божий – в люди! – проскочить в щелку, успеть… – то ожидание становится невыносимым. Ведь если не проскочит она, если вернется все «на круги своя» в несчастной нашей стране с «самым прогрессивным общественным строем», то повесть может не выйти при моей жизни уже никогда. К тому же она ведь теперь гораздо более значительная, чем только «Высшая мера», «горячая», и нужна людям именно сейчас. Ведь никогда не забыть мне историю с «Высшей мерой» и с повестью «Переполох», рукопись которой одобрил в журнале «Новый мир» сам А.Т.Твардовский, но она так и не вышла потому, что литсотрудница редакции «читала» ее почти полтора года, а когда ее, наконец, набрали, начались чехословацкие события, и цензура ожесточилась…
Разумеется, я не мог заняться ничем. Моя дальнейшая жизнь зависела от решения заведующего отделом.
А он не звонил, хотя прошло уже несколько раз по «шесть дней».
И вот, наконец, звонок 24-го января – ровно через месяц.
– Еще не прочитал. Извиняюсь перед вами. Завтра уезжаю в Дом творчества до 7-го февраля. Но первая вещь для прочтения после того, как вернусь, будет ваша. Я обязал редактора отдела прочитать рукопись за это время. Рукопись у нее.
«После того, как вернусь…» В тоске я даже сочинил письмо на имя главного редактора, где выразил недоумение столь долгой оттяжкой – ведь тогда, на чаепитии он обещал быстрый ответ… Но, слава Богу, письмо не отправил.
«…Это надо было догадаться ВЫСТУПИТЬ, как теперь говорят. И где? На Курской, на кольцевой станции метро, где бывает столько «оценивающих» нас гостей. На станции МЕТРО, которое служит основной артерией для перемещения ТРУДЯЩИХСЯ. При пересадке на Курской приходится попадать в два узких прохода, рассчитанных на довоенную численность населения Москвы. Проходы эти прямо-таки символические. В одном люди движутся НА РАБОТУ, а в другом – С РАБОТЫ. Вы этому движению пытались помешать.
Чем? Ну, а если бы вы, скажем, бросили спичку, предварительно полив бензином и посыпав порошочком, ведь были такие диверсии еще совсем недавно? Вы скажете, что от такой логики можно схватиться за голову. Правильно, ЭТА система построена на абсурде, но в данном случае определенная связь была. Между Вами и возможным диверсантом в метро. Неужели Вы так и не поняли, что объединяло в глазах дежурной Ваши патриотические порывы со злокозненными намерениями поджигателя?
АКТИВНОСТЬ. Вы осмелились вырваться из ПОКОРНОГО до этих пор потока. Вы выскочили из хорошо до этого отлаженного механизма и перестали быть ВИНТИКОМ, создавая тем самым угрозу работе ВСЕГО механизма. Один НЕ ДОЛЖЕН мешать ЦЕЛОМУ. Если один элемент ВЫХОДИТ из ОБЩЕГО строя, система избавляется от него. Она его изолирует. Системе нужны лишь элементы, функционирующие в ЗАДАННОМ режиме, она не может допустить существования в себе элемента, способного ОЦЕНИВАТЬ ее. Это привилегия мета-уровня, к которому Вы явно не принадлежали, а потому подлежали изоляции. Ваша АКТИВНОСТЬ могла привести к тяжким для данной социальной политики последствиям, потому, что в основе ее лежало НЕСОГЛАСИЕ с тем, что ЕСТЬ, независимо от степени разумности и целесообразности данной части общественного устройства. Вот на что Вы посягнули. Дай Вам власть табличку перевесить, так завтра Вы пойдете на баррикады! Этого допускать нельзя!»
(Продолжение анонимного письма женщины).
Рецензия. 1987
Ожидание было пыткой. Да, конечно, я понимаю, что у всех свои дела, рукописей у завотделом много… Но ведь это особый случай. В который уж раз я с горечью думал: самое страшное в нашем существовании то, что мы друг у друга воруем время. Самое дорогое, самое ценное, что есть у человека – время ЖИЗНИ. Мы постоянно от чего-то и от кого-то зависим, мы никогда не принадлежим себе. Очередь – вот символ нашей системы. Очередь за продуктами, за предметами первой необходимости. Очередь на квартиру. Очередь за справками всякого рода. Очередь на рассмотрение изобретений. Очередь на прочтение рукописи. Очередь на прием к вышестоящему лицу (нас много, а он – один…). Очередь за гробом – говорят, и это сейчас дефицит, да еще какой. Очередь в крематорий…
Теперь у нас была гласность – можно выступать даже на митингах, в подземных уличных переходах продают газеты, где напечатано такое, за что раньше просто расстреляли бы. Однако в жизни нашей не изменилось ничего. Пока так и не поняли: Система сильна именно этим – убиением времени. Лишая радости настоящего, она превращает жизнь в постоянное ожидание будущего (раньше «светлого», а теперь «демократического»), но вместо него наступает смерть.
Как-то я все же просуществовал эти дни. Тем более, что действительно за неделю все-таки прочитала редактор. Как я и ожидал, она была захвачена идеей и остротой, и хотя в своем письменном отзыве подвергла критике «длинноты», «повторы» и «увлечение личной линией», но в целом одобрила повесть. И все же ее замечания были для меня первым, хотя и ожидаемым, но прохладным душем.
Любопытная была рецензия. Сначала – комплименты автору, полное, как будто бы, понимание и одобрение. Замыслу, «материалу». Потом отдельные замечания, тоже верные: конкретное указание слабых мест, некоторых длиннот, повторов. Возможно, возможно… Особого возражения с моей стороны это не вызвало. Но потом, постепенно… Одно замечание вызвало у меня вдруг резкий внутренний протест, потом другое… Вот уже целую главку предлагается выкинуть, она квалифицируется как «кустарная». А главка-то принципиальная, очень важная, я ею гордился. Ибо она – нетрадиционная и подвергает сомнению одну из основ нашей пирамидальной системы. В чем, собственно, и суть повести.
Она, эта главка, называлась «Классы» – именно так, в кавычках, – и речь в ней шла не о марксовых классах «по имущественно-производственному принципу», а о разделении людей на духовных и бездуховных, нравственных и безнравственных, совестливых и бессовестных – тех, кто признает единство сущего и себя как часть этого гармоничного единства, и тех, кто наоборот, себя любименького ставит во главу угла. То есть я убежден, что разделение это основывается на извечном противопоставлении Добра и Зла, Бога и Дьявола, Христа и Антихриста, а вовсе не на «социальном» положении, ибо не только богатый, но и бедный может быть как подлецом, так и порядочным человеком. Марксово разделение поверхностно, примитивно. Уже в самом начале его «Манифеста» есть серьезнейшая ошибка: «цехового мастера и подмастерье» он считает «классовыми врагами» – такими же, как «патриций и плебей», «барон и крепостной». Но ведь мастер и подмастерье – это учитель и ученик, они вовсе не заклятые враги от рождения, наоборот: один помогает другому преодолеть свое неумение, невежество. Ученик, если он действительно учится, станет мастером, в отличие от плебея по рождению, который никогда не станет патрицием… Эта ошибка – серьезнейшая, она нарушает логику рассуждений Маркса и дальше. К чему привело его вульгарно материалистическое разделение на «классы» и учение о «классовой борьбе», мы уже хорошо знаем, испытываем на себе. Как же выкинуть эту главку? И что значит «кустарная»? Нетрадиционная, непривычная – да. Без «высоконаучных» слов, верно. Но ведь явно же очень важная для повести даже в том случае, если читатель с ней не согласен. И вдруг – выкинуть? И что удивительно – у редактора никаких сомнений…
А вот уже и упреки в чрезмерном увлечении «личной линией», «автор во власти обиды»… Описывать несправедливости, которые происходят с другими – это, по мнению рецензента, гражданственно. А если ты честно описываешь то, что происходит с тобой, – обида. Но почему? Если происходящее с тобой мелко и несущественно, а ты возводишь это в ранг народного горя – тут все понятно. Но если проблемы твои на самом деле серьезны, типичны, касаются всех, выражают общее, и ты честно пишешь о своем отношении к этому – какая же тут «власть обиды»? Герой, от лица которого ведется повествование не человек, что ли? Ведь это явное лицемерие – сетовать над чужими горестями, «гордо» скрывая свои. В жизни-то происходит, как правило, ровно наоборот…
Прочитав рецензию, я испытывал острое раздражение. И сначала никак не мог понять почему. Ведь в целом она – положительная! Есть даже лестные для меня комплименты, повесть названа «интересной», «талантливой», «нужной». Что же касается поправок и доработок, даже сокращений, так они в сущности не такие уж и большие. Однако…
Да, в том-то и дело, что… Все четче я ощущал: замысел, хотя всячески одобряется, но он до конца не понят. Да, да, не понят! А рецензент, тем не менее, ни минуты не сомневается. Впечатление такое, что она считает, как будто бы, что ею замысел понят даже больше, чем самим автором! И именно исходя из этой «презумпции» своей правоты она решительно предлагает свою «доработку». Не сомневаясь ни в чем! Уже тут у меня закралось подозрение, что речь в повести, по ее мнению, идет исключительно о судебном процессе (вернее – о четырех судебных процессах), о конкретном судебном деле, не более того. И понятие «Пирамиды», мне кажется, отнесено ею исключительно к судебной нашей системе и только…
Да, это-то и раздражало. Ее уверенность. Не понимая, не сомневаться… («Большевики не обязаны считаться с фактами – факты обязаны считаться с большевиками!» – вспомнилось даже). И это при том, что редактор в принципе была хорошей, умной женщиной и ненавидела ложь не только нашей судебной системы…
Грустный парадокс заключался в том еще, что именно об этом я как раз и писал в своей повести. Но она – рецензент-редактор – даже и предположить не могла, что это может относиться и на ее счет…
Ну, ладно. Еще не вечер. Главное – мнение о повести положительное. К тому же будут ведь читать и другие – заведующий отделом, члены редколлегии, главный редактор… А первый заместитель главного – человек, который когда-то работал в «Новом мире» под руководством самого Александра Трифоновича Твардовского. Он был членом редколлегии и присутствовал на обсуждении моей повести «Переполох», которую Твардовский хвалил и даже сравнил меня аж с Салтыковым-Щедриным… Повесть тогда в журнале не вышла – ее дважды ставили в номер (19 лет назад), но ее снимала цензура ЦК. Теперь таковая отсутствует. Думаю, уж этот-то человек будет моим сторонником определенно…
В середине февраля мне, наконец, из редакции позвонили. Звонила редактор. Назовем ее Эммой. Она сказала, что завотделом, наконец, прочитал, вещь ему, кажется, понравилась, но прежде, чем давать читать дальше, то есть «выше», он хочет со мной поговорить. И чтобы я сам ему позвонил.
И опять что-то неприятно тревожило меня, странно мучило. Завотделом, что, сам не мог мне позвонить, что ли?
Я позвонил. Зав ни слова не сказал о моей вещи, голос его был скорее суровый, чем благосклонный. И он просто назначил встречу. На завтра.
– Мне понравилось в принципе, – сдержанно сказал завотделом, когда я вошел к нему в кабинет на следующий день. – Но у меня есть ряд замечаний. Если вы их примете, я даю читать дальше.
Дальше – это значит двум замам, а потом и главному редактору, по субординации. Если приму…
Мелких замечаний у заведующего было много, несколько десятков, – но они, к счастью, не показались мне существенными, и в принципе я их принял. Он сказал, что раз так, то сегодня же передаст рукопись второму заму. С горечью вспоминал я слова писателя на чаепитии, о том, как ему «через шесть дней» позвонил сам Главный…
Опять настроился я на ожидание, но на этот раз оно было недолгим. Всего через несколько дней, в воскресенье вечером, прямо домой, минуя субординацию, мне позвонил второй зам – вот это событие! Он сказал, что повесть его «зацепила», она ему «очень понравилась», но у него есть «серьезное пожелание». Если я приму его, то он постарается, чтобы повесть была опубликована так скоро, как я даже не предполагаю. Пожелание заключалось в том, чтобы «сократить личную часть» повести и тем самым «уравновесить» ее с «криминальной». Так я и знал…
Но все же говорил второй зам так доброжелательно, в таком искреннем порыве, что я в принципе согласился. Там посмотрим еще…
Вот этот единственный звонок – в «неофициальное», нерабочее время, домой, не через редактора или секретаря, а напрямую, в искреннем эмоциональном порыве – и стал единственным всплеском нормальной жизни на всем пути повести от рукописи к журнальному тексту…
А дальше было вот что.
Второй зам, очевидно, выполнил свое обещание, в понедельник рукопись была уже у Первого зама, он прочитал ее ЗА ОДИН ДЕНЬ, передал Главному, тот прочитал тоже мгновенно, и мне – через редактора – была назначена аудиенция на среду.
«…Там, в метро, Вы были наиболее близки к истине, можно сказать, судьба послала Вам такую возможность сразу в двух лицах: в лице тупой тетки и серого человечишки. В первом лице у Вас имелась возможность на своей, простите, шкуре, испытать прелести нашей системы, а во втором Вас сострадательно предупреждали, что Вы еще имеете шанс ИЗБЕЖАТЬ и не быть втянутым в эту воронку.
…Тетку, как обезьяну на банан, натаскали и научили нажимать на кнопки, но не настолько она была тупа, как Вам показалось. Совсем темных и неграмотных теперь в метро вряд ли берут. Она вполне внятно могла бы объяснить свои угрозы в Ваш адрес, более связно и осмысленно, чем Вы надеетесь. Вам бы она, конечно, давать никаких разъяснений не стала, она просто выполняла ПРИКАЗ. В рамках своих должностных обязанностей.
Знаете, что с Вами было бы дальше, прояви Вы настойчивость и не имей Вы при себе удостоверения члена Союза Писателей, дающее реальное право на проявление активности? Милиция была бы для Вас только предбанником. Потом Вас отправили бы в ДРУГОЕ место, по территориальному разделению скорее всего в «трешку». Вас возмутила глупость тетки, угрожавшей Вам милицией, потому что в Вашем представлении милиция ассоциируется с допросом, дознанием, заключением в КПЗ, противоправным деянием, что все вместе предполагает наличие ВИНЫ перед законом, которой у Вас не было. Весь фокус заключается в том, что новая репрессивная система не основывается на привычном как для развитого человека, так и для обывателя понятии ВИНЫ, что сильно облегчает ее существование и бесперебойное функционирование.
Потом бы Вас выпустили, намного скорее, чем преступника по статье, но на этом бы все не кончилось, а только началось. Свободы Вы не видели бы периодически, но при этом ВИНОВНЫ не были бы. Ни в суд, ни в прокуратуру Вы подать не смогли бы. Через несколько лет Вы смогли бы ПОЗНАТЬ смысл желания спрятаться под кровать.
Судьба оказалась к Вам милостива – в воронку Вас не затянуло, и не желаю я Вам через все это пройти, но понять такого, как Каспаров, Вы не сможете. К сожалению, я хорошо знаю это ощущение загнанности и знаю, что именно оно отвращает окружающих от помощи загнанному. Каспаров по нашей системе не прошел, но смыл высказывания «Они способны на все» для него иной, чем для Вас. Я этот смысл тоже знаю. Он ужасен».
(Продолжение анонимного письма женщины).
Редколлегия
Таким образом, ни «шесть дней», ни личный звонок Главного мне не светили. Хотя тогда я, естественно, не зацикливался на этой, казалось бы, мелочи, однако машинально отметил. Уж очень эта «мелочь» была показательна и типична. Ведь из русской литературы мы хорошо знаем, как истинные писатели – и настоящие издатели литературы – всегда плевали на «субординацию». И в этом был принцип: чем бюрократичней государство, чем оно более жестоко, тем важнее людям проявлять свою солидарность в том деле, которому они служат. Тут вопрос об отношении к жизни, к системе ценностей, тут вопрос о чувстве свободы. Нарушение субординации во имя дела – плевок в рожу самодержавию и рабству. Увы, со стороны советского «редакционно-издательского аппарата» я такими благородными плевками никогда избалован не был. Только разве что на «редколлегии» с самим Александром Трифоновичем Твардовским… А вот редакционно-издательский «аппарат», и его люди всегда четко старались показать мне, кто есть кто и ОТ КОГО все на самом деле зависит…
И все же здесь я ожидал такого же – нормального – отношения. Тут ведь «прогрессивный» журнал и время началось, как будто бы, «перестроечное»! И потом не зря же собирался весь синклит: Главный, оба зама, ответственный секретарь, завотделом и просто редактор. А главное же – Первый зам! Пусть было это девятнадцать лет назад, но он же слышал лестные для меня слова Твардовского! Насколько я знаю, он ведь тоже тогда высоко оценил мою повесть, во всяком случае был за ее публикацию. Так что…
Все собрались, кроме него, Первого зама – он опоздал на несколько минут. Разговора не начинали – ждали его. Наконец, он вошел, хромая, постукивая палкой, солидно и строго глядя на всех. По тому, как смотрели на него, когда он тяжело усаживался в мягкое кресло, чувствовалось, что здесь его весьма уважают. Слава богу, что он пришел. Теперь, думаю, все будет в порядке.
Первое слово дали редактору. Эмма коротко и сдержанно сказала, что уже выразила свое отношение к повести в официальном письменном «предложении», которое все, очевидно, читали. Повесть кажется ей интересной, оригинально задуманной, «в целом получившейся», но требующей «некоторого сокращения и доработки».
Завотделом согласился с редактором и добавил, что он «тоже сделал ряд конкретных замечаний, с которыми автор в принципе согласился». Пожалуй, он единственный допустил некоторую эмоциональность, сказав, что «повесть, если она будет напечатана в журнале, станет заметным явлением в нашей литературе».
Затем очень коротко и сухо высказался второй зам в том плане, что у него тоже «есть существенное замечание, которое автор принял», сделать эту доработку можно быстро и потому он как раз и рекомендует начать печатать ее «уже в пятом номере».
Тут охнула редактор, заявив, что в пятый – это значит сдавать в набор уже через десять дней, что «нереально», ибо требуется «ювелирная работа», и она просто не берется, это невозможно.
Но все три этих выступления были как-то поспешны, неуверенны, чуть ли не скороговоркой, почти формальны, с явной оглядкой на основное начальство, мнения которого, очевидно, не знали. Тут я почувствовал, что все ждут мнения не столько Главного, сколько Первого зама. Благородная тень Твардовского, очевидно, все еще витала над ним в глазах присутствующих. До сих пор он ни одной репликой не выдал своего отношения к разговору. Но подошла и его очередь.
Он пошевелился в своем кресле, нахмурился, потрогал палку и, наконец, заговорил. Он сказал, что целый день, с утра до вечера, отключив телефон, занимался исключительно моей повестью. И что высказывания предыдущих товарищей «слишком мягки». Нужно «совершенно безжалостно сократить «личную линию», оставив только то, что относится к «кровавому делу парня», которого незаслуженно приговорили к смертной казни».
– Личные ваши проблемы никого не интересуют! – резко сказал он, обращаясь ко мне. – Дело парня действительно кровавое, а ваши интеллигентские переживания не стоят выеденного яйца.
Я, честно говоря, обалдел. Чуть не ущипнул себя – я что, сплю? Совершенно не ожидал такого поворота, такого явно враждебного тона и растерялся. Выслушав троих предыдущих я уже ликовал внутренне (Речь пошла даже о пятом номере! А был конец февраля… Вот это да! Конечно, огорчила редактор Эмма, но что ж тут поделаешь…). Естественно, думал, что самое глубокое понимание как раз продемонстрирует Первый зам. Ведь речь, конечно же, идет не столько о судьбе Клименкина, сколько об атмосфере в стране, о государственном нашем устройстве, о пирамиде власти, которая… А, следовательно, «личная линия» как раз наоборот очень важна, она на самом деле и есть главное! И вдруг… И этот раздраженный суровый тон…
Как-то сумбурно я попытался ему возразить в том плане, что, мол, такого рода «интеллигентские переживания» вовсе не личные, ибо вызваны общим и касаются общего – демонстрируют АТМОСФЕРУ, невозможность противостоять тому, что проявилось в «Деле Клименкина». Повесть не опубликовали – какие уж тут «интеллигентские»! Каспарова засадили на восемь лет из-за этого – это «интеллигентские»? Все, что связано с этим – почище, чем несправедливый приговор дважды судимому парню, – почему и получилось так, что Клименкин-то на свободе, а вот Семенов (свидетель) покончил с собой от страха, Каспарова посадили, и если бы не пресловутый звонок… А то, что я не мог «пробить» повесть, которую столько людей ждало – это, что, тоже «интеллигентские»? Да ведь и со мной тоже могло произойти что угодно – я уже не говорю о том, что полгода работал непонятно ради чего… Дело в АТМОСФЕРЕ! На месте Клименкина мог оказаться любой другой, в каком-то смысле и автор оказался в том же положении вместе со своей повестью – в этом же и есть суть Пирамиды!
С ужасом я вдруг ощутил: меня не слушают! Более того, по мере того, как я говорил, росло явное неприятие по отношению ко мне, я это чувствовал остро. Ничто из моих доводов не воспринималось! Завотделом и второй зам, по-моему, даже слегка обиделись: ведь я же согласился уже с их предложениями, так чего же теперь? Меня не перебивали, но лица выражали неодобрение, а Первый зам хмурился все больше. Главный тоже хранил молчание.
Я замолчал.
– Должно остаться только то, что непосредственно относится к «Делу Клименкина», – твердо повторил Первый зам и сурово посмотрел на меня.
И добавил, что утверждения второго зама, будто вторая часть – история повести о Деле – должна быть примерно равна первой – истории с самим Клименкиным, неверно. Ибо вещи эти «несоизмеримы». Вторая часть должна быть, конечно, меньше. Сократить рукопись необходимо, по его мнению, примерно вдвое. За счет второй половины.
Первый зам говорил, хмурясь, рассерженно, глаза его были жестки и холодны, и эта рассерженность, жесткость, холодность были направлены в мой адрес. Я недоумевал.
– А письма из второй части нужны? – осторожно и робко спросила редактор.
– Да, письма матери, самого Клименкина, невесты – нужны. Конечно. И то, что относится к Каспарову. Остальное – безжалостно сократить. Автор слишком занят собой.
И Первый зам опять холодно посмотрел на меня.
Вот так номер. Все больше росло ощущение, что меня здесь как будто и нет. Они решали, что делать с моей повестью, как ее «исправить», а мое мнение им было просто не нужно. Оно раздражало. Они его элементарно не принимали в расчет.
– Да, там, конечно, слишком много личного, – осторожно сказал кто-то. – Даже характеристики персонажей. Хорошо относятся к «Делу Клименкина» и к повести о нем – значит, хорошие люди. Плохо – значит, плохие.
– Вот именно! – торжествующе подтвердил Первый зам.
– Но ведь это же естественно, – успел вставить я. – Дело-то здесь как пробный камень, я ж этого не скрываю. Естественно, что и повесть о деле тоже как индикатор. Повесть от первого лица. Читатель имеет право и меня судить, автора. Я ведь тоже одно из действующих лиц, можете соглашаться со мной, можете не соглашаться. Вы говорите так, будто я сделал что-то плохое. Что? И потом я же не присваиваю себе истину в последней инстанции, я просто рассказываю, как было, и высказываю свое мнение обо всем честно. Что же тут противоречащего? Дело в том, что и повесть мою как бы приговорили к смертной казни без достаточных на то оснований. Никто ведь не возражал, что в ней – правда. Почему же не напечатали?
– Все равно слишком много о себе, – жестко перебил Первый зам. – Что у вас за такие особенные переживания? Подумаешь, не печатали! Вон, например, Василь Быков – Герой Соцтруда, а ждал публикации своего романа десять лет!
– Ну и что? – возразил я. – Я же не пытаюсь соревноваться в сроках. Хотя у меня роман двадцать лет лежит, и никто его пока печатать не собирается. Но ведь кто-то должен же написать об этом, попытаться понять, почему! Вот я и пытаюсь. На своем примере. На том, что я лучше других знаю. Разве я хвастаюсь безобразием этим?
Что-то я попытался еще сказать о том, что русской литературе всегда была особенно присуща «личная линия», что какой же смысл в показе «кровавых дел», если они не воспринимаются тобой лично, не проецируются на твою судьбу. Страшнее телесной как раз духовная гибель, которая неминуемо влечет за собой и телесную, а не наоборот. Об этом же и повесть – о личном восприятии боли общественной! И если она от первого лица, то это же вовсе не значит, что я говорю только о себе, жалуюсь… Я честно рассказываю, как было, только и всего.
Конечно, я не мог выразить все это четко и ясно сразу, тем более, что меня просто никто не слушал. Они терпели, пока я закончу, пережидали.
Это было поразительно. И чудовищно. Мы же – единомышленники! Им, насколько можно было понять, понравилась повесть – не зря же вот собрались. Самый «прогрессивный» журнал! Если не здесь, то где же?
Наступило молчание. Все высказались как будто бы – кроме Главного редактора, правда, – а к согласию явно не пришли. Грустное было у меня состояние. Они прочитали повесть – в которой как раз говорится об этом самом: о невнимании, жесткости, неуважении, бесчеловечности, о НАСИЛИИ, – а вот не понимали меня, не слушали. Чудовищно. Как в Литинституте когда-то. Как во многих обычных советских редакциях. Но ведь прошло столько времени! И «перестройка» же… Самый прогрессивный журнал…
Тут заговорил Главный редактор.
– Понимаете, – сказал он, – для писателя чужое горе всегда острее, чем горе свое…
Я готов был взорваться – а я про что?! Кто ж с этим спорит?! А «Пирамида» о чем, собственно?!
Но Главный с какой-то неожиданной мягкостью посмотрел на меня и продолжал:
– Думаете, зачем мы здесь собрались? Мы хотим опубликовать вашу повесть. Речь идет о деталях. Вы писатель, а для писателя чужое горе острее, чем горе свое…
Это было опять не по существу. Я ведь с этим не спорил! Наоборот… Первый зам говорил о деталях слишком существенных, которые выражали идею повести. Главный то ли не понимал этого, то ли не хотел возражать Первому заму. Я вообще чувствовал, что главный здесь именно Первый зам. Но доброжелательный мягкий тон Главного как-то вдруг снял напряжение. Тут и молчавшие подключились – я услышал, наконец, несколько слов в свою защиту. Хотя никто так и не возразил Первому заму по существу.
Общий вывод собрания был таков: сократить «личную линию» с помощью редактора, и тогда повесть будет опубликована в трех номерах, начиная с шестого. Меня пока о согласии вовсе не спрашивали.
– Вы же любите шестые номера, – пошутил Главный, намекая на шестой прошлого года, где была напечатана «Ростовская элегия».
Все молчали. Я сказал, что подумаю.
– Думайте до понедельника, – деловито сказал заведующий отделом. – Времени для работы у вас слишком мало, учтите.
Когда расходились, состояние у меня было мерзкое, а настроение такое: пятьдесят на пятьдесят. Как теперь говорят, я был «в шоке». Ожидания были совсем другие. А Первый зам ведь тогда – на той редколлегии с Твардовским – был, как будто бы, за мой «Переполох». Впрочем, я помнил, что, уходя тогда с редколлегии, именно он выразил сомнение, что цензура ЦК «Переполох» пропустит.
Редактор Эмма шла рядом со мной.
– Ну, как ты? – спросила участливо.
– Не знаю. Пятьдесят на пятьдесят.
– Ты знаешь, я тоже удивлена. Не понимаю, почему он так жестко… Он просил зайти, подожди меня внизу.
Она пошла в кабинет Первого зама.
Я чувствовал: никто не сомневается, что я соглашусь. Силы больно неравные. Нигде больше повесть не напечатают, это ясно. Они это хорошо понимают.
Появилась Эмма быстро. Первый зам, как она «по секрету» призналась, сказал, во-первых, чтобы она в редактуре была «безжалостна», а во-вторых, что повесть эта – «острая и современная» и что она им «очень нужна».
– Но ты не бойся, – добавила она. – Мы сделаем с тобой так, как надо. Лишнего вычеркивать не будем.
На следующий день я позвонил заведующему отделом и сказал, что согласен.
«…Соотношение сил никогда не изменится. Я в этом убеждена абсолютно. Базис – экономика. Культура, идеология и т.д. – надстройка. То есть главное все-таки желудок. Поэтому естественно: сначала хлеб. Песня – потом. По иному никогда не будет. Каспаров и Ахатов – фигуры вечные; человечество не перевоспитаешь. Человек – социальное животное. Разумное, но – животное. В стае всегда будут вожаки и изолянты; те, кто за, и те, кто против; те, кто назад, и те, кто вперед. Это все естественно, предопределено генетически.
Хотя небольшое несоответствие природе все-таки есть. Звери живут себе, никому не мешая, вместе охотятся, вместе едят. А мы же, если не погибнем во время войны – перетравим друг друга гербицидами да выхлопными газами. Мы, глупые, никак не поймем, что все же охотимся на одного оленя. И чтобы его поймать, нужен и вожак, и изолированный; и первый, и последний. (Простите мне эту мрачную аналогию).
Ваша повесть хороша, но, извините меня, бесполезна, Те, кто думает так же, как вы, и после ее прочтения такими же останутся; на воззрения тех, кто думает и делает иначе, она ни в коей мере не повлияет.