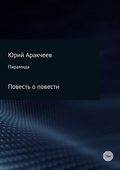Юрий Сергеевич Аракчеев
Пирамида жива…
Неотправленное послание
Здравствуйте, члены редколлегии газеты «Правда».
Я – инакомыслящий, то есть человек, который открыто поддерживает движение за гражданские права в Советском Союзе и считает, что наше общество крайне нуждается в демократизации всех сфер общественной жизни, и прежде всего – средств массовой информации. С 22 декабря 1974 года я нахожусь, где положено быть инакомыслящему, – в сумасшедшем доме, среди сумасшедших…
Мои действия, послужившие причиной ареста, состояли в том, что в промежутке между серединой февраля и серединой июля 1974 года я направил в советские печатные органы (в частности, в вашу газету), а также в другие государственные органы и организации несколько писем и телеграмм, в которых открыто изложил свои политические взгляды. В этом, по существу, и заключалась моя вина.
Все началось с того, что вечером 13 февраля 1974 года я услышал по «Голосу Америки» об аресте писателя Александра Солженицына на московской квартире его жены и тут же написал в «Правду» протест против этой акции советского правительства…
Свой протест я отправил на второй день, 14 февраля 1974 года, когда узнал из наших информационных источников о высылке Солженицына. Это письмо в «Правду» я опустил в почтовый ящик после того, как поборол страх, сжимавший мое сердце.
Теоретически мне ничего не грозило, так как по закону мне нельзя было предъявить никакого уголовного обвинения. Но сердце мое чуяло, что открытое высказывание взглядов, идущих вразрез с официальной пропагандой, вразрез с раболепствующими, верноподданническими, славящими (вспомните, как стали в последние годы на сборищах орать: «Слава! Слава!»), ликующими, визжащими от умиления, восторга и радости, голосами, даром мне не пройдет.
Сразу же после отправки в «Правду» своего письма я стал готовиться к аресту. Поскольку обвинение в «Антисоветской агитации и пропаганде» мне предъявить было невозможно (хотя такие попытки были), то мы с женой предположили, что меня, в конечном счете, арестуют по статье «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй», поскольку в уголовном кодексе других подходящих статей вообще нет. Мы стали готовиться к трехлетней разлуке.
Мысль о заточении в психиатрическую лечебницу приходила мне, конечно, в голову, поскольку мне были известны факты помещения инакомыслящих в сумасшедшие дома (генерал Григоренко, математик Леонид Плющ, писатель Владимир Максимов), но эта мысль показалась мне настолько нелепой и чудовищной по отношению ко мне, настолько несовместимой с моей личностью, что я ее сразу же отбросил. Я не предчувствовал, что проведу в сумасшедшем доме годы.
Вопреки ожиданию, после отправки в «Правду» своего протеста я не был арестован, хотя тучи надо мной постепенно сгущались. Как потом выяснилось, КГБ в это время собирал обо мне информацию и подготавливал мой арест.
Вскоре после отправки письма в вашу газету (которое, кстати, вы переправили в КГБ, вместо того, чтобы ответить мне) я написал еще шесть писем. Два в журнал «Журналист», одно – в газету «Известия», одно – в Союз писателей Белоруссии (для писателя Ивана Мележа), одно – начальнику 2-го машинного цеха Московского завода «Динамо» (для мастера этого цеха Телегина) и одно – директору Московского проектного института «Гидропроект» (для сотрудника этого института Мусиной)…
В последних трех письмах я выразил свое осуждение адресатам за то, что они безответственно, бездумно, услужливо поддержали указ Президиума Верховного Совета СССР о высылке из СССР писателя Солженицына, о чем свидетельствуют подписанные ими заметки в газете «Известия» от 14 февраля 1974 года. Впрочем, я написал подробное письмо только одному из этих людей – мастеру Телегину. Писателю Ивану Мележу и сотруднице института «Гидропроект» я послал копии своего письма Телегину, так как необходимости писать каждому из них не было.
Больше всего меня возмутило и поразило то обстоятельство, что эти люди, не прочтя книг Солженицына, абсолютно не зная, не понимая и не желая знать и понимать подоплеки его высылки из СССР, с удовольствием и неестественной злобой лили на него грязь, не ведая того, что их действия являются питательной средой, взрастившей когда-то культ личности Сталина…
Итак, на 35-м году жизни я решил воспользоваться 50-й статьей Конституции СССР, гарантирующей мне в моих интересах и целях развития социалистического строя, свободу слова, и «бросить им в лицо» «железный стих, облитый горечью и злостью», в результате чего оказался в сумасшедшем доме.
В дальнейшем я подробно расскажу о своем падении в пропасть, а пока продолжу рассказ о том, как развивались события…»
И Вадим Иванович Лашкин, пациент психиатрической больницы, повествует о том, как постепенно сужалось кольцо репрессий вокруг него – человека, рискнувшего зажечь свечу разума и чести во мраке всеобщей тупости и бесчестья.
Трудно оторваться от чтения этого захватывающего документа, но я не могу привести его здесь целиком, как не могу целиком цитировать и многие другие, чрезвычайно интересные письма и документы, ибо тогда этот мой скромный обзорный труд вырастет до неохватных размеров. «Неотправленное послание» в газету «Правда» не дошло до адресата потому, что приятель Лашкина, которому жена Вадима Ивановича передала экземпляр, перепечатанный на машинке, после долгих сомнений так и не решился отправить его по указанному адресу.
Но вот оно дошло до меня – хотя бы до меня – и, может быть, доходит сейчас до вас, тех, кто читает. Приведу еще несколько отрывков.
«…Военком произнес краткую речь, смысл которой сводился к тому, что мне, как офицеру запаса, с целью перекомиссии, следует удалиться с врачами в другую комнату для производства надо мной психиатрической экспертизы. Я возмутился и вышел из кабинета…
Спустя неделю после этого инцидента, 24 апреля 1974 года, ко мне домой пришел офицер из горотдела милиции и увел меня с собой в горотдел. Там мне прочли (но в руки не дали) заявление от работницы горвоенкомата, некой Алибековой, в котором она жаловалась, что 17 апреля 1974 года я, якобы, учинил в горвоенкомате скандал, накричал на нее и оскорбил. Кроме того, мне прочли еще одно заявление от группы работников конторы «Энергосбыт», которых я дней за 20 до этого не впустил к себе в квартиру, когда они пытались в нее вломиться силой. (Впрочем, они позвали милиционера и все же вошли в квартиру с его помощью. Никаких нарушений правил пользования электрическими приборами они не обнаружили). В этом заявлении работники «Энергосбыта» жаловались, что я, якобы оскорблял их нецензурной бранью.
Из горотдела меня отвели в суд, и там судья вынес постановление о заключении меня под стражу на 15 суток «за мелкое хулиганство».
Поскольку для меня было ясно, что арест сфабрикован, то я на суде объявил в знак протеста голодовку, которую продержал все 15 суток, пока находился в КПЗ. Мою голодовку пытались сорвать с помощью шантажа (грозили продлить арест еще на 15 суток «за нарушение режима») и искусственного питания. Ни то, ни другое не удалось.
О голодовке я известил городского прокурора и потребовал немедленно освободить меня из-под стражи. Ко мне в камеру 2 мая 1974 года пришел помощник прокурора города по надзору в местах пребывания заключенных Коммыев, который выслушал меня и сказал, что опротестует постановление судьи от 24 апреля 1974 года. Но ему, видимо, объяснили, что к чему, и он не стал делать того, что обещал.
По истечении 15 суток, 9 мая 1974 года, меня выпустили из КПЗ, а в конце июня я написал свое последнее, третье письмо в журнал «Журналист».
17 июля 1974 года у меня в квартире был произведен обыск. В ордере на обыск было указано уголовное обвинение, которое было против меня выдвинуто – именно то, о котором я уже говорил.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, моя статья подследственна органам областной прокуратуры, но непосредственно обыск вели четыре работника Марыйского КГБ, что является беззаконием. Кроме кагебистов, присутствовали еще три следователя МВД и три следователя Марыйской областной прокуратуры.
В результате у меня была изъята папка с копиями моих криминальных писем. Немедленно после обыска я пошел на почту и дал три телеграммы.
Первую – в Президиум Верховного Совета СССР: «Меня преследуют за политические убеждения. Сегодня 10 человек произвели обыск в моей квартире. Считаю, что страной правит шайка политических демагогов и самозванцев. Требую выхода из гражданства СССР».
Вторую – председателю КГБ Андропову: «Ваши люди, преследуя инакомыслящих, занимаются охотой на ведьм. Сегодня 10 человек произвели обыск в моей квартире. Дайте укорот своим опричникам, либо уйдите в отставку».
Третью – в посольство Канады: «Меня преследуют за политические убеждения. Прошу предоставить политическое убежище и гражданство Канады»…
Я представляю, что было бы, если бы связисты передали в эфир и доставили по назначению эти телеграммы, без согласования своих действий с прокуратурой или КГБ! Многие бы за это пострадали, хотя, на мой взгляд, ничего особенного нет, если высокопоставленные лица узнают мнение о себе и своей политике непосредственно от низов.
На следующий день, 18 июля 1974 года я был арестован на улице и доставлен в Марыйскую областную прокуратуру… Допрос длился до вечера, а вечером меня поместили в КПЗ. 23 июля меня отвезли в Марыйскую тюрьму, а на второй день, 24 июля, меня посетил следователь Джалмаханов и предъявил мне обвинительное постановление, в котором все мои суждения названы голословно заведомо ложными, клеветническими, порочащими советский государственный и общественный строй…
26 июля 1974 года меня повезли в Ашхабад и поместили в общую камеру Ашхабадской тюрьмы».
Прерываю цитирование «Неотправленного послания» Вадима Ивановича Лашкина, чтобы обратить внимание читателя на то, что как раз в это же самое время и в тех же местах и тюрьмах содержался под стражей четвертый год уже герой «Пирамиды» и «Высшей меры» Виктор Клименкин. Тот – за убийство, которого не совершал, этот – за клевету, которой не было… А сколько было других, подобных им, – о некоторых из них мы знаем, о многих наверняка и не слышали. Не сошла ли с ума наша юстиция? И только ли юстиция… Но ведь известно, что дурак считает, как правило, дураком не себя. Других! То же, очевидно, относится и к сумасшедшим…
«…Психиатрическую экспертизу в Ашхабадской тюрьме производили врачи Республиканской психбольницы раз в неделю. Во второй половине 1974 года таким днем недели был четверг. Меня привезли в Ашхабад 26 июля 1974 года, а в ближайший четверг, 1-го августа, мне устроили, без всякого предварительного наблюдения, так называемую амбулаторную психиатрическую экспертизу – «пятиминутку». Экспертизу проводили три врача Республиканской психбольницы…
Началась экспертиза с того, что врач Аннамухамедова задала мне несколько формальных вопросов, касающихся моих анкетных данных. Я сначала отвечал на эти вопросы, но потом перебил ее и, в свою очередь, спросил, на каком основании мне производят экспертизу.
Аннамухамедова ответила, что на это есть постановление следователя Джалмаханова. Тогда я попросил показать мне это постановление, чтобы выяснить, какими мотивами руководствовался следователь, вынося его. …Аннамухамедова после некоторой заминки, хотела дать мне в руки постановление, но тут энергично вмешался врач Клюдт – он был главным на экспертизе – и запретил ей это. В руках Клюдт держал толстую папку с моим делом. Раскрыв эту папку и указав на нее пальцем, Клюдт задал мне вопрос: «Когда вы писали свои письма, отдавали вы себе отчет по поводу их содержания?» Но я не стал отвечать на этот вопрос, встал со стула и сказал, что отказываюсь отвечать вообще, так как считаю экспертизу лицемерным фарсом.
Клюдт махнул рукой стоявшей у дверей тюремной медсестре и сказал: «Довольно. Уведите его». На этом экспертиза закончилась. Длилась она не более 10 минут.
На второй день, 2 августа, меня из общей камеры перевели в камеру для душевнобольных преступников, так как психиатры вынесли медицинское заключение о состоянии моей психики, признав меня невменяемым, как в моменты написания писем и телеграмм, так и в моменты ареста, допроса и психиатрической экспертизы.
Согласно заключению психиатров, моя невменяемость обусловлена хроническим душевным расстройством – шизофренией, которым я якобы «страдаю» уже много лет…
Таким образом суд лицемерно освободил меня от уголовной ответственности и «из гуманных соображений» санкционировал применить ко мне принудительные меры медицинского характера. Из «гуманных» соображений меня уже 49 месяцев – пятый год – держат вместе с отбросами, подонками, моральными и психическими уродами, и впереди – неопределенность, хотя по моей статье в Уголовном кодексе предусмотрен срок наказания не более трех лет…»
Чтобы было ясно, в каких условиях содержали диссидента Лашкина врачи-«гуманисты», приведу отрывок из другого документа – «Обращения к психиатрам Марыйского областного психоневрологического диспансера», написанного Вадимом Ивановичем 27-го сентября 1979 года.
«…В Ташкентской спецпсихбольнице меня продержали с 22 декабря 1974 года по 17 ноября 1978 года, то есть почти четыре года. В то же время большинство принудников-уголовников, в том числе и убийц, держали гораздо меньше меня. Я приведу список двадцати убийц, имеющих на своей совести в общей сложности 26 трупов, – каждый из них пробыл в том же отделении Ташкентской спецпсихбольницы, в котором был и я, от полутора до трех с половиной лет, в то время, как меня там продержали 47 месяцев. И это несмотря на то, что некоторым из этих убийц грозил срок 10-15 лет или даже расстрел (так как некоторые из них убили более одного человека), а по моей статье был предусмотрен срок лишения свободы не более 3-х лет. Вот имена этих убийц…»
Что ж, как не вспомнить тут давнее-предавнее: «И к злодеям причтен…» Вон когда еще «диссидентов», то есть несогласных с деянием правителей, «книжников и фарисеев», считали преступниками наиопаснейшими, не менее опасными, чем насильники и убийцы! И все же мы в своем «государстве рабочих и крестьян», под солнцем «победившего социализма», под мудрым руководством коммунистической партии достигли большего: Христа распяли на равных с двумя злодеями и висел он на кресте, судя по Евангелию, не дольше их. Мы же своих диссидентов держим в аду психушки дольше, дольше, дольше, чтоб неповадно было, чтоб молчали, молчали, молчали!!!
Но вернемся к «Неотправленному посланию». Будучи человеком вполне нормальным – гораздо более нормальным, нежели его судьи и врачи-психиатры, которым, очевидно, как раз очень полезно было бы хоть недолгое время побывать там, куда они посылали честных людей, рабски выслуживаясь перед властью, – будучи человеком, к тому же умным и трезвым, Вадим Иванович Лашкин прекрасно понимал, что ему грозит. Он понимал это и в тот роковой день, когда отправлял свое первое письмо в редакцию «Правды», и потом, когда продолжал посылать другие письма и телеграммы. Конечно, истинно больным служителям Пирамиды весьма трудно, а то и просто невозможно понять Вадима Ивановича, и поведение их, при всей его чудовищности, логично. Но логично и поведение Лашкина. Он выбрал свой путь…
«…Еще находясь в Ашхабадской тюрьме (до помещения в спецпсихбольницу – Ю.А.), я провел шесть голодовок протеста общей продолжительностью 45 суток и произвел 10 больших демонстративных кровопотерь, последняя из которых, самая большая, явилась для меня роковой: она привела к резкому обострению хронического воспалительного процесса в области мочевого пузыря…»
– Что такое «кровопотери»? – спросил я Вадима Ивановича в одну из наших встреч, когда, читая при нем, дошел до этого места в его «Послании».
– Дело в том, что голодовки на них уже мало действуют, – спокойно ответил сидевший передо мной коренастый русоволосый человек. – Во-первых, они всеми силами стараются голодовки прервать, мобилизуют амбалов-надзирателей, чтобы влить искусственное питание, во-вторых, долго нужно голодать, поначалу они вообще не обращают внимания, запросто можно загнуться, так ничего и не добившись. А если вскрыть себе вены и кровью залить всю камеру – это как-то нагляднее…
– Но ведь и риск большой, – возразил я, представив себе эту картину и внутренне содрогнувшись.
– Да, риск есть, – согласился Лашкин. – Вот та, последняя, о которой вы прочитали, могла, конечно, стать самой последней. Но вы читайте дальше, там все объяснено.
«…Обострение полыхает непрерывно с 21 декабря 1974 года и превратило мою жизнь в пытку. Посредством голодовок, кровопотерь, а также многочисленных аргументированных заявлений, я пытался оказать моральное давление на прокуратуру Туркмении и этим добиться психической реабилитации, реализации права на защиту и открытого суда…»
Заметьте, читатели, соотечественники мои дорогие, – прерываю я опять чтение, – не вообще реабилитации добивается Вадим Иванович Лашкин, ибо понимает, что реабилитации в тех условиях добиться нельзя – ведь он не собирается отказываться от своих писем и заявлений! – он добивается лишь психической реабилитации и открытого суда! Он, чьи мысли теперь, через 16 лет, стало возможным выражать открыто, мало того: их исповедует теперь едва ли не большинство граждан нашей страны… Он тогда голодал, вскрывал себе вены, воевал с гигантской жестокой машиной один на один, а большинство трусливо улыбались, тянули руки – за! за! за! – а то и кричали, заходясь в верноподданническом восторге: «Да здравствует! Слава, слава, слава! Никому не отдадим величайших завоеваний!…» Да и тогда ли только? Не кричат ли иной раз еще и сейчас?
Так кто же начал, кто сделал жизненно необходимой сегодняшнюю «перестройку»? Партия? Руководители ее? Как бы не так. Чем пожертвовал хоть кто-то из рьяных сегодняшних «инициаторов перестройки», чем поступился? Скажите-ка им о голодовках и кровопотерях – то-то нахмурятся, то-то зашикают обитатели роскошных дач и квартир, словно сомнамбулы повторяющие о «великих завоеваниях Октября». Но почитаем дальше, сограждане. Еще и еще раз давайте же убедимся, что и в глухой ночи тлеют угли…
«Чтобы ослабить мое сопротивление, ко мне дважды была применена пытка посредством специального препарата сульфозина повышенной концентрации (4-процентной, вместо положенной 0,5-процентной). Первый раз, 5 августа 1974 года, с помощью двух одновременных уколов сульфозина, была сорвана на 18-е сутки моя первая голодовка (я объявил ее в день ареста, 19 июля 1974 года). Я кричал от боли и не спал трое суток».
Вот так, дорогие сограждане. Ау, Менгеле! Гитлеровские врачи-палачи были осуждены и отечественным, и международным судом. Германия очистилась и вошла полноправным членом в мировую семью народов. Она не только посадила на скамью подсудимых своих преступников, причем не только главных вождей, но и множество судей, выносивших в гитлеровские времена чудовищные приговоры. Она несет крест раскаяния до сих пор, предоставляя множество благ представителям еврейской нации. А некоторые чистые арийцы по крови нарочно называют своих детей еврейскими именами – чтобы та дурь не вернулась! А мы? 1974-й год – 28 лет после Нюрнберга. И хоть бы что! А сейчас уже и того больше – 44… И опять хоть бы что! (А в 2003-м, добавлю, – 57. И что?)
«Второй раз мне сделали сразу четыре укола сульфозина, когда я от голодовки и заявлений перешел к дополнительной вынужденной мере – вскрытию вен. На этот раз я не мог уснуть от боли четверо суток. Передвигаться я практически не мог гораздо дольше.
Как только мне сделали эти уколы и завели в камеру, я немедленно еще раз вскрыл вены и слил еще часть крови. Меня снова вывели из камеры, но на этот раз завели не в медпункт, а в комнату дежурного по тюрьме, который потребовал от меня письменного объяснения своим действиям. Такое объяснение я написал, где, в частности, предупредил, что каждый последующий укол сульфозина буду и в дальнейшем сопровождать вскрытием вен. После этого мне сульфозин не делали…
На 12-й день моей четвертой голодовки (9 декабря 1974 года – после психиатрической «экспертизы» и после двукратного нового вскрытия вен) тюремная администрация вызвала, наконец, прокурора по надзору в местах пребывания заключенных.
Я рассказал ему о своем деле и вручил заявление и оттиск своей статьи по механике космического полета, напечатанной в майско-июньском номере журнала АН СССР «Космические исследования» за 1974 год. Я сказал прокурору, что не клеветник и не враг Советской власти, а инакомыслящий. Я сказал ему, что мне поставили фальшивый диагноз и хотят из политических соображений упрятать в сумасшедший дом. То же самое написал в заявлении, которое ему вручил.
Прокурор выслушал меня, взял мое заявление и оттиск статьи и заверил, что не позднее, чем через три дня, я получу на свое заявление письменный ответ из прокуратуры по существу. Но это оказалось ложью. Никакого ответа из прокуратуры я не получил.
Когда я убедился, что прокурор меня обманул, я объявил последнюю, пятую по счету, голодовку и осуществил последние две кровопотери (16 и 19 декабря 1974 года). Цели этих голодовок и кровопотерь остались прежними: добиться психической реабилитации, реализации права на защиту и открытого суда, хотя в глубине души я понимал, что практически этих целей добиться невозможно, так как прокуратура Туркмении выполняет волю Москвы и никакое моральное давление с моей стороны не заставит ее исполнять свои надзорные функции.
Возникает вопрос: если я понимал, что мои голодовки, кровопотери и заявления наверняка ничего не изменят в моей судьбе и что сумасшедшего дома мне не миновать, то зачем я бессмысленно, настойчиво, упорно и методически терзал себя голодом, терял кровь и портил бумагу? Не разумнее ли было в моем положении примириться и покорно ждать развития событий, мне неподвластных и неподконтрольных?
Вопрос вполне естественный и резонный. Я отвечу на него исчерпывающим образом, но сначала совершу экскурс в область философии…»
Опять прерываю цитирование «Неотправленного послания» чтобы поделиться: да, читатель, несмотря ни на что, несмотря на очевидную, как будто бы, вменяемость Лашкина, несмотря на то, что я знал уже: он победил, с него снят диагноз о невменяемости, – в этом месте послания я почувствовал определенную тревогу. А ну как тут-то и проявится болезнь, параноидальный психоз, навязчивая идея… Вот сейчас вообразит он себя Мессией, знающим абсолютную Истину, провозвестником Магомета, Христа или Будды, вот сейчас будет требовать безусловного признания своей сверхгениальности… И тогда… И тогда получится, что он – такой же, как его палачи, столь же невменяемый, лишенный здравого ума, обратной связи с действительностью, трезвой самооценки…
Слава Богу, мои опасения не оправдались.
И тут, со своей стороны прекрасно понимая, что столь щедрое цитирование чужого произведения в произведении своем есть некий нонсенс, я, тем не менее, снова иду на это. Ибо на очень коротком словесном пространстве Вадиму Ивановичу Лашкину, пациенту спецпсихбольницы города Ташкента, сокамерниками которого вот уже много месяцев были отъявленные насильники и убийцы, удалось четко, ясно, доходчиво изложить то, что в редчайших случаях удается и самым маститым в вольной и комфортабельной тиши кабинетов. Я тем более просто обязан привести соображения Лашкина, что они точь-в-точь совпадают с соображениями моими, хотя я и не уверен, что мне удалось бы так четко и коротко их сформулировать.
Но еще больше обязан я это сделать потому, что уверен: соображения эти особенно необходимы для граждан нашей страны сейчас. Когда от многолетнего сумасшествия, невменяемости, параноидального повторения абстрактных, не имеющих ничего общего с жизнью лозунгов, мы тихо-тихо начинаем все-таки приходить в себя.
И последнее. Как и все в этом длинном моем сочинении (за исключением некоторых измененных или скрытых имен и фамилий), «Неотправленное послание» ничуть не вымышлено, оно действительно принадлежит Вадиму Ивановичу Лашкину – на этот раз имя, отчество и фамилия подлинные, – а проживает он ко времени написания мною этой «повести о «повести о повести» в городе Мары, том самом, где произошли события, положенные в основу «Высшей меры».
А заголовок этому кусочку «Послания» дадим, допустим, такой: