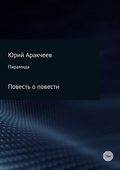Юрий Сергеевич Аракчеев
Пирамида жива…
«И кому нужна моя жизнь?»
Очередное письмо:
«Простите за то, что я Вам сейчас напишу. У Вас, видимо, нелады с повестью. Я постеснялась Вам сказать свое мнение о ней, но сейчас напишу, что думаю. Она очень «пестрая», т.е. разная, внезапно переходящая от одного к другому. И очень личная. Мне жаль, что не пришлось дочитать до конца, но то, что удалось, навело меня на мысль: не примут. Вообще все Ваши вещи (а я достала Вашу первую книгу) надо читать несколько раз. Они и до меня, бывалого человека, доходят не сразу. А Вы хотите, чтобы редактор понял. У Вас же особое мышление. Я понимаю, что для Вас это действительно очень сложно, и не только это, но и разные денежные дела. Советом здесь не поможешь, но все-таки Вам отчаиваться не следует. Вы сейчас опять работаете над повестью, я это чувствую. Да поступитесь Вы своим стилем, не сутью, а только стилем. Толстые лбы не прошибить тонкостью Вашего мышления. Они – другие. Простите, если вмешалась не в свое дело или обидела Вас этим. Советы давать легко – выполнить трудно. Знаю. И все же… И вообще живите легче, проще. Нет безвыходных положений. Вспомните, сколько раз Вам приходилось остро переживать от различных разочарований? А в итоге? Все же стало на свои места. И сейчас – будет так же. Берегите себя, мой взрослый мальчик. Договорились? А теперь о другом. Не знаю, устроит ли Вас этот джемпер. Уже сегодня начала вязать Вам второй… На днях я Вам его вышлю. Ну вот и все. Да, вот еще что: Вы уж простите меня, что часто Вас беспокою, звоню. Тянет меня к Вам. Я такая одинокая. Не обижайтесь и не думайте обо мне плохо. Встретимся – все поймете (если встретимся). Дай Вам бог справиться с повестью.
С глубоким уважением, В.В.. (Можно поцелую?)»
И звонки становились все более частыми, и письма. И посылки.
«Мой родной, хороший, здравствуйте. Пришлось чуть-чуть вас обмануть. Мне утром сегодня принесли вместо сервелата полукопченку. Но я уверена, что она дойдет к вам в хорошем (съедобном) состоянии, так как прямо с завода, свежайшая. В магазинах продают ту, которая по месяцам, а то и больше лежала на складах. Сыр тоже с завода. Почему копченый? Сейчас лето, жара. А то, что я вам посылаю, может долго лежать, не портясь. Да и за город поехать, удобно взять с собой. Как что-нибудь «путное» достану – сразу вышлю, только вы, если надолго поедете куда-нибудь, дайте мне знать, а то я вышлю что-либо, а посылка придет обратно. Хорошо? Ну, вот и все.
Молю всех богов, чтобы вы стали «маститым». Вам бы легче жилось. Устали же. Знаю, чувствую. Если бы для этого понадобилась даже моя жизнь – не задумываясь, отдала бы. Но чем я могу помочь? И кому нужна моя жизнь? Посылаю вам свое плохое стихотворение. Не смейтесь, пожалуйста, вы же знаете, что я – сама искренность. Если приедете – многое прочтете еще из моей писанины. Целую вас в макушку…
В.В.»
Видит Бог, я ничего не делал для этого. Скорее наоборот. Я просил не звонить днем, когда сижу за пишущей машинкой. Я говорил иногда слишком строго и сухо, просил перестать посылать посылки, потому что у меня все есть, и наша почта, к тому же, работает так, что даже «свежайшая, прямо с завода» колбаса пришла зеленой и скользкой от плесени, как и сыр. Лето было действительно жаркое, а посылка шла чуть ли не месяц. Господи, что было делать? Я принимался объяснять, что действительно очень занят и не могу сейчас приехать, не могу и рукописями заняться – ведь и не обещал! – и может быть найти кого-то еще или уж подождать, пока я не закончу со своей «Пирамидой-2» и альбомами. Я постоянно говорил о своей почте, о том, что многим из них моя помощь нужна больше, чем ей сейчас, это мой долг, я просто обязан написать эту повесть и как можно быстрее и ни за что другое взяться пока не могу. Ведь время нужно, время, большая вещь получается, а материал тяжелый…
– А вы отдохните, – отвечала она. – Вам обязательно нужно отдохнуть, отвлечься. Приезжайте, можете жить у меня, сколько хотите, я не буду вам мешать, я могу вообще пожить у подруги. У нас ведь здесь воздух не тот, что у вас, и лес, и грибы. И фотографировать можете сколько угодно…
Стихотворение в том письме (вместе с посылкой) было вот какое.
ПРОСТО ТАК…
Зачем так мучают меня
Все ваши повести и чувства.
Я вчитываюсь в них, скорбя
И – отдавая дань искусству.
Сирень, кистями, за окном
Уже цвела, уже поблекла.
А я тоскую об одном,
Что мы – два разных человека.
У каждого – своя судьба
И быт по-разному устроен.
Как вольный ветер – вы всегда.
От ветра – бури. Ветер – воин.
Неситесь ветром по судьбе
Своей, чужой и неизвестной,
Подобно пущенной стреле
Над розами, в ущелье тесном.
Пусть в ваши поздние года
В вас будет мысль – жива,
Пусть боги вас оденут
В брабантские кружева…
На этом стихотворение обрывалось, а на двойном листе бумаги, вырванном из школьной тетради, осталось почти три чистых страницы.
Она все понимала?
Но мне от этого было только хуже. Она все понимала, как будто бы, но было нечто выше ее, с чем справиться она не могла.
Не во мне тут дело, я понимаю. Не во мне конкретном. Непрожитая жизнь ее, свернутая, очевидно, как весенний росток папоротника и скованная жестоким морозом, вдруг отогрелась. Вдруг начала распрямляться, требуя солнца, света, властно желая всего того, что и положено человеку. Женщине. Сам того не ведая, я оказался тем теплым лучом… Обманчивым. Потому что ответить тем же не мог.
И – все понимая, сочувствуя, переживая – я по телефону был порой слишком резок. Она прощала и звонила опять. И письма приходили одно за другим.
Мальчик, ты как-то спросил,
Может, мне что-либо нужно.
На правду уж не было сил…
И что я отвечу, к тому же?
А нужно мне, с первого дня
Ласки твоей, поцелуя.
Время прошло, не щадя…
Нежность тебя – не волнует…
Писала она, на мой взгляд, здорово. Главным образом не стихотворения, правда, а именно – воспоминания. Мне очень нравилось. Главное: она не старалась казаться, она – была. Она не думала над строительством фраз, она смогла раскрепоститься, открыться – и речь ее лилась естественно и свободно. Это был то ли дневник, то ли поток воспоминаний, или, может быть, бесконечное письмо другу о прошлом. Она делилась пережитым, изливала душу без навязчивости, занудства, взывания к сочувствию, без истерик. Но…
Но это и было страшно. Страшно от того, что нормальная человеческая жизнь – то, что как-то принято считать человеческой жизнью – для нее как бы и не начиналась. Ведь мир бесконечен, и столько кругом красоты! Но не для нее.
Почему?! И почему все этакое открылось для нее, как будто бы, только теперь?
«Милосердие»
(рассказ В.В.Бобрович)
У меня умирал сын. Маленький, грудной. А я была в дороге, и молока у меня не было. Дорога длинная. От Хабаровска до Москвы поезд шел 8 суток. И еще ночь от Москвы до Ленинграда. В каком состоянии я находилась, поймет каждый.
Спать приходилось урывками. Вагон был купейный. Сначала со мной ехали муж с женой средних лет. Он военный. Она избалованная обывательница. Держались они отчужденно и холодно, несмотря на то, что я старалась делать все, чтобы их не беспокоить. Через трое суток они вышли где-то в Иркутске.
Сына надо было кормить грудным молоком, тогда еще его можно было спасти. Но молока не было, и я брала на станции топленое молоко, разводила кипятком и так кормила его. Где-то возле Кунгура ночью я вышла в тамбур, сынок уснул, и я воспользовалась минуткой, чтобы оглядеться, вздохнуть.
К вагону подошла просто одетая молодая женщина с грудным ребенком и стала просить проводника, чтобы он взял ее без билета и провез 5-6 станций. Проводник не брал, говоря, что у него купейный вагон и чтобы она шла в хвост поезда, в общий – возможно, там ее пустят. Но женщина канючила. Речь ее была какой-то странной. Или она была не русской, или был дефект речи. Скорей всего, она была чалдонка.
Дело было весной, но в Сибири еще лежал снег, и было холодно. Женщина упрямо цеплялась за поручень, и проводник отрывал ее руку. Другой рукой она прижимала к себе ребенка. Я вмешалась и стала просить проводника, чтобы он ее взял. Но он уперся: нет, и все. Тогда я достала кошелек, вынула 25 р. и дала ему. Проводник «подобрел» и сказал, чтобы она садилась, так как поезд отправляется. Она поднялась по ступенькам, и я повела ее в свое купе.
Войдя, она спокойно положила ребенка на нижнюю полку, развернула свои платки, разделась и стала перепеленывать своего мальчика. Сменив ему пеленку, она села его кормить. И все это молча. За это время я сказала ей, что у меня болеет тоже сын. И попросила ее сдоить немного молока или покормить моего сына. На все это она не отозвалась ни единым словом.
Спокойно накормив своего ребенка, она уложила его на свои платки и продолжала молча сидеть. Я пересела рядом с ней и со слезами на глазах просила у нее хоть 20-30 грамм молока. Ах, как я хотела этого молока. Я прямо видела, чувствовала, как оно льется в ротик моего сыночка. Я умоляла ее и даже, вопреки себе, упрекнула за то, что ведь заплатила за нее проводнику.
Видимо, я ей надоела. Да и проехали мы три или четыре пролета. Вдруг она начала одеваться, потом взяла ребенка на руки и, подойдя к двери купе, сказала:
– А кто тебя просил платить? Он бы и так меня повез.
С этими словами она вышла.
Как я плакала от горя, от обиды за сына, за себя, за свою нескладную судьбу. А женщина ушла. Она спокойно шла своим путем и, наверное, ее не потревожит тень моего умершего по приезде в Ленинград сыночка.
А ее я помню всю жизнь. Горько помню. Еще горше от того, что обижаться на нее не имею права. Она у меня ничего не просила и мне ничего не обещала. По-своему она была права. Права правдой человека, не имеющего милосердия.
А где ей, крестьянке, было его взять? Судя по ее одежде, она не жила в достатке. Да и ехала без билета. Ненормальной суровостью жизни из нее было вытравлено и то милосердие, которое, может быть, было у нее от рождения. Видно, она не встречала от людей доброты, отзывчивости. А может, и родилась такой жестокой…
Так размышляла я, стоя у окна купе. А поезд нес меня к цивилизации. Мимо лесов, гор, рек и озер. Дали, русские просторы, ох, и велики же вы. Сколько разного люда живет здесь, и каждый – не одна книга. О, кто сможет написать такие книги и когда?
А может быть, какой-то один изверг зажал все милосердие в своем кулаке и удушил его? Или умер и унес милосердие с собой?
А люди бьются сердцами об углы жестокости и не понимают, что же случилось?
Может, и так. Я не нахожу ответа.
1954 г., апрель.
«В аэропорту» (зарисовка)
(Из рассказов В.В.Бобрович)
В Сыктывкар я прилетела ночью. Мне надо было попасть в Сосногорск. Прямых рейсов из Ленинграда не было.
Диспетчер, милая девушка с северным «оканьем» пояснила, что есть какой-то самолет до Ухты, а там 25 км до Сосногорска – или автобус, или попутка. Самолет должен быть утром. Решила никуда не уходить из здания аэропорта, а ночь провести в удобном мягком кресле – из тех, что во множестве стояли в зале.
Пассажиров было мало. На улице мороз. А еще мне хотелось побыть в зале потому, что приходили и уходили люди с интересным, никогда ранее не слышанным мною выговором. Говорили громко, раскованно. Женщины в зале было две. Я и еще какая-то пожилая. Позже, разговорившись с ней, я узнала, что она прилетела к сыну, который отбывает срок в лагере, и ей нужно еще лететь, но в другом, чем мне, направлении. Вскоре она уснула. А я сидела, смотрела, слушала. Мне было почему-то спокойно, я совсем не беспокоилась – как, когда, скоро ли полечу. Было ощущение, что я на месте, обо мне позаботятся, не забудут. Да это так и было. Север тем и отличается, что люди по-другому относятся друг к другу, заботятся, что ли, о других. Север есть север.
Часа через два-три ко мне подошла девушка-диспетчер (вышла из своей застекленной загородки) и, мило «окая», сказала, чтобы я сейчас же шла на взлетную полосу, так как там грузится местный самолет «аннушка». Может быть, пилот возьмет меня, так как летит он в Ухту.
Я поблагодарила ее, взяла чемодан и пошла искать взлетную полосу, на которой грузится самолет. Вышла – кругом мрак кромешный. Никаких огней на взлетной полосе я не увидела, да и где она, эта взлетная полоса? Я не стала возвращаться, чтобы расспросить, куда двигаться мне, а пошла наугад вперед.
Остановилась, прислушалась. Должны же быть какие-то звуки. Из темноты до меня донеслись мужские голоса, а вслед за тем замелькал огонек то ли фонаря, то ли неяркой фары. Пошла на звук и огонек.
Вокруг меня расстилалась снежная равнина, тонущая в черноте ночи. Подойдя поближе к голосам, я обнаружила черный силуэт маленького самолетика и чуть в стороне от него – несколько человек, стоящих молча. И все это почти в полной темноте.
Вдруг из открытой двери самолета вываливается огромный мужчина в меховых унтах, собачьей полудохе, и густым, звучным голосом говорит:
– Ну, грузите.
От кучки людей отделяются двое и что-то тяжелое волокут по снегу в больших ящиках. Пилот исчезает в проеме двери, а двое начинают кидать что-то железное, звенящее, в проем. Третий мужчина быстро взбегает по небольшой приставной деревянной лесенке в черное нутро самолета, где вдруг загорается жиденький полусвет, и начинает перекидывать железяки в хвост самолета. Остальные несколько человек стоят и ждут молча.
Через несколько минут опять появляется пилот. Из самолета несется мат и фраза, сказанная веско, твердо:
– Куда грузите? Куда грузите? Раскладывайте по бортам во весь самолет. Вы что, хотите, чтобы я не взлетел? Перевернемся на взлете, и все.
Мужики покорно, не оправдываясь, начали раскладывать железки, как надо, а пилот, выйди из самолетика, сказал:
– Ну, давайте, кто там.
Окинул кучку людей и добавил:
– Могу взять только десять человек.
Невольно я начала считать. Оказалось, что я, подошедшая последней, двенадцатая. Я сразу скисла: «Не возьмет, и просить не стоит».
Люди, не спеша, цепочкой, подходили к пилоту, стоящему у лесенки, показывали билеты, на которые он мельком взглядывал при свете карманного фонарика, и один за одним исчезали в брюхе самолета.
Одиннадцатый пассажир тоже исчез внутри. На земле осталась одна я с чемоданом у ног. Пилот взглянул на меня и вдруг резко гаркнул:
– Ну, чего стоишь, сирота, иди, садись, да побыстрее, лететь надо.
Я подошла к самолету, держа наготове билет, но он даже не взглянул на него, а, выхватив мой чемодан, сунул его в дверь самолета и, взяв меня за руку, втащил в самолет со словами:
– А ну, усадите женщину.
При свете малюсенькой лампочки я увидела, как все мужчины повернули ко мне головы, началось какое-то шевеление, кто-то пересел на другое место, и я оказалась на жесткой скамейке, расположенной вдоль борта самолета. Напротив была такая же скамейка. Мужики громко говорили о своих делах, но на меня заинтересованно поглядывали. Неожиданно вышел пилот из своей кабины и, бросив мне на колени что-то меховое, сказал:
– Заверни ноги, а то в сапожках ноги отморозишь, возись потом с тобой. Лететь-то час будем.
И ушел.
Сосед взял старую меховую куртку с моих колен, наклонившись, обернул мне ноги и, прихлопнув куртку на моих коленях, сказал:
– Ничё, довезем, как куколку.
Я поблагодарила, самолет взревел единственным мотором, железяки жалобно задребезжали под скамейкой, и мы тронулись.
Выйдя на взлетную полосу, самолет остановился. Окон не было, посмотреть было некуда. Было чувство закрытого ящика, жутковатое. Самолет яростно захрипел, вздрогнул и, наконец, плавно взлетел.
Я сидела и думала о том, что вот я лечу, сидят люди, пилот ведет самолет. Лиц этих людей я не различала, и, встретившись с кем-либо из них днем, никого бы из них не узнала. А чувство было такое, точно это мои самые верные и старые друзья.
А летела я из города, в котором суетятся и без конца ссорятся между собой такие же люди, как сидели в самолете. Но другие. Видимо, Север, холодный, жесткий Север делает людей мягкими, добрыми, отзывчивыми. Слава тебе за это, Север».
Ссоры
Что-то через год после нашей первой встречи с В.В. начались первые телефонные ссоры.
Звоня в любое время, она никогда не спрашивала, занят я или нет. И особенно раздражалась, если я говорил, что у меня люди. И уж совсем не выносила даже упоминания о жене – в сердцах тотчас бросала трубку. Вообще-то это, конечно, смешно. Но если я был чем-то занят или расстроен по какой-то причине, то такой внезапный и требовательный звонок и ее НЕПОНИМАНИЕ вызывали не смех, а ответное раздражение, злую досаду, порой даже негодование, после чего нужно было время, чтобы прийти в себя. Если же я в разговоре сдерживался и пытался мягко дать понять, что действительно занят, работаю, и нельзя мне переключаться на нее, потому что потом будет трудно опять сосредоточиться, она разговора нарочно не прекращала. До тех пор, пока я все-таки не переключался. Словно какой-то бес вселялся в нее! Разговоры-то были пусты, она нового ничего не говорила, да и естественно – звонила ведь чуть ли не каждый день! – «Хочу услышать музыку Вашего голоса»… Поддерживать бессодержательную «музыкальную» беседу было трудно, тем более, если занят делом. Постепенно я «заводился», негодование и досада поднимались мутной волной, я, наконец, переставал сдерживаться, говорил что-то резкое, обидное для нее. Иногда возникало впечатление, что именно этого она и ждала.
Потом, когда я приходил в себя, теплой волной поднималась жалость. Я очередной раз «входил в ее положение», понимая трагедию этой судьбы, невозвратимость украденной молодости, фактически вообще жизни, сочувствовал, переживал… И именно в этом «евангельском» состоянии воспринимал очередной звонок. Однако по той же схеме происходило то же, что раньше… Карлики…
Ну хоть бы что-то путное было в этих звонках, хоть какая-то информация о жизни ее, что ли, хоть попытка понять что-то в моей! – так пытался я оправдать сам перед собой свою резкость. Ну, хоть какой-то оттенок понимания, мудрости… Нет! Полнейшая чепуха, типа: «Ну, как Вы спали? Ночью по крышам бегали? У Вас опять гости?…» Или что-то подобное.
Да, конечно, это было смешно. Но я возмущался до глубины души, потому что, ко всему прочему, это казалось мне профанацией: ведь это не семнадцатилетняя девочка, которой, в конце концов, можно было бы все такое простить! И даже не капризная любовница, пусть более зрелого возраста. Ведь ей около семидесяти! И связало нас общее дело, работа, а вовсе не… Ну просто черт знает что!
Понимаю, понимаю, что моя «высокая» досада смешна, а ее поведение не заслуживает не только злости, но даже и раздражения. Ведь ничего «такого» не было в ее жизни, надо понять, простить… Но что-то все равно очень сильно раздражало меня во всем этом. Причем тут ее узко-личное?! Причем женское?! Речь же идет о серьезном деле – о записках ОТТУДА! И вот эти дурацкие, чисто женские штучки…
И потом… Какие-то, словно бы неуместные, странные вопросы возникали во мне. Много странностей было… Вовсе не согбенную, сухую старушку увидел я, к ней приехав. Да, пожилую, совсем седую, отчасти больную, но – весьма бойкую женщину. Мне и в голову не могло прийти, когда ехал к ней, что начнется такое… «Мальчик… Ласки твоей, поцелуя… Брабантские кружева…» Понимаю, понимаю проснувшуюся потребность женщины, но… Не один раз замужем была, оказывается… Сын… С дочерью беда (как и с сыном), но… Дети ведь отчего-то рождаются. Не сами по себе. А значит… И потом: если сейчас такой могучий женский темперамент, то что же было больше тридцати лет назад, когда из лагеря освободилась?… Бывают судьбы и пострашнее, однако люди находят в себе силы, чтобы… Надежда Дурова, например… Лидия Русланова… Да много! Сколько мы знаем людей, отсидевших, но ведь не сломленных, нашедших себя потом… Дмитрий Сергеевич Лихачев, писатель Олег Волков, актер Георгий Жженов, поэт Арсений Тарковский, Шаламов, Слуцкий, Разгон… Да много, много… А Солженицын? Он же в «Архипелаге» своем прямо написал: «Спасибо тебе, тюрьма!» Не потому, что мазохизм, а просто: тюрьма заставляет осмыслить жизнь, понять ее, жизни, ЦЕНУ. А мои авторы писем о «Пирамиде»? А Кургинян?… Да, да, грешно, может быть, судить вот так – «чужую беду руками разведу», – но… Есть же все-таки разница…
Но письма продолжали идти. И рассказы. Вот еще один.
«Телефон» (Апассионата)
Я молилась на него. Молилась так, как встарь молились женщины перед иконой, страстно моля у бога счастья. Но бог им не помогал. И я ходила, прижимая к груди руки, и молила телефон: «Ну, позвони! Позвони! Нет сил знать, что на другом конце провода, далеко, есть он. Позвони! Дай воскреснуть от звуков голоса и жить этими звуками, этим смехом дальше!» Но телефон молчал. Упрямо, жестоко молчал. Мне казалось, что он неисправен, я поднимала трубку. Телефон отвечал гудком. А звонить – не хотел. Но иногда он вздрагивал и звонил. Я кидалась к нему. «Вот сейчас, сейчас я услышу милый, желанный голос, что-то скажу и услышу смех, хороший, мужской смех». Но телефон вдруг говорил: «Позовите Наташу». Я падала с неба на землю: «Какую Наташу? При чем здесь какая-то Наташа?» Собрав душевные силы, говорила: «Вы ошиблись номером». И все начиналось сначала. Сколько раз я звонила сама! Столько, что больше нельзя. Почему? Не знаю. Но нельзя. Нет, знаю. Назойливость противна. А я не хочу лишний раз обременять телефон своим звонком. Эх, Пушкин, Пушкин! Знал тайну, когда писал: «Любви все возрасты покорны». Фу, причем здесь любовь? Это молчит, как проклятый телефон. Лучше бы его не было. А зачем ему звонить? Зачем? Ему же неинтересно звонить. Мой номер свободен, никем не занят. Но телефон молчит. Нет, опять звонок. Кидаюсь, хватаю трубку. Приятельница: «Ну, как ты там, и т.д., и т.п.» Собираюсь, перестраиваю мысли. Разговариваем. Наконец, вешаем трубки. И опять молюсь на телефон. «Ну, позвони, ну скажи хоть что-нибудь». Позвони!!! Завтра 8-е марта. Позвони, телефон, позвони! Ведь от этого ты не испортишься? Позвони. Я буду холодно-корректно разговаривать. Я ничего никому не испорчу. Позвони! Ну подари мне один звонок! Не жадничай.
Но телефон презрительно молчит. Может, что-то случилось на другом конце провода? Что? Болезнь? Поездка куда-нибудь? А может, не хочется?
А мне-то как быть? Я жду, я молюсь – позвони. Всей силой нерастраченной страсти молю: позвони. Но телефон молчит. Молчит. Я боюсь уйти из дома. Вдруг в мое отсутствие он позвонит. Нет, невозможно. Невозможно находиться в одной комнате с молчащим телефоном.
Ну, хорошо. Телефон молчал в обычные дни. Но сегодня! Сегодня! Сегодня всех поздравляют. Всех женщин. Но только не меня. Позвони. Выругай меня за что-нибудь, все равно за что, но скажи хоть два слова. Позвони.
Тринадцать дней молчит телефон. И тринадцать дней я молюсь на серый диск на красном корпусе. Заклинаю тебя, дай мне последнюю и единственную радость в моей жизни, позвони. Такого в моей жизни еще не было. Ни разу. Пожалей меня, телефон. Хоть из жалости позвони. Я обещаю не беспокоить тебя никогда, ничем не напоминать о себе. Позвони! Я скажу тебе, как шутку, что люблю, что хочу тебя целовать. Нет, этого я не скажу. Про то, что хочу целовать – не скажу. Позвони! Не скажу, что я вижу целующей твои ноги, ступни, пальцы. И ладонь. Не скажу. Ну не молчи, позвони. Нельзя же так жестоко. Позвони, телефон. Молчишь? Тебе нечего мне сказать? Конечно, я понимаю это. Это так естественно. Я же не жду ничего. Бездушная ты штука – телефон. Если бы у тебя было сердце, не такое металлическое, ты бы позвонил. И все равно я жду радости от твоего голоса. Ты же мне пожелал быть счастливой в Ивановской. А если счастье в тебе? Позвони, телефон. В тебе все счастье. Жду…
И не выдерживаю. Звоню сама. Я ничего не могу сказать. Я молчу. Мне только услышать голос. Идут к нему звонки. Долго никто не подходит. А я жду. И вдруг… «Алло (подождал)… Не слышно ничего. (Я молчу и слушаю музыку его голоса)» Опять: «Не слышно ничего, перезвоните (я молчу)… Перезвоните еще». И кладет трубку.
Сегодня мне есть, чем жить, я слышала Его голос. Прелесть моя, счастье мое последнее в этом солнечном мире, радость моя!! Если бы ты знал… Хорошо, что ты не знаешь.
Спасибо, телефон. Ты меня выручил. Я слышала его милый голос, для меня он звучит слаще «Элегии» Массне. Телефон передал мне всю прелесть окраски этого голоса, он придал мне силы ждать его звонка. Я изнемогаю. От любви, от страсти, от счастья, что я его люблю.
Пусть – не нужна. Так и должно быть. Но какое счастье любить самой! Я не обижаюсь на тебя, телефон, что ты не звонишь. Я слышала его голос. Может, он позвонит когда-нибудь сам. Знай, телефон, – я жду. Позвони.
7 марта 88 г.