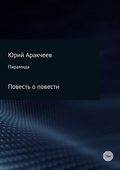Юрий Сергеевич Аракчеев
Пирамида жива…
Эхо
Я вовсю сочинял «Пирамиду-2» и постепенно приближался к «Письму № 166» – давно решил, что посвящу В.В. самую последнюю часть, – когда однажды пришло от нее письмо совершенно отчаянное. И впервые на «ты». Она подозревала меня либо в душевной болезни, либо в алкоголизме («Ты либо больной, либо алкоголик…»). И еще много неприятных, унижающих ЕЕ слов. Она считала, что я «побрезговал» ею, хотя, якобы, «хотел», но… Ей мерещилось, что в последний свой приезд (за дефицитной цветной фотобумагой, которую она мне через каких-то своих знакомых достала) я, будто бы, хотел «овладеть» ею, но «не решился сделать первого шага». А в конце – требование вернуть ее записи. Вот это номер.
Грустно все это было, но я, честно говоря, ожидал чего-то подобного, потому что звонки в последнее время были совсем уж невыносимы. И она даже грозилась приехать: «Свалюсь Вам на голову, не возражаете?». Свят-свят-свят, упаси Боже!… Иной раз, слыша междугородный звонок, я даже не брал трубку. Но по межгороду звонила ведь не только она, так что и это не выход. Однажды в сердцах я сказал ей приблизительно следующее:
– Как же Вам не стыдно! Вы ведь просто навязываете свое внимание и добро (имел в виду посылки), совершенно не считаясь со мной. Добро насильно – это не добро, а зло. Нельзя «железной рукой загонять человечество в счастье» – это же смысл моей «Пирамиды»! Так и кажется, что сталинское время наложило на Вас неизгладимый отпечаток, вы пострадали от него, но сами теми же методами действуете!
Было жутковато от своих собственных слов, но так ведь оно и есть! Она почувствовала себя глубоко оскорбленной…
И вот теперь это, последнее письмо.
Я был ему даже рад. Раньше еще написал, было, ей «объяснение начистоту», но пожалел ее и не отправил. Теперь же, как говорится, сам Бог велел.
Конечно, я постарался отредактировать помягче, попытался доходчиво объяснить, что ведь никогда, ни разу не давал повода, что мы познакомились совсем на другой почве, что очень уважаю ее как почтенного человека с трудной судьбой, верю в искренность ее добрых порывов, однако… Пришлось даже напомнить, что у меня молодая жена… Что же касается записей, то причем же тут они, ведь они мне нужны, я приближаюсь в своей повести к тому месту, где буду использовать их. Конечно, я приношу извинения за то, что все длится так долго, но ведь работа очень большая – писем много и тоже весьма впечатляющих, – я ведь не бездельничаю…
Увы, звонок после того, как она получила это письмо, был такой:
– Вам не стыдно за Ваше послание? Давайте, я пришлю Вам его назад, хотите?
Разумеется, я еще раз подтвердил, что могу только повторить все, что написано, и что напрасно она читала его, очевидно, невнимательно… Увы, она еще раз потребовала вернуть ей тетради.
– Но Вы же не один раз говорили, что они – моя собственность, что написали их благодаря мне, – попытался напомнить я. – Неужели Вы видите во мне только лишь мужика?
– Неважно, кого я в Вас вижу, – перебила она. – Мало ли, что я говорила. Пришлите мне их, и все.
Честно говоря, мне это надоело, но собрать ее записи, которые лежали по разным местам среди множества писем, а потом идти на почту, стоять в очереди, чтобы отправить увесистую бандероль… А как же общая наша работа, как же финал моей повести – я ведь действительно думал сделать последнюю часть о ней… И все – из-за дурацкого каприза пожилой, неизвестно что вообразившей женщины… И я попросил ее еще раз подумать.
– Они вам не нужны все равно, – раздраженно повторила она. – Прошло два года, а вы за это время не написали ни строчки.
– Во-первых, все же не два. А во-вторых, ни строчки о вас – это еще не значит, что… Я же сказал вам, что часть о вас – последняя, заключительная в большой моей книге, так что…
– Я вам не верю, – перебила она опять. – Мне нужны мои тетради, и все. Я постараюсь сама их напечатать. Уже договорилась кое с кем.
Что было делать?
– Хорошо, – сказал я. – Так будет действительно лучше. Вы систематизируйте их, перепечатайте, если сможете, а потом пришлите экземпляр мне, если, конечно, хотите. Так мне будет гораздо легче вам помочь.
Я собрал тетради и отослал. Все, кроме одной.
Она получила их, взялась за работу, расположила в нужном порядке и убрала лишнее, как сказала. И сумела их даже перепечатать. А потом попыталась опубликовать. Да, я понимаю, что она торопилась…
Но с публикацией что-то не очень получалось, о чем она однажды пожаловалась мне по телефону: «Говорят, что нет стержня…»
– Ну, так я же говорил Вам об этом! – досадовал я. – Пришлите мне экземпляр, я попытаюсь помочь. Теперь, с перепечатанной рукописью это будет проще. Даже до окончания моей повести.
И она пообещала прислать.
Но рукопись долго не приходила, а я в своей повести уже начал рассказ о ней…
Позвонил, услышал, что она, якобы, уже посылала мне рукопись, но «неправильно написала адрес», и рукопись к ней вернулась. Это было странно. Ведь она столько раз уже посылала мне и посылки, и бандероли. Странно, но я все же сказал:
– Ведь я уже взялся за ту часть, где речь о вас. Если не хотите все прислать, то хотя бы некоторые рассказы. А там посмотрим. Ведь если моя повесть выйдет, то это и будет рекламой для всей большой вашей книги…
Рукопись не приходила. Наконец, я позвонил Валентине Владимировне:
– Ну, что же вы? Ведь в повести своей я теперь только с вами! Простите, ради Бога, что так долго пришлось ждать, но ведь повесть большая, ваша история в конце, она начинается на четырехсотой с чем-то странице. Скоро совсем заканчиваю, но теперь-то мне очень-очень нужны ваши записи. Я хочу кусками вставлять их в текст, разумеется, сохраняя ваше авторство, как и задумано было в самом начале…
Она отвечала кисло. Она сказала, что прошло уже слишком много времени, и ее теперь все это мало интересует. «Ведь прошло почти три года…»
– Почти три года – после выхода «Пирамиды», – возразил я. – Но ведь вы же как раз и писали все это время, тогда ведь у вас ничего не было! Вы же сами сказали, что вас прорвало. Я ведь тоже все это время работал – вы даже не представляете, сколько мне пришло писем (не говоря уж о «Карликах»), и ваша история не единственная. Далеко! Но теперь-то, наконец, почти все. Теперь-то я только с вами!
Да, она опять обещала прислать. А я оставлял места в рукописи, чтобы потом вставить куски из ее рассказов. Например, о днях, проведенных в «расстрельной» камере – в ожидании «исполнения приговора»; или о «лагере доходяг», где был достигнут «социалистический идеал» – полностью стерта грань между женщиной и мужчиной: их ведь даже содержали на одной территории, хотя и в разных бараках, и в день умирало по несколько человек – и тех, и других, – правда, мужиков все-таки больше: слабый народ!… И еще, к примеру, о женской палате в «психушке», где у одной из пациенток была страсть танцевать почему-то голой, другая постоянно «летала», третья качала несуществующего ребенка – ну прямо фрагменты «бала у Сатаны» из романа Булгакова… Я хотел вставить кусочки ее воспоминаний в эту часть своей повести – так, чтобы они перемежались с ее теперешними письмами.
Но бандероль от нее не приходила.
И я опять позвонил, и она сказала, что рукопись послана не мне, а в какой-то журнал, а больше у нее нет экземпляра…
– Ну, что ж, сказал я, ладно. У меня остались ваши письма и одна тетрадка. Придется обойтись ими. Жаль, очень жаль.
Этот разговор был, кажется, в ноябре.
Моя страна?
Всю жизнь я (как вы, наверное, как каждый) ждал – да и сейчас все еще жду – перемен. Волшебных, конечно, ибо здравый смысл говорит: безнадежно, посмотри вокруг, с чего же это вдруг начнется другая жизнь? Ведь НИКТО у нас не живет человеческой жизнью, как ты ее понимаешь. Откуда же она у тебя-то возьмется? Мы все фактически в заключении или в «психушке». Объявленные сначала «перестройка», а потом и «демократия» ничего не изменили в нашей жизни по существу. Те же «хозяева» (только зовутся теперь по-другому), те же амбалы, убивающие лучших, развитых, культурных ради продолжения своей «ограниченной» жизни. «Ограниченные! Разве так трудно понять вам, что и вы не живете толком, гнобя «развитых», холя и лелея лишь свою родную задницу, загораживаясь «бабками» от многоцветного, многозвучного мира? Ведь колокол звонит и звонит…»
«Кюстиновская» пирамида! (Да простит меня благородный, честный маркиз за то, что я так треплю его имя…) Можно сказать «Николаевская», – но ведь и до Николая I она громоздилась в России. И после… И сейчас… Наша она. В наших душах. Увы. Хотя… Я ведь учился (причем в «советское время» бесплатно), работал. И я учился работать. Конечно, хотелось большего, так хотелось по-настоящему развернуться – чтобы публиковалось то, что пишу и фотографирую, чтобы отдавать людям то, что могу. И еще так хотелось объехать мир (как всем, конечно, как всем…). В воображении я давно уже объездил его, предварительно составив желанный маршрут… Конечно же, гостил на островах Южных морей и фотографировал там – и в Индонезии тоже, и на островах Малайского архипелага, и в Африке глубинной, и, конечно, в бразильской сельве в бассейне реки Амазонки. И любовался мавзолеем Тадж-Махал в Индии, и пирамидами Египта, и ослепительно-синими средиземноморскими далями, и закатами на Гавайях, и бродил по саваннам и тропическим лесам королевства Конго, и был на мысе Горн и на острове Пасхи… Да, все это в воображении, живя сначала в комнате коммунальной квартиры, а потом – став автором нескольких книг, многих публикаций в центральной прессе и членом Союза Писателей – получив маленькую квартиру в доме, который выселяли под общежитие и все никак не могли выселить, и он стал «бесхозным», а потому текла канализация в подъезде, выбиты были окна, буянили пьяные «стройбатовцы», приходившие в гости к «лимитчицам», которых все-таки в наш дом поселили… И все же…
Разве, положа руку на сердце, я могу сказать, что был несчастен? А «джунгли во дворе»? А «космос» цветных растворов? А путешествие с фотоаппаратом на парковых и лесных полянах сначала, а потом и поездки дальние?… Ведь билеты тогда были дешевые, а еще от Союза Писателей давали «творческие командировки», вовсе не заставляя меня писать не то, что я сам хочу… А путешествия мои на дорожном велосипеде? Да, по родной стране я поездил (в отличие от многих, которые и этого не смогли…) – даже книги писал об этих поездках, и видел, и фотографировал многое. Но почему же я (и разве же только я?) никак не мог хотя бы отчасти осуществить то, что для обычного работящего человека Европы или Америки считается вполне обыденным делом? Я (как и вы) гражданин крупнейшей страны планеты (шутка ли – одна шестая часть суши!), богатейшей по природным запасам… В нормальной стране я (писатель, автор десятка книг, множества статей, многих тысяч профессионально выполненных слайдов и прочая, прочая…) мог бы не только объехать мир, я, может быть, купил бы небольшой остров (с цветами и бабочками)… Как многие, многие из тех честных, порядочных, работящих людей, которых всегда хватало в России… Так почему же… Да, кто-то и в прошлые годы бывал за границей – с милостивого разрешения начальства, под недреманным оком «органов», испытывая постоянные унижения… Да, теперь-то тем более ездят – если удается накопить на путевочку, если выдадут, наконец, месяцами удерживаемую зарплату, если чудом удастся где-то как-то подработать… Или – вот уж везение так везение! – если милостиво пошлет теперь другое (но сплошь да рядом ВСЁ ТО ЖЕ) начальство… А ведь это – моя страна. Наша.
Моя ли? Наша ли?
Хозяева
Только в 90-х случайно попал мне в руки журнал «Известия ЦК КПСС», возобновленный в 1989 году, не издававшийся с 1929 – шестьдесят лет… Фотографии и краткие биографии первых секретарей обкомов. Боже ж мой, какие лица. Сам фотограф, я знаю, что и не блещущее интеллектом лицо можно снять так, что хоть не стыдно будет. А тут… Неужели даже фотограф не мог ничего сделать? А они-то не видели разве? Или посчитали, что все правильно, так и надо, фотографии СООТВЕТСТВУЮТ? А ведь именно они, эти люди, держали истинную власть в нашей стране – словно пауки на гигантской, на одну шестую часть суши, паутине. Крепко держали, все нити были в их руках. Редко-редко мелькнет лицо нормальное, а главным образом… Жуть. И упорство, и «бескомпромиссность» в глазах, безжалостность абсолютная. Ради чего? Неужели ради «светлого будущего всего человечества»? Сомневаюсь… Одинаковые, стертые, НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ лица. А ведь не только власть – вся жизнь подданных была фактически в их руках. Не от природы, не от Бога зависела она – от них… Одного я знал, когда он был еще секретарем райкома. Случайно тогда попал на воскресный обед – «обед в страду» (он описан в моей повести «Постижение»), – случайно оказался свидетелем пьяного, отвратительного застолья, во время которого «пред очами хозяина» предстал срочно вызванный порядочный сельский учитель, которому пьяный царек «давал указания»: велел прислать на «сельские работы» сотню учеников, хотя занятия в школе уже начались. Изо всех своих интеллигентских сил защищал учитель своих питомцев, да где уж. Против лома нет приема… «Светлое будущее»? Вот кто якобы «строил» его. Они.
Только опять же: причем здесь идеология? Насколько я знаю, ни у Маркса, ни у Энгельса нет ни слова об «Архипелаге ГУЛАГ» или о чем-то подобном, а, наоборот, есть утверждение, что социализм – это «от каждого по способностям, каждому по труду». И еще, что социалистическое общество должно стремиться к «всестороннему развитию каждой личности». А также: «свободное развитие каждого – гарантия свободного развития всех». Ничего такого я как-то не наблюдал у наших «советских» лидеров. А вот «Архипелаг ГУЛАГ» – это как раз изобретение «марксиста» Ленина, об этом очень ярко свидетельствуют его распоряжения и письма, опубликованные в 50-м томе (очевидно, и в других тоже). В этой связи нужно заметить, что если кто-то объявляет себя кем-то, то это вовсе не значит, что он этим «кем-то» является. Был ли Ленин на самом деле марксистом – большой, большой вопрос…
Да, я понял, почему эти «Известия» столько лет не издавались. И вот – попробовали, возобновили. Все – на виду. Стальные звенья. «Гвозди бы делать из этих людей».
А сейчас что же? Что у нас изменилось по существу? Что сделали-то с великой страной?
И по жестокой иронии судьбы в тот же день, что и «Известия ЦК», попался мне журнал «Огонек» с рассказами и статьей о Варламе Шаламове. И тоже с фотографиями. Этот мученик, отсидевший не один десяток лет в страшных сталинских лагерях, сумевший описать то НЕБЫТИЁ, прославившийся на весь мир рассказами о том кошмаре, почти не печатался при жизни на родине, а умер, хотя и «реабилитированный», – в доме для престарелых. В журнале была одна из последних прижизненных фотографий… Ослепший, оглохший, смертельно больной писатель, гордость Родины, стоик и мученик, сидит на убогой постели в том самом доме и протягивает руку к чашке с молоком… Как сопряглась эта фотография с теми «бескомпромиссными» лицами! Коварно сопряглась… Коммунизм, говорите? Светлое будущее? Ну-ну.
О чувствах тут говорить не приходится, как, разумеется, о чести, совести и других «буржуазных предрассудках». Но где же хотя бы элементарная вменяемость, где ощущение реальности?
Нет, у нас не страна дураков. У нас немало и умных людей. Но у нас ПРИОРИТЕТ ДУРОСТИ, вот в чем дело. Приоритета ума у нас нет, от него одно только горе. А вот дурость – милости просим, пожалуйста. Не думаю, что в других странах дураков меньше, чем в нашей. Как бы не так! Но сомневаюсь, чтобы где-то еще дураки пользовались таким режимом наибольшего благоприятствования, причем – особенно! – в «высших эшелонах власти»…
Страна ВЛАСТВУЮЩИХ дураков – вот что такое моя страна.
Но одного я никак не могу понять. Почему же мы-то им позволяем? Почему, поручая кому-то управленческую работу, мы фактически никак его не контролируем, позволяя не только не выполнять своих обещаний, свой долг, но унижать нас, обманывать, воровать и убивать? Даже за явно совершенные преступления мы самых главных своих «вождей» не судим. А вместо этого постоянно хвалим, что бы они ни сделали. Почему? Ведь «вожди» наши – такие же люди, как мы. Разве что спрос с них должен быть больше. Почему же мы так и норовим сделать их чуть ли не богами? За что?
Кончина Валентины Владимировны
Последний наш телефонный разговор был в ноябре.
А в декабре мне позвонил мой ленинградский друг, у которого я останавливался, когда ездил к ней, и телефон которого она знала. Он сказал, что Валентина Владимировна Бобрович умерла две недели назад. Его номер телефона нашли в ее записной книжке вместе с моим.
Никаких подробностей ему не сообщили. Сказали только, что похоронили ее с почетом и за счет предприятия, где она в последнее время работала – преподавала музыку и танец детям.
Потом я выяснил, что она заболела воспалением легких и умерла в больнице через неделю. От инфаркта.
«Поедем со мной, девушка!» (счастливый день)
(рассказ В.В.Бобрович)
Ноябрь на Колыме – месяц зимний. Правда, солнце еще восходит, но едва-едва приподнимается над лесом или над небольшими сопками. Морозов больших еще нет, а так, пустяки, градусов 20.
Река Колыма уже встала. Лед держит лошадь с поклажей, и поэтому начинается возка дров, заготовленных на другой стороне Колымы. Дрова сухие, годичной выморозки, легкие. Ехать в ноябрьский солнечный день за дровами приятно.
По обеим берегам реки стоит стеной коричневая тайга, по колено в снегу. Солнце перебирает алмазы на ветках, и они блестят, играют, переливаются, как будто и вправду не иней. Тишина кругом. Дорога по льду уже накатана. Лошадь-якутка бежит охотно.
И вот в такое сказочное утро поехала я за дровами, которые должна привезти на конбазу. А раз на конбазу, то и лошадь дали мне выездную, для проминки. Да еще и потому дали ее, что зав.конбазой знал мою любовь и умение обращаться с лошадьми.
Сижу в санях, спиной по ходу. Дорога убегает из-под саней, солнце окрашивает все вокруг в волшебные тона. На душе спокойно, конвоя со мной нет, и кусок хлеба за пазухой. А что еще надо молодой, здоровой женщине-заключенной. Столько лет – многолюдье бараков осточертело. И поездки за дровами воспринимаю как счастливые подарки судьбы. Ехать надо 8 км. В общем, я блаженствую, если можно блаженствовать в моем положении. Точнее, я наслаждаюсь моментом.
Проехала уже больше половины пути, и вдруг лошадь моя резко встала, затанцевала, зафыркала. Я скатилась с саней и остолбенела. На дороге впереди лошади стояли нарты, в которые были впряжены 6 оленей – они улеглись на снег вокруг нарт. А мою лошадь держал под уздцы красивый парень, в унтах, в якутской парке. Оставив лошадь, он подошел поближе ко мне. И мы стоим, молча разглядывая друг друга. Он смотрит на меня с улыбкой, я – испуганно.
Молчание затянулось. Наконец, он, смеясь, спрашивает:
– Испугалась?
Что я могла ему ответить? Я кивнула головой.
Он подошел вплотную и сказал:
– Не бойся, не обижу.
Я ему почему-то сразу поверила. Спросила, куда он едет. Оказывается, он охотник и уезжает на всю зиму. Где-то в тайге у него есть избушка, зимовье. Припасы он везет с собой, а оленей пустит пастись до весны. А там найдет их и поймает.
Я посмотрела на нарты – они были высоко нагружены и увязаны по брезенту веревками. Я позавидовала ему, сказав, что он счастливчик.
Вдруг парень обнял меня как-то по-дружески за плечи, заглянул в глаза и сказал:
– Поедем со мной, девушка? До весны доживем, припаса хватит на двоих, а там – посмотрим, что делать дальше.
Я отшатнулась:
– Что ты парень? Я же с лошадью.
Он ответил, что лошадь завернем обратно, она сама дорогу на конбазу найдет.
У меня в мозгу все замелькало пестрой лентой. Понеслись картины прелести жизни в тайге с этим красивым парнем. Я вся загорелась ринуться с ним в неизвестность. Срока у меня было еще года четыре. Чего мне терять? Зону, барак? И вдруг – стоп! Мне же добавят за побег еще 10 лет, я же никогда не выберусь из лагерей.
Если бы я тогда знала, что через два месяца после моего освобождения умрет Сталин, и я так и так буду освобождена!
Но я этого не знала, и не думала о главном мучителе, а думала, что за миг счастья буду терпеть годы муки. И не согласилась.
Но парень настаивал. Ни я, ни он не спросили имен, но он нежно стал меня целовать в губы, в щеки. Между поцелуями уговаривал, склонял, даже тянул за руку к нартам. Время шло. А мы стояли и говорили. Но договориться не могли. Я окончательно пришла в себя и соврала ему. Я соврала, что мне осталось отбывать четыре месяца, а добавят десять лет.
Этот аргумент был для него святым. Он сам отбыл как ЧСР (член семьи изменника Родины) десять лет. Ах, как он жалел. Он отпустил меня. Я подошла к своей лошади, поправила сбрую. Села в сани, свистнула. Лошадь застоялась и сразу взяла крупной рысью.
Он стоял и махал мне рукой. И вдруг он замахал двумя руками и бегом побежал за мной, крича, чтобы я остановилась. Я придержала лошадь.
Он догнал меня, слегка запыхался, но с улыбкой спросил:
– А звать-то тебя как? Я за тобой приеду. Ты какого числа освобождаешься?
И мне пришлось ему врать, врать, врать. Я врала не ради шутки, я врала, спасая себя от добавочного срока сначала, а потом от безысходности.
И мы расстались. Я гнала лошадь в галоп, чтобы наверстать упущенное время. В лесу погрузила все удачно, быстро и поехала обратно. Мне так хотелось еще раз увидеть этого Сашу. Но его не было уже на дороге. Только был примят снег, где лежали олени, да валялись два окурка махорочных закруток.
Несколько дней Саша стоял, как живой, перед глазами. Сердце тосковало. Потом в суете лагерной жизни образ его потускнел, а потом и вовсе забылся. А годы мои тогда были молодые. Пора, давно пора было замуж. Но все было отнято. Все. Лагеря подготовили мне мое проклятое, а иногда и сладкое одиночество до смерти.
Будьте вы прокляты, лагеря. Будь проклято прошлое. Ради чего все это было? Кому это было надо? 70 лет жили то те, то другие у кормила, у кормушки. А остальные? Кто погиб, кто обездолен. За что? С кого спросить? Не с кого. Одни воспоминания, одни воспоминания…