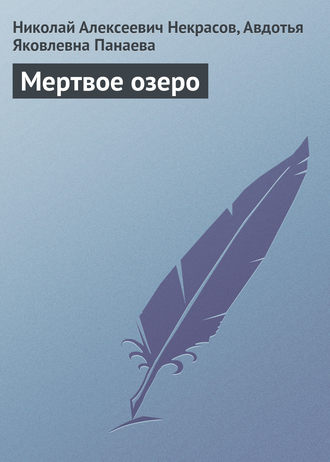
Николай Некрасов
Мертвое озеро
Часть третья
Глава XIII
Прачка
В одной из отдаленных улиц города NNN, в глубокую осень, вечером часов в десять, молодой человек, плотно закутанный в серую шинель, медленно прохаживался около покачнувшегося забора, посматривая на противоположный чистенький двухэтажный домик, верхний этаж которого был ярко освещен. В запотевших окнах его поминутно мелькали разряженные фигуры.
В подвале топилась лежанка, и оттуда также выходил яркий свет, отражаясь в лужах, стоявших на кирпичном тротуаре, который приходился в уровень с низенькими окнами. Разительную противоположность представлял средний этаж, тускло освещенный лампадами, теплившимися у икон в богатых ризах. Окна его по первое стекло были завешены кисейными занавесками; печально и одиноко стояли на них горшки герани и густою тенью рисовались на стеклах.
Около часа неизвестный господин в шинели ходил как маятник против дому, казалось не замечая ни диких визгов ветра, смешанного с лаем собак, ни мерного дождя, ни скрыпения старых заборов, ни шипения торчавших за ними голых дерев, которые при каждом порыве ветра гнулись во все стороны и своими прутьями колотили по забору. Наконец он быстро перебежал на другую сторону улицы и стал смотреть в окно подвала. С первого взгляда низенькую и широкую комнату можно было принять за корабль: веревки были растянуты по всем направлениям ее и висевшее на них белье покачивалось, как паруса. Убранство комнаты не отличалось роскошью: огромная кровать с ситцевыми пологами, возле нее сундук, окованный железом, небольшой шкап, один полуразвалившийся стул, большой и маленький стол – вот и всё. И, однако ж, в комнате было тесно. Платяные корзины, одна на другой, стояли на полу; юбки, тугие, как пергамент, висели по стенам. Корыто с синей водой помещалось на сундуке, и утюги валялись где ни попало.
За небольшим столом сидела худая женщина лет под сорок, с головой, повязанной по-купечески. В движениях ее было что-то судорожное; на ее желтом и костлявом лице резко отражались следы тяжелого труда. В ее быстрых карих глазах и в большом рте с узенькими губами было много желчи. Она хлебала щи из большой деревянной чашки и за каждым глотком с какою-то злобою бросала ложку далеко от себя.
На скамье, в простенке между двумя окнами, за небольшим столом, гордо и беспечно сидел пожилой человек в ситцевом архалуке, с плотно остриженной головой, с небольшими усами, торчавшими кверху, и с серебряной серьгой в левом ухе. Трудно было уловить черты его лица, которое всё состояло из крупных складок и походило на сплоенное жабо. Глаза едва виднелись из-под густых бровей и напухших век. При каждой ложке он страшно разевал рот. Помещавшийся подле него на столике кот, весь черный как смоль, с жадностию следил за каждым глотком своего хозяина, облизывался своим розовым языком и то щурил, то таращил свои злые, с зеленым блеском, зрачки. Другой кот, дымчатый, обнаруживал более спокойствия: поджав все четыре лапки, он лениво открывал по временам заспанные глаза, осматривал каждый предмет и, остановись на нагоревшей свече, стоявшей против ужинающего, апатично закрывал их.
На оконнице, очень высокой от полу, сидел еще третий кот – серо-желтый. Он был тощ и жалок, робко смотрел на хозяина, подергивал ушами и беспрерывно менял положение.
Подбежав к окну подвала, молодой человек высунул было руку, чтоб постучать в стекло, но, как бы испугавшись холоду, пугливо спрятал ее под шинель и побрел к воротам. Он постучал в дверь подвала, где ужинали.
– Кто там? – отвечал ему крикливый женский голос.
– Это я! – робко сказал молодой человек, высунув голову в дверь и по-прежнему закрывая лицо воротником шинели, поднятым выше головы.
Женщина привстала и ладонью начала вытирать губы.
– Мое белье готово? – поспешно спросил молодой человек, входя.
– Нет! да я ведь в четверг обещала! – с неудовольствием заметила женщина, подходя к двери.
– Хорошо-с, хорошо-с! – быстро отвечал он и захлопнул дверь.
– Ишь ты, как приспичило!
Она не успела договорить, как дверь снова раскрылась и тот же робкий голос спросил:
– Катенька наверху?
– Спит!.. на что вам? – довольно резко спросила она.
– Прощайте, прощайте! – пробормотал едва внятно господин в шинели и скрылся.
– Чего ннна…дддо? – жуя, спросил ужинающий.
– А тебе на что? – крикливо отвечала женщина, садясь снова на свое место. – Вишь, нелегкая носит по ночам таскаться за бельем! – прибавила она себе под нос.
В подвале квартировала прачка Настасья Кирилловна с сожителем своим отставным унтер-офицером Куприянычем и двенадцатилетней дочерью Катей. Судьба Настасьи Кирилловны не всегда была так печальна: в молодости она была стройна и хороша собою и жила с бабушкой, женщиной небедной, но сварливой и строгой, которая никак не хотела выдать ее замуж, – может быть, не желая лишиться попечений внучки. Несмотря на строгость и зоркость бабушки, молодая мещанка, к несчастию своему, умела провести ее, и когда полк вышел из города, отчего Настя стала горевать и худеть, – старухе донесли о проделках внучки. Старуха лишила ее наследства и скоро умерла.
У Насти явилось много женихов: подозревали, что у ней есть деньги. Но она всем отказывала и, сделавшись первой прачкой в городе, дни и ночи работала, лишь бы скопить что-нибудь своей дочери Кате, которую любила с редкой нежностью.
Раз прачка простудилась и слегла; слезам ее не было конца. Мрачные мысли не давали ей покою. «Ну что, если я умру, – думала она. – Катя останется сиротой».
Вероятно, этот страх решил судьбу Куприяныча, который уже не раз сватался за Настю через сваху. Свадьба была слажена, как только прачка оправилась. Она решилась выйти замуж для своей Кати, потому что будущий муж имел капитал, по словам свахи, и желал иметь жену для одного порядка, по его собственным словам. Но каков был ужас молодых, когда на другой день после свадьбы они узнали, что оба ошиблись в своих надеждах: Куприяныч, обманутый слухами, ходившими по городу, рассчитывал тоже на капитал прачки. Но Куприяныч не оробел: он твердо сказал, что знать ничего не хочет, женился для спокойствия и не намерен работать!
Слезы и ссоры не замедлили украсить их жизнь. Прачка скрепя сердце вынула небольшую сумму, скопленную потом и кровью для своей дочери, и уплатила долги по свадьбе. Забот и трудов у ней вдвое прибавилось, потому что Куприяныч целые дни лежал на раскаленной лежанке с своими котами, которых так уважал, что не позволял никому до них дотрогиваться. Несмотря на отсутствие моциона, аппетит его был удивителен. Впрочем, очень понятно: жизнь его текла мерно и ровно, – ни забот, ни тревог он не знал. На Катю он смотрел как на вещь, необходимую в его доме. Раз ему пришла мысль вмешаться в воспитание Кати: он хотел ее наказать, но мать пришла в такое негодование, что Куприяныч махнул рукою, и его любовь сосредоточилась на котах.
Однако ж он любил их неодинаково: серо-желтый худой кот был вечно в загоне. Куприяныч кормил его так плохо, что бедный кот принужден был прибегать к краже, за что прачка беспощадно колотила его, довольная случаем выместить свою злобу, которую питала против кошек вообще.
Вероятно, вследствие чрезмерного голода серый кот решился последовать примеру своих товарищей и робко вскочил тоже на стол. Куприяныч замахнулся на него ложкой и проворчал:
– Ишь, туда же!
Бедный кот с ужасом соскочил со стола и кинулся на окно, возле которого сидела прачка; вероятно думая разжалобить ее, он нежно мяукнул.
– Я те помяукаю! уж придушу когда-нибудь! – грозно крикнула прачка.
Несчастный кот кинулся под кровать, но, увидя, что погони нет, тихонько взобрался на горячую лежанку – покушение, за которое уже не раз ему доставалось, – и, севшись на засаленную подушку, начал наблюдать за своими гонителями.
– А что Катя не ужинает? – спросил Куприяныч, глядя в глаза черному коту.
Прачка резко отвечала:
– Спит; разве не слыхал, как она сверху пришла?
– Нет!.. а что?
– Да, говорит, там гости, в карты играют, а деньги так и валяются по столу!
И прачка злобно усмехнулась, потом сердито нахмурила брови и тяжело вздохнула.
– Вот, а ты зевай да жди денег! Не правда ли, она дура? – прибавил, улыбаясь, Куприяныч, обращаясь к черному коту, который облизнулся и подвинулся ближе к нему.
– Да что ты меня учишь? – грозно закричала прачка. – Слава богу, ни за кем еще не пропадали деньги! Уж, кажись, домовые хозяева хуже всяких жидов, даром что богатые да руки склавши сидят, а небось зажилить хотели два рубли! Ведь получила же!!
И лицо прачки всё задрожало; она сердито оттолкнула чашку со щами и, сложив руки, судорожно сжала их, как бы стараясь усмирить свое волнение.
– Слышь, отжилить хотели! а еще дом свой! – заметил Куприяныч дымчатому коту, который в ответ сладко зевнул.
– Да что за дом! знаем мы, как им достался: у племянника отжилили… мне Сидоровна всё рассказала! Намеднись я принесла наверх белье – горничная пьет кофей в кухне. Я и говорю: нельзя ли денег? «Обождите», – говорит. Ну, нечего делать! Если б не ласкали Катю, и дня бы не стала ждать. А то, словно барышню, сама ее завьет и читать посадит.
Прачка улыбнулась, но на одну минуту; лицо ее снова приняло сердитый вид, и она продолжала:
– Да и то сказать, чем моя Катя хуже ее?
Краска выступила на желтом лице прачки, и она, подумав, с ужасом сказала:
– Ну, а как я умру?.. что с ней будет?
И прачка задумалась, покачивая головой. Потом она гневно обратилась к мужу с упреком и сказала:
– Небось ты и себя-то не сумеешь прокормить?.. Сиротка!
Прачка вытерла слезы.
Куприяныч подмигнул котам и, указывая головой на жену, сказал:
– Ишь, плачет… Ну что расплакалась! – прибавил он, повернув голову к жене. – Лучше дело делай.
Прачка грозно привстала и презрительно закричала:
– Ах ты дармоед, лежебок! тебе лишь бы с своими котами лежать. Да ты смотри у меня: я их всех передушу!
Прачка горячилась. Куприяныч равнодушно выносил гнев своей сожительницы и с любовью гладил по спине черного кота, который вытягивался, приподнимая заднюю лапку, и обнюхивал чашку.
Куприяныч поддразнивал жену:
– Ишь, душить?!
– Да, задавлю! – кричала прачка.
– Только ударь! – грозно и мерно произнес Куприяныч, выразительно подняв руку.
В ту минуту на постели послышался детский лепет; занавеска раздвинулась: выглянула сонная испуганная головка хорошенькой двенадцатилетней девочки. Девочка пугливо произнесла:
– Мама, мама!
– Спи, спи, я здесь! – кротко произнесла прачка, и на ее лице не было уже и тени злобы.
Личико скрылось за занавеской. Прачка села на прежнее место, облокотилась рукой на стол и подперла голову. Куприяныч вытаскивал говядину из щей и кормил котов.
– Куприяныч! – вдруг произнесла прачка кротко.
– Что? – лениво отвечал муж.
– Знаешь что? – Лицо прачки прояснялось, по мере того как она продолжала. – Не попросить ли мне его милость устроить мою Катю? Ведь Семен Семеныч не раз говаривал мне, что его барин такой добрый, уж скольких пристроил! они теперь не хуже верхней живут. А чем моя Катя хуже, а?
Куприяныч всё свое внимание сосредоточил на котах, любуясь, как они опускали свои лапки в чашку и потом облизывали их.
– Ну что же ты молчишь? – обиженным тоном спросила прачка.
– А мне что за дело! Твоя дочь!
Прачка вспыхнула. В то же время взор ее упал на стол, и она увидела страшное зрелище: серый кот лизал чашку, из которой она ела. Прачка схватила его за уши, подержала на воздухе и с наслаждением брякнула об пол, сказав:
– Ах ты окаянный!
На мяуканье кота Куприяныч пугливо оглянулся и сердито заметил:
– Ну что расходилась?!
– Ну не грех ли тебе поганить посуду? Я их до смерти заколочу!
– Полно же озорничать! – уже смотря прямо на свою жену, сказал Куприяныч, и лицо его слегка сгладилось; серебряная серьга запрыгала в ухе.
Прачка стиснула зубы, бросила робкий взгляд на кровать и неожиданно повернулась спиной к грозному Куприянычу. Поправив светильню у лампады, нагар которой, упав в масло, жалобно зашипел, она прибрала немного в комнате и зевнула. Раздевшись, она осторожно улеглась возле своей дочери, продолжавшей крепко спать, перекрестила ее и долго еще, засыпая, шептала:
– Господи, господи, да будет воля твоя!..
А Куприяныч тем временем любовался, как его коты лизали чашку. Наконец и он начал зевать, прокричал котам:
– Ну, налево кругом! – и, быстро схватив чашку, опрокинул ее.
Коты поскакали со стола. Куприяныч погасил свечу и улегся. Постелью его была раскаленная лежанка, на которой без затруднения можно было бы зажарить жаркое. Но он только крякнул от удовольствия.
Через несколько минут храпенье обитателей подвала смешалось с мерным стуком дождя, падавшего на кирпичные тротуары, и с мурлыканьем котов. Лампада уныло освещала подвал и серого кота, который, почувствовав себя на свободе, везде лазил, всё обнюхивал; наконец, устав, улегся на глаженом белье, уложенном в корзину, и своим мурлыканьем присоединился к общему концерту.
Прачка уже видела сон, что Катя ее выросла и, одетая в богатое шелковое платье, танцует с офицерами; сама же она сидит в хорошем обществе и пьет самый крепкий кофий.
А между тем молодой человек, закутанный в шинель, всё еще продолжал ходить около дома. По временам он садился у забора и приклонял к нему свою голову. Долго сидел он, не чувствуя, что шинель его намокла и отяжелела. Наконец шум внутри двора заставил его вздрогнуть; он одним прыжком очутился у калитка и тоже стал стучать. Калитка раскрылась, начали выходить разные господа, по-видимому весело убившие вечер, – молодой человек пропустил всех, заглядывая каждому в лицо. С шумным говором и хохотом разошлась вся компания в разные стороны, сопровождаемая отчаянным лаем собак.
– Ну что стал, свой, что ли? – спросила баба, закутанная в истертую ситцевую кацавейку, и готовилась запереть калитку.
– Сидоровна! – торопливо произнес господин, закутанный в шинель.
– А, это вы, батюшка! – сказала радостно Сидоровна.
– Я.
– Ишь, грех какой: не спознала тебя и испужалась. Родимый ты мой, ведь день-деньской наработаешься, а ночью то и знай, что ворота отворяй да затворяй.
Молодой человек не слушал Сидоровну: он смотрел на удаляющихся гостей.
– Вот тебе! – сказал он, всунув что-то в черствую руку старухи.
Сидоровна спрятала деньги и, кланяясь, сказала:
– Благодарствуй, батюшка, спасибо.
– Все ушли? – дрожащим голосом спросил он.
– Прах их знает! да, чай, уж скоро заблаговестят, опять иди отворять ворота.
– Ну а ты узнала, что я тебе велел?
– Как же, батюшка, как же.
– Ну?
– Вправду мне сказывала Олена Петровна: день-деньской сидит у них!
Молодой человек вздрогнул.
– Слышишь, – сказал он, – никому ни слова, не бери даже денег; я тебе дам больше, только не говори никому.
Голос его прервался, и он кинулся на другую сторону улицы.
Сидоровна посмотрела вслед ему, покачала головой и, зевая, захлопнула калитку.
Свет постепенно убавлялся в окнах верхнего этажа, наконец остался в одном крайнем окне. Кто-то подошел к окну, – штора быстро скатилась, и настал мрак. Молодой человек обнаружил признаки совершенного отчаяния; голова его упала на грудь, шинель скатилась с его плеч. Ветер дул ему в лицо, и крупные капли дождя, смешанные со слезами, текли по его лицу. Глухие всхлипывания надрывали его грудь.
Ветер выл, выл, наконец, как бы утомясь, начал стихать. Уныло прозвучал первый удар колокола к заутрене. Молодой человек встрепенулся и поглядел на все стороны. Однообразный звон гудел по пустынным улицам, ничем не заглушаемый. Вдали начали раздаваться тяжелые шаги и кашель спешивших к заутрене. Вдруг скрыпнула калитка в доме, против которого находился молодой человек. Он привстал и не спускал глаз с калитки: кряхтя, вышла оттуда сгорбленная купчиха, вся в черном, ведя за собою седого старика в высокой меховой шапке, который торопливо постукивал своей палкой, как бы щупая прочность места, куда заносил ногу. Господин в шинели при виде стариков с ужасом кинулся бежать, как будто увидел что-то страшное.
Глава XIV
Кофейная близ театра
Молодой человек, которого видели мы в предыдущей главе, был актер на театре того города. Хотя он и занимал роли первых любовников, но его фигура не отличалась стройностью. Рост был хорош, но на сцене он как-то приседал и гнулся и оттого казался маленьким и горбатым. Глаза его были мутно-зеленоватые, с выражением грусти и бесконечной доброты; волосы густые, но почти желтые, одного цвета с лицом. Черты лица были, впрочем, правильны; но одутловатость портила всё. Робкий взгляд и неловкие движения придавали всей фигуре первого провинциального любовника бесцветность, в которой, однако, было столько жалкого, что вы невольно чувствовали к нему сострадание. Шестилетнее пребывание при театре не пошло ему впрок: на сцене он был так же робок и неловок, как в первый свой дебют; за кулисами – словно чужой между шумной толпой провинциальных актеров и актрис, где самые горячие дружеские излияния идут рядом с враждою и завистью; ни ссориться, ни льстить он не умел. С ним же все обходились с презрением, сознавая бессознательно его благородство, которое они понимали односторонне: по их мнению, оно заключалось в том, чтоб не расславлять чужих тайн, не клеветать, не перебивать дороги у собрата. Впрочем, он сам избегал дружбы с товарищами, которая особенно горяча бывала в первых числах месяца, когда получалось жалованье; начинали льстить: «Ты, брат, лихо сыграл свою роль!», предлагали выпить за успех, а потом, когда приходило к расчету, льстец незаметно исчезал или притворялся до такой степени подгулявшим, что его нужно было свезти еще домой на извозчике. С молодыми актрисами он также не мог сойтись; они считали унизительною даже вежливость с собратами своими по ремеслу, – перед бенефисом только делались ласковее, приглашали актеров обедать, поили в уборной своей чаем, а на другой день после бенефиса снова едва им кланялись. Если же актер, еще неопытный, приходил к обеду, то хозяйка вслух замечала о наглости людей, которые ходят без зова, обносила его вином и отворачивалась, если он спрашивал ее о чем-нибудь. Эти очень обыкновенные истории навсегда отбили у него охоту бывать где-нибудь, кроме кофейной, куда собирались все актеры и театралы.
Жалованье его было так незначительно, что едва доставало ему на скудный гардероб. На чужой счет жить он не умел. У него никогда недоставало духу навязываться в трактире к какому-нибудь купцу или театралу и платить за угощение домашними тайнами актрис. И если его угощали иногда молодые купцы, то единственно из любви к искусству. Он не решался также поправить свои дела, женившись на хорошенькой актрисе, чтоб жить роскошно… Не хотел также посвятить себя самолюбивым прихотям богатого одинокого купца, вооружая против него всех под видом правды и беспредельной своей дружбы, отвергая иногда даже довольно значительный подарок, в надежде, что бескорыстная дружба со временем оценится в каменный дом. Сколько нужно забот и ловкости, чтоб богатый купец только у него одного крестил детей и дарил крестнику на зубок ломбардные билеты в несколько тысяч! Он также не решался идти по дороге других молодых своих товарищей, которые проигрывали в один час вдвое больше, чем получали в год жалованья, пили с утра до ночи, угощая других, и еще хвастали…
Ему всё это было дико, – может быть, вследствие того, что он готовился быть купцом и сидеть в лабазе! Он был сын одного богатого купца. Старик был строг и держал своего сына взаперти до двадцати лет. Он не смел отлучаться на полчаса из родительского дома и почти не видел людей. Как вдруг старик скоропостижно умирает, сын остается единственным наследником. Молодой купчик поверил достояние свое дяде, а сам принялся жуировать. Приятели налетели со всех сторон к богатому наследнику. Разгул и карты сделались единственным его занятием. Его познакомили с актерами, которые ели, пили на его счет, занимали у него без отдачи. Актрисы тоже не упускали случая поживиться от него. Наконец дела пришли в такое расстройство, что долгам его не было счета. Дядя всё молчал и давал сам ему взаймы денег.
Неаккуратность в платеже и слухи о разорении озаботили его кредиторов, которые вдруг потребовали уплаты. Молодой купчик сам испугался своих долгов: он кинулся к дяде просить помощи, но тот тоже требовал уплаты долга. Ему грозила тюрьма: так были плохи его дела. Дядя сжалился над племянником и пощадил его. Друзья молодого разорившегося купчика, как жаворонки осенью, отлетели далеко-далеко; он очутился один, без денег, больной от разгульной жизни. Много вынес он унижения и горя. Вином заглушал он свою грусть и угрызения совести, не дававшей ему покоя, что так глупо было прожито отцовское наследство. Дядя видеть его не хотел, вероятно боясь, что племянник будет просить у него денег. Он ошибся: разорившийся купец был горд и только в забытьи, во время пирушки, вдруг, воображая себя всё еще богатым, желал вмешиваться в игру, шумел и важничал; его отталкивали, называли нищим, – он заливался слезами, просил денег у всех присутствующих, чтоб отыграть свое богатство. Грубые насмешки были ответом несчастному; он метался в отчаянии, осыпаемый колкостями. Раз в такую минуту к нему подошел утешитель; он сам был уже навеселе; но речи его так были красноречивы, что разорившийся купец кинулся в объятия утешителя и на груди его рыдал, жалуясь на людей; то была первая жалоба его на ближних своих. Под общий смех, пошатываясь, они вышли из кофейной. Утешитель привел несчастного к себе на квартиру; долго они говорили о людях и других предметах. На другое утро, проснувшись, оба они дивились, как разорившийся купец попал в комнату актера.
Остроухов был талантливейший актер в городе и любим публикой; но невоздержность делала его жалким. Голос его был постоянно хриплый, память исчезла: ролей он никогда не знал. Содержатель театра держал его единственно для обстановки пьес и дельных советов, которые он иногда давал молодым актрисам и актерам.
Утром, за бутылкой, Остроухов подал мысль разорившемуся купцу вступить в актеры. Через несколько месяцев на театре появился дебютант Мечиславский: купчик скрыл свою настоящую фамилию Демьянов, страшась дяди, который пришел в негодование от такого поступка и торжественно лишил своего племянника наследства. День дебюта был замечательным днем в жизни Мечиславского. Театр был полон, каждый желал посмотреть на дебютанта, которому во время оно многие льстили, обыгрывая и обманывая его. Благодаря бывшим друзьям промотавшегося купчика рукоплескания не умолкали. Его вызывали несколько раз; вызывая и хлопая, друзья думали поквитаться с погибшим через них и радовались, что совесть их теперь навсегда очищена.
Остроухов чуть не прыгал от радости за кулисами. Он знал роль Мечиславского наизусть и повторял ее за ним, – приходил в отчаяние, если тот не так читал, и кричал из-за кулис на сцену: «Громче! больше жару, махни рукой, ударь, да ударь сильнее в грудь!» А актерам и актрисам, стоявшим за кулисами и болтавшим между собой, он сердито замечал:
– Тише, ради бога, тише!
Но его замечания только разжигали говорящих; они нарочно страшно шумели, зная очень хорошо, что тем заглушают голос дебютанта, и без того робкого, и отвлекают его от своей роли.
После спектакля Мечиславский сидел в кофейной, где некогда его знавали сначала в богатстве, потом в унижении; теперь снова ему жали руки, поздравляли с успехом, угощали его и пили за его здоровье.
Каждый из окружавших его теперь, казалось, гордился сознанием, что если бы не его содействие в разорении, то талант погиб бы в лабазе.
Остроухов условился с содержателем театра, который, зная критическое положение дебютанта, долго не соглашался дать ему порядочное жалованье. Мечиславский подписал контракт и принял звание провинциального актера. Жизнь за кулисами не полюбилась Мечиславскому: он неохотно шел в театр и скоро стал равнодушен к вызовам и рукоплесканиям. На него находили минуты страшного отчаяния, особенно после разгула. Он проклинал своего друга Остроухова, зачем тот втянул его в эту кипящую жизнь, где вечно шум, смех, клеветы, зависть, лицемерие. В эти минуты он сознавал вполне свое ничтожество, и его отчаяние доходило до страшной степени. Припадок оканчивался обмороком, а на другой день Мечиславский, очнувшись, ничего не помнил; только тоска долго его душила, и он не выходил из дому. Остроухов, приписывая всё это частому разгулу, стал сдерживать себя и своего друга. По-видимому, последний начал свыкаться с жизнью провинциального актера: припадки сознания реже повторялись.
Но тут случилась другая беда: Остроухов поссорился с содержателем театра. Мечиславский не хотел расстаться с своим другом, и, составив довольно жалкую труппу, они стали разъезжать по ярмаркам. Удачи не было. К счастию, нашелся благодетель, который предложил Мечиславскому съездить с ним в Петербург, чтоб посмотреть игру столичных актеров. Вернувшись через три месяца и застав Остроухова в самом бедственном положении, Мечиславский уговорил своего друга поступить вновь на театр города NNN, имевший уже более средств. Город NNN радостно принял любимца своего Остроухова и его друга Мечиславского, в котором произошла большая перемена. Он перестал кутить, начал заниматься своими ролями, раньше всех приходил на репетицию и даже поссорился с кем-то за кулисами. Эта перемена в Мечиславском, однако ж, не была никем замечена за кулисами: в то время внимание всех было устремлено на вновь прибывшую молодую актрису Любскую, с появлением которой сцена ожила, и за кулисами происходили целые драмы и комедии. Соперница ее, актриса Ноготкова, особенно покровительствуемая одним богатым любителем театра, женщина лет двадцати, недурная собою, не могла вынесть, что Любская играет ее роли. Нужно заметить, что театр был поддерживаем многими богатыми людьми этого города, которые во что бы то ни стало желали соперничать с столичными театрами и хвастали, что у них на театре есть отличные артистки. Содержатель театра был человек грубый, необразованный; он сначала держал труппу паясов, потом кочующих актеров, с которыми бродил по ярмаркам; наконец, заехав в город NNN, он вошел в долю с любителями театра, которые проживали состояние свое на эту страсть, и основался там постоянно с своею труппою. В городе NNN даже составился балет; а это большая редкость в провинции.
Любская была стройна, хороша собою, особенно манеры резко отличали ее от прочих актрис своею грациею. Как актриса, она еще не была замечательна; но учила свои роли, обдумывала их, слушала с благодарностью замечания опытных актеров, а не смеялась им в глаза, как другие самонадеянные актрисы.
О ней никто ничего не знал; приехав в город, она явилась сама к содержателю театра и объявила ему, что желает дебютировать. Он представил ее любителям театра, которые остались в восторге от новой дебютантки, тем более что она умела не только читать свои роли, но даже правильно писала, знала немного иностранные языки. Театр был полон всегда, когда она играла. Но не прошло недели, как Ноготкова начала интриговать, и Любская подверглась преследованиям. Ей не давали нового костюма, в то время как Ноготковой шили дорогие платья. Лучшие роли тоже давались опять Ноготковой, а те пьесы, где Любская имела успех, совершенно исчезли с репертуара. Дошло раз даже до того, что Любской подставили шатающуюся скамейку, на которую ей нужно было лечь: она упала, – дикий хохот Ноготковой раздался за кулисами и изобличил ее благородный поступок. Если публика принимала Любскую хорошо, что почти было всегда, то Ноготкова, стоя за кулисами в великолепном платье и в брильянтах, топала ногами, грозила кулаками и страшно бранилась. Содержатель театра спешил успокоить Ноготкову каждый раз, когда Любскую больше вызывали: он грозился выгнать Любскую с своего театра, но, страшась любителей театра, довольствовался мелочным притеснением. Часто Любская, играя веселую и беззаботную девушку, глотала слезы и по окончании сцены, убежав в уборную, горько плакала. Иногда, выведенная из терпения, она сама сердилась и кричала не менее Ноготковой. Все были против Любской, зная, что Ноготкова имеет больше влияния. Каждый рассчитывал на ее покровительство, исключая Остроухова и Мечиславского, которые защищали угнетенную и за то страдали не менее ее.
Мечиславскому и Любской приходилось часто играть вместе. Публика рукоплескала им в горячих сценах изъяснений в любви. Мечиславский начал обнаруживать талант, так что благодаря его одушевлению игра самой Любской стала развиваться. Вне сцены, однако ж, Мечиславский по-прежнему был робок и молчалив, особенно с Любской.
Любская не последовала привычке, принятой в кругу актрис и актеров, говорить друг другу «ты», она ограничилась только Остроуховым. Со всеми остальными она была далека.
Остроухов не мог понять, что делается с его другом: в Мечиславском с некоторых пор началось болезненное волнение и раздражительность. На репетиции он забывал иногда твердо заученную роль, обо всё спотыкался, и если приходилось обнять Любскую, то он не решался или так неловко это делал, что обрывал ей кружева, наступал на платье.
Ноготкова первая приметила странности Мечиславского и, зная, что ничто так не вредит молодой актрисе, как ее склонность к собрату, распустила слухи, будто Мечиславский. влюблен в Любскую и пользуется ее расположением. На другой день почти весь город говорил об этом. Услужливые актрисы и актеры из любви к искусству сплетничать, под видом участия и дружбы, силою навязали Любской и Мечиславскому сплетни Ноготковой. Первая, пожав плечами, улыбнулась этому, как вещи невероятной, зато последний в первый раз вышел из себя и чуть не побил услужливого вестника закулисных сплетней.
Остроухов наконец догадался о состоянии Мечиславского, который с каждым днем делался мрачнее и мрачнее, не ел, не пил, всё сидел дома.
– Ну что ты делаешь? А? не стыдно ли? – так начал Остроухов, после неудачных усилий затащить Мечиславского обедать в трактир. – Ты поверил дуракам… да уж ты не тово ли?.. Да, брат, опоздал!
Остроухов подмигнул.
Мечиславский весь вздрогнул и резко спросил:
– Как?.. что?..
– Тьфу пропасть! ну что таращишь глаза! – с досадою сказал Остроухов, робко поглядывая на своего друга. – Ну что тут такого! дело обыкновенное; вот, слава богу! Что, она не такая же актриса, как и все?
– Ты знаешь его? – глухим голосом спросил Мечиславский, стараясь придать своему бледному лицу спокойствие.
Остроухов медлил ответом, смотря в лицо своему другу. Вдруг, махнув рукой, он со вздохом сказал:
– Поди в нашу кофейную: он там играет на бильярде. Высокий и красивый такой.






