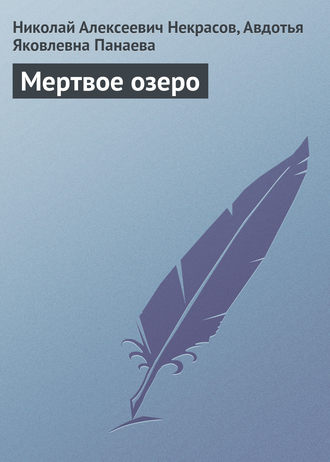
Николай Некрасов
Мертвое озеро
Глава LXII
Открытие
Наталья Кирилловна, при всей своей гордости, не могла не поддаться чувству, так естественному в женщине, именно – порисоваться перед Любой. Люба иначе ее не видала, как окруженною толпой приживалок, рассыпавших щедро похвалы доброте и знатности своей благодетельницы. Тон голоса Натальи Кирилловны с Любой был покровительный; она проповедовала ей о неслыханном счастии породниться с таким знатным домом.
– Мой племянник мог иметь невесту не только из первых красавиц знатного дома, но и богачку. Верно уже так было угодно богу! – вздохнув, замечала Наталья Кирилловна.
– Да уж он такой красавчик, что все, кажется, из нашей сестры одного его мизинчика не стоим! Он в совершенстве, можно сказать, один из первых красавцев во всем свете, – подхватывала приживалка с мутными главами.
Зина, как бы по наивности, рассказала множество проказ Павла Сергеича, и, между прочим, как от него сошла с ума дочь одного бедного чиновника, жившего в одной улице.
Для Любы были тягостны такого рода беседы. Она не произносила ни слова, с удивлением слушая эти толки и каждый раз рассматривая коллекцию зверообразных лиц приживалок с таким видом, как будто в первый раз она их видит.
– И глупа даже! хоть бы одно слово! – с негодованием восклицала Наталья Кирилловна по уходе ее.
– Ей говорят, что какую ей честь сделал Павел Сергеич, а она хоть бы приласкалась к вам! – с ужасом восклицала та же приживалка с мутными глазами.
– Да она ни с кем, кроме как с цыганом, кажется, не говорит, и то всё на их языке! – заметила Зина.
– Как угодно Павлу Сергеичу, а я удалю из своего дома цыгана, – сказала Наталья Кирилловна.
– Да они ведь все конокрады: надо конюшни крепче запирать! – подхватила приживалка с зобом и мутными глазами.
– Даже совестно! придешь к ней в комнату, а он сидит перед ней и не встает! – опять сказала Зина, поглядывая на Наталью Кирилловну, которая, стукнув палкой, сказала:
– Позвать его сюда!
В минуту приказание было исполнено, и цыган гордо вошел в комнату, где, приняв важную позу, сидела в креслах Наталья Кирилловна. Он поклонился только ей одной, и то без особенного почтения. Приживалки стали перешептываться; но голос Натальи Кирилловны заставил их замолчать. Она сказала презрительно:
– Любезный, я узнала, что ты заведуешь делами Любови Алексеевны.
– Да.
– Я тебя устраняю, и ты должен передать теперь все бумаги и документы моему управляющему; она теперь будет под моим надзором.
– Я не могу этого сделать и ни одной бумаги не дам! – отвечал цыган.
– Как! – с горячностью воскликнула Наталья Кирилловна. – Я? мне! ты не отдашь ее бумаг? Да я еще хочу знать, есть ли у Любови Алексеевны что-нибудь?
– Деревня.
– Как говорит! даже досадно слушать, точно не видит, что с барыней! – заметила Зина вполголоса.
Но Наталья Кирилловна услыхала и отвечала ей:
– Деревенщина! – и, обратись к цыгану, повелительно продолжала:– Любовь Алексеевна у меня в доме, и я требую, чтоб ее дела были сданы мне, слышишь: мне на руки!
– И этого не могу!
– Да ты с ума сошел! – стукнув палкой об пол, крикнула Наталья Кирилловна. – Ты, кажется, вообразил, что Павел Сергеич имел виды на ее деревушку, сватаясь за Любовь Алексеевну! ха-ха-ха!
И хор приживалок подхватил смех Натальи Кирилловны.
Цыган обводил глазами всех, и когда смех унялся, он громко сказал:
– Никто, даже сама Любовь Алексеевна, не знает своего состояния.
– Неужели каких-нибудь пятьсот душ ей трудно сосчитать! – язвительно заметила Зина.
– Ее состояние не в душах, – отвечал цыган.
– В чем же? деньги есть? – спросила Наталья Кирилловна с достоинством.
– Да.
Наталья Кирилловна заметно пришла в волнение, мучимая желанием узнать скорее сумму, – но боялась уронить свое достоинство. Зина, эта догадливая фея, тотчас поняла желание своей благодетельницы и сказала:
– А сколько тысяч? в ломбарде или в частных руках?
– Несколько миллионов! – протяжно произнес цыган, и презрительная улыбка мелькнула на его губах, когда Наталья Кирилловна встрепенулась, приживалки ахнули, повторяя: «Миллионщица, миллионщица!», а Зина, побледнев, с ужасом поглядела на него и как бы невольно произнесла:
– Это неправда!
Цыган вынул из кармана какие-то бумаги и показал Наталье Кирилловне. Зина, вся дрожа, глядела на них через плечо Натальи Кирилловны, и пот крупными каплями выступал на ее крутом лбу.
– И в твоих руках такие суммы! даже Любовь Алексеевна не знает! – воскликнула почти с ужасом Наталья Кирилловна.
– Она знает, что у ней есть деньги, но мало обращает на них внимания. Отец ее, умирая, сделал меня своим душеприказчиком и опекуном всего имения его дочери.
– Какое безрассудство! мальчишке! – воскликнула Наталья Кирилловна, но остановилась, брови ее сдвинулись, и она окинула глазами толпу приживалок, потому что кто-то из них, увлекшись ее примером, подхватил:
– Цыгану!
– Это что? молчать! вы, кажется, одурели! вмешиваетесь в барские дела! – крикнула Наталья Кирилловна.
Все приживалки повесили носы.
Наталья Кирилловна обратилась к цыгану и более мягким голосом, чем прежде, спросила его:
– Ты очень привязан к Любови Алексеевне?
– Да.
– Грех, великий грех во зло употреблять доверенность умирающего человека, который оставляет сироту. О, это черное, низкое дело! – наставительно сказала Наталья Кирилловна.
Цыган молчал.
– Ну а сколько миллионов? три, четыре? – спросила Наталья Кирилловна, наскучив выжидать вопроса своей догадливой Зины, которая словно пораженная громом стояла за ее креслом.
– Отец Любови Алексеевны еще давно имел большой капитал, потом он продал всё имение свое, исключая одной деревни, и даже не трогал процентов. А этому лет пятнадцать.
– Сколько же, сколько же? – потеряв всякое достоинство, нетерпеливо говорила Наталья Кирилловна.
– Одиннадцать миллионов! – громко произнес цыган.
Зина вздрогнула. Наталья Кирилловна свободно вздохнула, а приживалки радостно начали креститься и шептались между собой:
– Вот поди узнай, что такая богачка, – выглядит просто стотысячной невестой!
– Не всё то золото, что блестит!
И так далее; шепот продолжался, пока Наталья Кирилловна была погружена в какое-то раздумье. У ней в голове быстро всё уладилось: как она вновь поднимет этими деньгами свой дом, выкупит имения, заложенные или запроданные. Улыбка озарила ее строгое лицо, и она очень ласково сказала цыгану:
– Хорошо ли тебе, любезный, у меня в доме? ты спроси, что тебе будет нужно…
Цыган поклонился и вышел.
Приживалка с мутными глазами выступила из толпы вприпляску, подперев руки в бока и сиплым голосом напевая:
– Миллиончики, голубчики! тра-ла-ла!
– Чему ты радуешься? а? – спросила, смеясь, Наталья Кирилловна.
– А как же не радоваться! надо веселиться: свадьба в доме!
И приживалка опять завертелась, напевая.
Все смеялись, исключая Зины, которая бессмысленно глядела на всех.
Наталья Кирилловна в этот день встретила Павла Сергеича очень любезно и, поцеловав его, погрозила ему пальцем, сказав:
– У-у-у, какой хитрец! ишь как скрывал, я не ожидала от тебя таких расчетов!
– Что такое? – не без удивления спросил Тавровский, который решительно не знал о миллионах своей невесты.
– Тс! идет твоя невеста! – отвечала Наталья Кирилловна и, к удивлению всех приживалок, сама пошла к ней навстречу и, поцеловав ее, сказала:– Что ты всё сидишь одна?.. Павел Сергеич, я надеюсь, что могу ее назвать так, как свою дочь?
– Она верно будет очень счастлива! – заметил Тавровский.
– Не хочешь ли ты посмотреть Петербург? тебе надо быть веселой, а ты всё такая печальная! Впрочем, недавняя потеря!.. это даже ей делает честь, что у ней такое чувствительное сердце.
– Можно сказать, что кто взглянет на Любовь Алексеевну, то уж не скажет, что она злая; и взаправду говорят, что глаза есть зеркало души! – протараторила приживалка с мутными глазами.
– Да, уж у кого злые глаза, то и душа дурная! – подхватила Ольга Петровна.
И глаза ее встретили презрительный взгляд Зины, стоявшей позади Натальи Кирилловны, которая, потрепав по щеке Любу, сказала:
– Да, у ней глазки хорошенькие! – и прибавила: – Я знаю, отчего ты скучаешь: хочется скорее свадьбы!
Люба покраснела, сконфузилась и выронила из рук носовой платок. Она хотела его поднять, но Наталья Кирилловна удержала ее и, обратясь к Зине и указывая на платок палкой, повелительно сказала:
– Подыми!
Зина сделала вид, что не слышит, и повернулась назад; но Наталья Кирилловна коснулась ее плеча палкой и сердито сказала:
– Ты слышишь, я тебе говорю: подыми!
Зина закусила губы и не двигалась с места. Люба и Тавровский желали прекратить сцену; но Наталья Кирилловна не позволила им и, стукнув палкой об пол, грозно сказала Зине:
– Я тебе говорю: подыми платок Любови Алексеевны!!
Тишина воцарилась в зале; все смотрели на бледную Зину и гордо стоявшую перед ней Наталью Кирилловну. Члены Зины, казалось, лишились способности гнуться, и она с трудом наклонилась, чтоб поднять платок. Наталья Кирилловна, следившая за ней, толкнула ее палкой в спину, сказав:
– Согнись пониже, пониже!!
Зина очутилась на коленях перед Любой и, подавая ей платок, так взглянула на нее, что та попятилась назад.
– Что это значит?! Вам, кажется, показалось низким поднять платок Любови Алексеевны? а? – с горячностью спросила Зину Наталья Кирилловна.
– Я… я потому не могла этого скоро сделать, что, побежав к вам с лестницы, ушибла колено, – невнятно произнесла Зина и, морщась и прихрамывая, вышла из комнаты под радостно-насмешливые взгляды приживалок.
– То-то! я бы посмотрела, кто осмелился бы оказать невнимание моей племяннице в моем доме…
И Наталья Кирилловна грозно обвела глазами своих приживалок, которые старались умильно-почтительными улыбками выразить готовность для угождений идти в огонь и воду…
Зина, прибежав в свою комнату, предалась бешеному отчаянию. Она била себя в грудь, рвала на себе волосы; но через полчаса, как ни в чем не бывало, она вертелась уже перед зеркалом, примеривая новое платье. Вечером в тот же день она в девичьей разыграла роль Натальи Кирилловны с одной из молоденьких горничных, и еще с большим эффектом, хотя и без помощи палки. Потом Зина обошла и обнюхала весь дом. И в ее комнате беспрестанно стояли на коленях, прося прощенья, то лакей, то кучер, то прачка.
Приживалки более ни о чем не могли толковать несколько дней сряду, как о несметном богатстве Любы.
– Говорят, что у ней бабушка была, знаете, колдунья: ну, известное дело – цыганка. Она свою душу в совершенстве, можно сказать, отдала нечистому за то, чтоб вот всё превратилось в золото. Она и насыпала два мешка круп и отдала своей дочке, велела беречь и умерла; а дочь отдала мешки своей дочери, то есть нашей невесте, и та как развяжет мешки, думая: с крупой, а там всё золото! Она…
Зина тихонько подкралась, прослушала повествование приживалки с мутными глазами и, ударив ее по плечу, крикнула:
– Ну что вы чушь-то говорите!
Приживалки все вскрикнули, а рассказчица обидчиво сказала:
– Я говорю, что мне сказали! Я не умею сочинять турусы на колесах.
– Оттого что вы глупы! ну просто деньги эти накрадены табором, а ее отец обокрал цыган, – вот и всё. Вот тебе и важная фамилия: роднится с цыганками!.. ха-ха-ха!.. А небось на бедной, вишь, ее племяннику никак нельзя жениться!
Зина в минуты гнева выбалтывала самые сокровенные свои тайны. Ольга Петровна, как опытный охотник, всегда зорко сторожила добычу и часто в такие минуты подстрекала Зину.
– И была бы хороша собой, умна! а то просто пень: всё молчит! – заметила Ольга Петровна.
– Да просто проигрался в пух и представился, что влюбился, а сам для денег! – отвечала Зина.
– Да она могла его и приколдовать: ведь цыганки все знают, что подсыпать! – заметила приживалка с мутными глазами.
– А вот Зинушка и не цыганка, а, помните, Павлу Сергеичу что-то сыпала в кофей, – смеясь, сказала Ольга Петровна.
– Я сыпала? я?
– Да, я всё видела, да молчала.
Зина видела, что отпираться нельзя, и презрительно сказала:
– Я его потчевала, чтоб он меня оставил в покое. Я знала, что ему деньги нужны. Да я его еще угощу!! – грозно прибавила она.
– Ну что вы ему можете сделать? – стараясь как можно более придать своему вопросу простодушия, спросила Ольга Петровна.
– Да я, если захочу, то свадьбу расстрою: я…
Зина вдруг остановилась, быстро оглянула своих слушательниц и принужденно и громко засмеялась, так что все вздрогнули.
– Ха-ха-ха! вот уши-то развесили! я им говорю разный вздор, а они, кажется, верят… Ха-ха-ха!
Напрасно Зина смеялась, вывертывалась. Ольга Петровна слово в слово передала этот разговор Тавровскому, который принял свои меры. Он просил Любу не пускать Зину к себе и не говорить с ней. Люба и сама этого желала, потому что Зина просто пугала ее.
Глава LXIII
Бенефициантка
Сколько тревог и волнения для актрисы в день ее бенефиса! Колокольчик в ее квартире беспрерывно раздается, являются лакеи с пакетами, с которых не без волнения срывается бенефицианткой печать, и улыбка удовольствия или презрения выражается на ее озабоченном лице. В это утро нет минуты для нее свободной: примерить костюм, заказать ужин, закупить вина, разослать билеты лицам, пользующимся ее уважением. Каждый час приносятся известия о распродаже билетов в кассе, и если толпа большая у окна, то даются тайные инструкции увеличить цену на билеты.
В уборной бенефициантки множество народу, чай, как разливное море, льется в уста всех. Бутылки с вином, пирог, конфекты стоят на окнах уборной. Если в пьесе нужно угощение, то бенефициантка считает обязанностью подать его настоящее, а не картонный пирог и не пустую бутылку.
Был бенефис одной актрисы; театр был полон; бенефициантку встретили продолжительным рукоплесканием, стучанием палками и ногами.
После первого акта бенефициантка подрумянивала себе щеки у трюмо. Уборная ее была большая комната, меблированная очень хорошо; в углу сидел за столом мрачного вида старик, раскладывавший по кучкам деньги, вынимаемые из ридикюля. Руки его слегка дрожали, а глаза блистали каким-то странным в его лета огнем. Он вслух считал деньги и, отделив несколько кучек серебра и ассигнаций, сказал:
– Ровно тысяча! это верно: три раза пересчитывал.
– Ужасно дешево пущен раек! – заметила бенефициантка, пристально всматриваясь в себя. Держа в руке румяны, она в нерешительности то приближала руку к щеке, то удаляла ее.
– Как! дешево? – с удивлением спросил мрачного вида старик.
– Ну да! сами сказали, что половина народу ушла назад.
– Оно так; но если б вы слышали, как сначала публика была недовольна. Один пожилой господин так раскричался!..
– Дурак! он, верно, думает, что с него одного возьмут такую цену! Ну и не взял билета? Чего он хотел – ложу?
– Креслы!
Бенефициантка засмеялась и сказала:
– Чем дороже пустить билеты в бенефис, тем более можно надеяться на полный сбор, потому что каждому льстит, что он был в бенефисе. Да если бы пустить дешево в кассе, тогда что бы присылали на дом за билеты! – так рассуждала бенефициантка, а мрачного вида старик с удовольствием слушал ее, потирая руки.
В уборную вбежало несколько актрис и актеров с поздравлениями по случаю хорошего приема бенефициантки публикой. Но при виде денег все обступили стол и осыпали вопросами мрачного старика: «Сколько очистилось? Почем был пущен 1-й ярус лож?» – и так далее.
– Очистилось четыре тысячи, да на дому до трех тысяч, – небрежно отвечала бенефициантка.
Некоторые актрисы выразительно перемигнулись между собою. Один из актеров, в испанском плаще и с наклеенными усами, сказал:
– Вот это бенефис! не то что у Лапотниковой: всего было сто человек… и с детьми-то ее!
– Своих приплатила по расходу пьесы… ха-ха-ха! – заметила молоденькая актриса.
И смех сделался общим, но от стука в дверь уборной замолк, и многие из присутствующих закричали:
– Войдите, войдите!
– Любская здесь одевается? – раздался сиповатый, дрожащий голос за ширмами, которыми была отгорожена дверь уборной.
– Здесь! здесь! – отвечали все в один голос, и любопытство озарило их лица.
– Можно войти? ее нет здесь? – опять раздался сиповатый голос.
– Я здесь! – отвечала бенефициантка, выступая вперед.
Из-за ширм показалось лицо, знакомое уже читателям: то был Остроухов, который, очутясь в ярко освещенной комнате, с минуту озирался кругом, ничего не видя.
– Ты, кажется, меня не узнаешь, – подходя к Остроухову, сказала бенефициантка.
Немудрено, что Остроухов не вдруг узнал Любскую. Между той, которая оставила город NNN, и теперешней почти ничего не было общего. Года не сделали большого влияния на красоту ее. Нет, она, казалось, в эту минуту была во всем блеске. Но выражение лица до того изменилось, что Остроухов глядел во все глаза на Любскую, как бы стараясь отыскать в ее лице хотя одну черту, глубоко запечатлевшуюся в его памяти.
– Неужели я так изменилась? – ласково и в волнении спросила Любская.
Остроухов, как бы узнав ее теперь только, радостно кинулся к ней, обнял ее и с жаром поцеловал в щеки, в губы и в лоб, бормоча:
– Так это ты? Наконец-то я тебя опять вижу!
Любская вырывалась из его объятий, сердито крича:
– С ума сошел! дурак! что с тобой?
Присутствующие с ужасом глядели на Остроухова, которого оттолкнула Любская, крича своей горничной:
– Белил, румян!!
Остроухов пугливо вытирал рукой губы и с ужасом смотрел на румяны, как будто бы то была кровь. Потом он робко взглянул на Любскую, озабоченно забеливавшую свое лицо.
Остроухов нашел, что в красоте Любская очень много выиграла; может быть, костюм и сильное освещение способствовали немало этому. Но он не мог не сознаться, что это не та Любская, с ласковым взглядом, с кротким голосом. И, как бы рассуждая сам с собой, он произнес, глядя на Любскую:
– Да, много, много изменилась!
– Небось, ты мало изменился! – смеясь, отвечала Любская.
– Что я? Но знаешь ли: ведь ты лучше стала!
На лице Любской заметно показалась улыбка гордости и самодовольствия, и, продолжая подрумяниваться, она сказала:
– Лучше не лучше… а знаешь ли, ты попал на мой бенефис?
– Я бы, может быть, и не так скоро нашел тебя, если бы не твой бенефис. Я спал у себя и слышу впросонках: читают афишу за перегородкой… прислушиваюсь: твое имя. Я вскочил да сломя голову! взял извозчика, говорю… Ах, я и забыл его… дай-ка мне гривенник!
Любская обратилась к мрачному старику, продолжавшему считать деньги, и сказала:
– Дайте ему гривенник!
Мрачного вида старик злобно посмотрел на Остроухова и грубо кинул ему гривенник по столу.
– Скажи, зачем ты приехал в Петербург? и каким образом? – спрашивала его Любская.
– Я приехал для тебя! – отвечал печально Остроухое.
Колокольчик, раздавшийся у двери уборной, привел всех в волнение. Все побежали из комнаты. Любская, подбирая шлейф своей мантии, сказала Остроухову:
– Для меня?? зачем же? скажи-ка!
– Нет, после, после! – отвечал в волнении Остроухов.
– Какие глупости! да разве что-нибудь ужасное? Я, право, не знаю ничего, что могло бы меня огорчить. Мы так давно не видались, у меня там никого нет близких!.. – в недоумении говорила Любская, как бы стараясь разгадать причину приезда Остроухова, и нетерпеливо прибавила: – Да говори: я ведь не ребенок, как была прежде.
Остроухое сначала не решался, но при повелительном жесте Любской он нагнулся к ее уху и шепнул что-то. Любская быстро отшатнулась назад, поглядела с минуту на Остроухова и потом засмеялась, сказав:
– Напрасно хлопотал из-за пустяков. Ну и только?
Остроухов молчал, глядя странно на Любскую, которая на звон колокольчика быстро пошла к двери, сказав Остроухову:
– Ты подожди меня!
И она скрылась.
Остроухов и без ее приказания остался бы. Он долго стоял на том месте, где его оставила Любская, перебирая губами:
– Ну только-то? гм!! только-то!!
Вздохнув тяжело, Остроухов сел на стул, стоявший против трюмо, и, увидев в нем свою фигуру, с грустью покачал головой и с презрением произнес:
– Господи, господи! как же глупа эта старая башка!
И он, с силою ударив себя в лоб, отвернулся с сердцем от трюмо и устремил глаза свои на старика мрачного вида, совершенно углубленного в счет денег.
– Вы ее кассир сегодня? – спросил у него Остроухов после некоторого молчания.
Старик вместо ответа сухо кивнул головой.
– А хорош сбор?
Старик опять кивнул головой.
Остроухов искоса поглядел на него и начал ходить по уборной.
Его изношенное, старого покроя платье, размашистые манеры, покрытое морщинами лицо, всклокоченные волосы очень были странны в ярко освещенной комнате, убранной с роскошью, и посреди денег, брильянтов и других дорогих вещей, разбросанных на столах.
Горничная неутомимо следила за его движениями, и когда Остроухов подошел к столу, где были разбросаны вещи, она без церемонии стала их убирать в ящик и заперла на ключ. Остроухов не замечал этого; он разглядывал дорогой несессер и спросил горничную:
– Это чей?
– Наш-с! – отвечала горничная и тоже стала его укладывать.
Остроухов, казалось, только теперь понял, в чем дело; однако ж без гнева и без гримасы он быстро отошел от стола и спросил горничную:
– А что, скоро кончится это действие?
– Я не знаю-с: пьесу в первый раз дают.
– Гм! Ну а как – билеты сама она развозила? или не в моде? а?
– К нам-с сами все приезжают или присылают за ними, – с гордостью отвечала горничная.
– Вот! оно и лучше, чем самому мерить лестницы да по часу ждать в передней, да еще вышлют сказать с лакеем, что, дескать, убирайся восвояси. А не то велят оставить билеты, а деньги, мол, после! Нет, так, как я вижу, лучше. И актер не унижается, да и публика свободна – взять билет или нет.
– Что город, то норов, что деревня…
– То обычай… так! – перебил Остроухов старика мрачного вида и продолжал: – Уж коли есть в крови способность низкопоклонничать, так хорошо жить; не посмотрит и на обычай. Я вот знавал одного актера: дрянь был, ну а везло, – полный бенефис, да еще цену какую соберет. Вот целый год вьется да увивается около какого-нибудь театрала. И куплетцы ему сочиняет, и детей своих всех нарядит шутами да разыграет с ними комедию на его празднике; ну вот, придет бенефис его, а он и бух в ноги милостивцу, говорит: жена, малые дети, помоги! Как так? А вот увидишь, только созови побольше гостей. Обед задает театрал, созовет весь город. Подают суп, а пирожки несет по-поварски одетый будущий бенефициант и потчует усердно гостей, упрашивает кого два, кого четыре взять. Гости берут, едят, а к концу обеда мнимый повар возьмет серебряную тарелку, да и ну обходить да собирать деньги за пирожки, а билеты в руки. Вот как деньги достают! – ораторствовал Остроухов.
В это время впопыхах вбежала Любская, срывая с себя платье, вещи и крича:
– Переодеваться, переодеваться!
Платье трещало, брильянты летели на пол, волосы если запутывались, то клоками вырывались или отрезывались. Минуты скорого переодеванья имеют что-то лихорадочное. Остроухов принимал такое сильное участие в переодеванье Любской, что повторял почти все жесты, какие делала она.
– На сцену, на сцену! – раздался запыхавшийся голос у дверей.
– Сейчас, сейчас! – кричала Любская и топала ногами на свою горничную, замешкавшуюся с вуалем.
Любская кинулась к дверям и остановилась, сказав:
– Войдите, вы можете подождать, я сейчас вернусь.
– Вы играли превосходно! – отвечал чей-то голос за ширмами.
– Извините, я спешу, – сказала Любская и исчезла.
В уборную вошел Тавровский. Увидав Остроухова, он нахмурил брови.
– Вы меня не узнаете? – кланяясь, сказал Остроухое.
– А-а-а! старые знакомые! Это как вы сюда попали? Даша! не скрываете ли вы сюрприз публике, какой-нибудь дивертисемент из него?
Даша, горничная Любской, залилась смехом.
– Нет-с, я в дивертисементах никогда не участвовал: мое амплуа – драма, – несколько обиженным голосом отвечал Остроухов.
– Это, впрочем, сейчас видно: у вас и наружность драматическая.
– Зато я в жизни никакой драмы не устроил и никого не заставил проливать слезы.
– Я замечаю, что вы очень смелы в уборной! – с презрением и не без досады проворчал Тавровский.
– Может быть, потому, что здесь я не боюсь никого, кто бы, зная мою слабость, воспользовался ею, – понизив голос, отвечал Остроухов.
Тавровский гордо взглянул на него и сказал:
– Вы очень ошиблись, если думали, что я принимал какие-нибудь меры…
– Не вы, а ваш верный слуга.
– Я не виноват, что вы имеете привычку дружиться с лакеями.
Остроухов весь вспыхнул и, едва сдерживая свой гнев, с расстановкой сказал:
– А у вас, верно, вошло в привычку оскорблять людей, ниже вас стоящих, не краснея! Это доказывает, сколько мало вас воспитывали, и если бы не…
– Прошу не продолжать!! – крикнул грозно Тавровский и, подойдя к столу, у которого сидел мрачного вида старик, сказал:
– Кажется, полон театр и цена очень дорогая, мне говорили.
– Пустяки-с, – возразил мрачного вида старик.
– Возьмите кстати и за мои креслы.
И Тавровский положил на стол ассигнацию в двести рублей.
Остроухов неожиданно кинулся к столу: бумажка очутилась в руках его. Старик с ужасом сказал:
– Что вы? как вы смеете чужие деньги трогать?
– Возьмите назад! я отдаю их вам от нее. Она не захочет… – крикнул Остроухов; но его слова были заглушаемы голосом мрачного старика:
– Вы ее разорвете! оставьте!
– Я не хочу, чтоб он платил ей! – выходя из себя, сказал Остроухов.
Он рванул бумажку, и половина ее осталась у него в руке, а другая у старика, из груди которого вырвался дикий крик.
Остроухов подал деньги Тавровскому, который стоял у трюмо и оттуда следил за борьбой. Тавровский отклонился от Остроухова и сказал:
– Я советую вам лечиться, потому что такие вещи можно делать только в белой горячке.
И Тавровский пошел к двери, но остановился. Любская, усталая, вошла в уборную и спросила:
– Что за шум?
– Да вот здесь есть господин в белой горячке, – отвечал Тавровский.
– То, что я сделал… я уверен, она будет довольна мною! – перебил его Остроухов.
– Посмотрите, что он наделал! – чуть не плача, говорил мрачного вида старик, прилаживая половинки бумажки.
Любская, взяв ее, спросила:
– Это как он ее разорвал?
– Брось ее: эти деньги от него! он вздумал оскорблять меня; ты… – голос Остроухова задрожал, и он замолк, глядя на Любскую, которая, усмехнувшись, положила ассигнацию в несессер свой.
– Прощайте! – сказал Тавровский.
– Погодите; два слова! – отвечала Любская.
– Нельзя ли отложить?
– А-а-а! вы, верно, уже догадываетесь, в чем дело! – подходя к нему, сказала Любская.
– Этот сумасброд, кажется, сделался моим трубадуром и везде расславляет…
– Имя вашей красавицы!
– Знаете ли, ужасно смешно видеть вас под защитою этого ярмарочного актера! – смеясь, сказал Тавровский.
– Но, я думаю, вы еще смешнее в роли жениха.
– Вы, я вижу, за серьезное приняли всё, что наболтали вам?
– Я столько раз, по вашим уверениям, считала за шутки вещи очень важные, что теперь я наоборот делаю.
– То есть всё, что я ни скажу серьезно, вы принимаете за шутку, и наоборот?
– Да!
– Тогда я вам скажу серьезно, что я женюсь! и скоро! Как вы это примете?? – принужденно смеясь, сказал Тавровский.
– Я шутя вам буду отвечать, что этому не бывать. Ведь вы давно бы женились; но вы чувствуете, что неспособны к семейной жизни, что сделаете несчастной ту, которая свяжет с вами жизнь свою… ха-ха-ха!
И Любская смеялась очень весело.
– Вы, кажется, горячитесь! – заметил ей Тавровский.
– Нисколько!
Весь их разговор происходил за ширмами очень тихо; особенно те слова, которые были многозначительны, произносились чуть слышно. Звонок, раздавшийся опять у двери, заставил их разойтись. Любская приветливо сказала Тавровскому:
– Я надеюсь, после спектакля вы ко мне ужинать?
– Непременно! непременно! – уходя, отвечал Тавровский.
Когда кончился спектакль, Любская, после нескольких вызовов, переодетая в капот, считала деньги и укладывала их в маленький ящик; горничная ее убирала костюмы в картонки, а Остроухов скорыми шагами мрачно ходил по комнате.
Любская прервала молчание:
– Ну, долго ли ты здесь пробудешь?
– Не знаю!
– Однако что тебе здесь делать?
– О, я знаю… нет, я уеду, я очень скоро уеду отсюда! – как бы в отчаянии говорил Остроухов.
– Карета готова, – сказал мрачного вида старик, войдя в уборную в шинели.
– Возьмите несессер! – надевая салоп, отвечала Любская.
Мрачного вида старик исполнил приказание и вышел.
– Кто это у тебя? – спросил Остроухов.
– Неужели не догадался?
– Кто?
– А, Федор Андреич! – равнодушно отвечала Любская.
– Так этот! – вскрикнул Остроухов и с удивлением глядел на Любскую, которая, взяв ящик с деньгами и озираясь кругом, сказала, уходя к дверям:
– Даша, не забыли ли мы чего?
– Нет-с, всё взято.
– Да! прощай! – повернув голову к Остроухову, сказала Любская и прибавила: – Ты сегодня не приходи ко мне: у меня гости; а завтра поутру мы еще раз переговорим.
И она вышла.
Остроухов как пригвожденный стоял на одном месте и смотрел в дверь, куда удалилась Любская.
Кучер вынес корзины и картоны из уборной. Женщина с ключами всё прибрала в ней, погасила лампы и, готовясь гасить последнюю, грубо сказала:
– Ну, что стоите? здесь ночевать нельзя.
Остроухов вышел из уборной на сцену, которая быстро темнела; смрад от загашенных ламп разливался всюду; таскали кулисы, ставя их по местам. Мужики шумели между собой. Занавес взвился, и темный партер открылся, как пропасть. Сцена, не застановленная кулисами, казалась огромною. Остроухов, прижавшись в угол, следил машинально за всем, что происходило вокруг него. Наконец полили сцену, чтоб потушить искру, на случай, если б она как-нибудь попала в щель, и всё замолкло. Остроухов очнулся; но было поздно: сцена была пуста и темна. Вдруг показался вдали огонек, вот ближе и ближе: мужик пробирался по сцене с фонарем в руке. Остроухов кинулся к нему, спрашивая, как выйти.
– Эх, как засиделся! кругом заперто! иди через люк! – отвечал мужик.
И Остроухов скрылся с ним в люке.
На другой день мужчина и женщина не очень смело вошли в прихожую Натальи Кирилловны и спросили: «Дома ли Любовь Алексеевна Куратова?»
– Дома-с; а как доложить об вас? – спросил швейцар.
– Скажи, что госпожа Любская и господин Остроухов желают ее видеть, – отвечала поспешно дама.
Через минуту они были приведены в приемную комнату к Любе.






