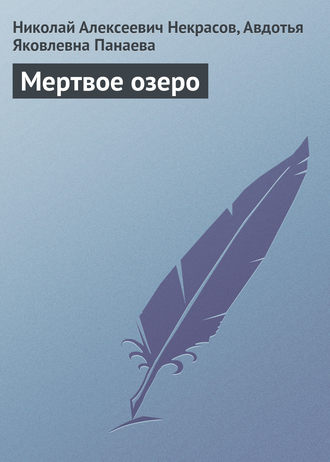
Николай Некрасов
Мертвое озеро
Часть четырнадцатая
Глава LXIV
Отступление
К одной из глухих станций*** губернии, в полдень летнего дня, подъехала дорожная коляска со стеклами. Лакея при ней не было, и, пока ямщик выпрягал лошадей, никакого движения не замечалось в экипаже.
Но когда ямщик, сняв шапку и держа усталых, взмыленных своих лошадей, подошел к завешенному окну коляски и сказал: «На водочку!», женская рука высунулась из окна и подала ямщику монету.
– Вели скорее запрягать, – послышался приятный женский голос.
– Лошадей нет-с! – крикнул полный, краснощекий мужчина, лежавший животом на окне и в своих пухлых, красных руках державший чубук с бисерным чехлом.
Очень красивая женская головка выглянула из коляски и с ужасом спросила:
– Как нет лошадей?
– Только курьерские; вот-с и генеральское семейство ночевало по этой же причине: сегодня всех лошадей обобрали, – отвечал краснощекий мужчина.
– Боже мой! да как же это сделать? Ради бога, нельзя ли? – умоляющим голосом говорила путешественница.
– Никак-с не можно-с! – хладнокровно отвечал краснощекий мужчина и стал курить.
– Что же мне делать? – в отчаянии воскликнула путешественница.
– Извольте обождать: вон тут насупротив хороший есть трактир, – успокоительным голосом заметил краснощекий мужчина.
– Когда же будут лошади? – спросила путешественница, выходя из коляски.
– А вот-с как будут, сейчас и дадим, – отвечал он улыбаясь.
Путешественница была женщина лет двадцати трех, очень красивая, стройная, очень хорошо одетая; но с ней не было никого.
Несмотря на страшную пыль по всей дороге, от станционного дома до трактира была ужасная грязь, как будто ее искусственно поддерживали.
Путешественница призадумалась, как ей пройти; вдруг до нее долетел голос краснощекого мужчины:
– Полевей: там есть доска.
– А мои вещи в коляске?
– Не тронут-с; а не то извольте приказать внести к себе.
– Неужели не скоро лошади будут? – как бы всё еще не веря, спросила путешественница.
– Как-с будут, сейчас заложим! – с любезностью отвечал краснощекий мужчина.
Путешественница обошла грязь и с большим трудом взошла на лестницу трактира, встречая почти на каждой ступеньке какое-нибудь препятствие: то собаку со щенками, скалившую зубы, то наседку с цыплятами, то корыто с месивом, щетки сапожные в ваксе, корзину с сальными огарками, – всё было тут. Она вошла в большую комнату почти без мебели; в ней никого не было. Постояв с минуту, путешественница пошла далее и в соседней комнате, тоже не отличавшейся ни чистотой, ни избытком мебели, увидела белокурого парня, босого, в розовой грязной рубашке, сидевшего за круглым столом, на кожаном диване с деревянной спинкой, украшенном медными зеленоватыми гвоздями. Парень играл сам с собою в шашки и так был погружен в игру, что не заметил появления путешественницы, которая окликнула его. Парень поднял голову, и путешественница увидела сонное, бледное и пухлое лицо.
– Комнату почище, да внеси мои вещи из коляски! – сказала она.
Парень лениво встал с дивана и мерно постукивал шашкой о шашку.
– Вон там коляска! да скажи, чтоб сейчас же закладывали лошадей, как будут.
Парень, продолжая постукивать шашками под такт своей походки, медленно вышел из комнаты.
Вещи из коляски были внесены в комнату, где ждала путешественница.
– Дайте же мне комнату, – сказала она белокурому парню.
– Да вот-с! других нет-с! – отвечал парень и стал собирать шашки.
Путешественница пугливо обвела глазами грязную комнату и тяжело вздохнула.
В самом деле, комната имела вид очень неприятный. Стены ее были забрызганы, стекла грязны. Из мебели кроме рыжего дивана в комнате находились еще круглый стол, несколько сломанных стульев, зеркало, испещренное точками и так высоко повешенное в простенке, что если б кому пришла охота в него посмотреться, то нужно было бы подставить стул, шкап со стеклами и с комодом; на полках красовалась посуда, почти вся изувеченная.
– Что у вас есть кушать? – спросила путешественница.
– Ку-шать! – протяжно повторил парень.
– Ну да! что у вас есть?
– Да у нас ничего нет-с: мы не готовили сегодня.
– Как же у вас трактир, а ничего не готовили?
– Да-с, ничего-с! – флегматически отвечал парень.
– Ну приготовьте что-нибудь!
– Огонь-с надо разводить.
– Ну так что же?
– Да провизии никакой нет.
– Дай хоть чаю! – горячась, сказала путешественница.
– Чаю-с?
– Ну да!
– Не знаю-с! кажись, хозяин взял самовар! – пробормотал парень и пошел из комнаты.
Лицо путешественницы вспыхнуло; она сказала насмешливо:
– Хорош трактир – ровно ничего нет!
– Вино есть-с, и хорошее, – с гордостью отвечал парень. – Хозяин еще недавно на восемь тысяч купил на ярмарке.
– А есть нечего! – с упреком заметила она.
– Помилуйте-с, здесь проезжающих на редкость, а в этакой жар всякое съестное портится. Ну-с а вино дело другое. Коли гостей не будет, так и сам хозяин выпьет. Не пропадет! – улыбаясь, сказал парень.
– Как хочешь, достань мне самовар! я хочу чаю! – повелительно произнесла путешественница.
– Ветчина есть, да только… – нерешительно сказал парень.
– Ну так дай! – радостно перебила его путешественница.
– Да маленько пахнет! – вопросительно глядя на путешественницу, сказал парень.
Она отвечала:
– Ну хоть самовар достань!
Парень вышел из комнаты, притворив за собой дверь, и путешественница услышала следующий разговор парня с краснощеким мужчиной; оба они лежали на окнах. Парень кричал:
– Флегонт Саввич! а Флегонт Саввич!
– Асинька, Тихоныч? – позевывая, протяжно спросил краснощекий мужчина.
– Просят самовара, а хозяин унес свой.
Ответа не было, потому что Флегонт Саввич собирался чихнуть.
– Просят самовара?
– Да!
– Да!
– Желаю здравствовать!
С минуту длилось молчание; потом зевота раздалась с обеих сторон.
Путешественница нетерпеливой рукой раскрыла окно и закричала Флегонту Саввичу:
– Дайте хоть вы самовар. В этом трактире ровно ничего нет!
Флегонт Саввич закричал повелительно:
– Мошка, Мошка!
Как бы из земли выскочил мальчишка из-под яслей и поднял голову кверху.
Мальчику было лет десять; он был бледен, худ; белые его волосы были всклокочены; толстая дырявая рубашка с поясом составляла всё его одеяние.
Флегонт Саввич важно произнес:
– Пошел, отнеси самовар Тихонычу!
Мошка кинулся на крыльцо станционного дома и через минуту, жилясь, тащил огромный самовар совершенно изумрудного цвета.
Путешественница, завидя самовар, пугливо закричала:
– Не надо! не надо!
– Мошка, назад! – крикнул, как бы обидясь, Флегонт Саввич.
– Мошка, давай скорее! – в то же время крикнул Тихоныч.
Мошка мялся, не зная, куда идти и кого слушаться.
– Мошка! – грозно крикнул Флегонт Саввич.
Мошка кинулся с самоваром к нему.
– Дурак, тащи его назад!
– Давай сюда, Мошка! я его почищу!
Мошка вопросительно глядел на Флегонта Саввича, который, указав головой на трактир, сказал:
– Ведь не желают?
– Давай!
– Ну неси!
Мошка понес в трактир самовар.
Ровно через час путешественница, соскучась ждать, вышла узнать о своей участи – будет ли она хоть пить чай? В большой комнате не было никого, и она раскрыла дверь в сени.
Смрад был страшный в сенях от самовара, наружность которого нисколько не изменилась. Он клокотал у самой головы спящего парня, растянувшегося на лестнице. При виде путешественницы собака выскочила из корзинки и, скаля зубы, кинулась на нее, как бы охраняя сон парня. Как ни кричала путешественница, выглядывая из двери, ей не было другого ответа, кроме сильного хранения парня и рычания собаки.
Слезы досады выступили на глазах путешественницы, и она, возвратясь в свою комнату, подошла к окну, в надежде пригласить на помощь Флегонта Саввича, чтоб разбудить спящего полового. Но, увы! Флегонт Саввич, засев плотно в окне, тоже сладко спал, свеся голову через сложенные руки, отчего его красное лицо посинело.
Путешественница стала звать дремавшего на крыльце мальчика; она долго звала его безуспешно, наконец крикнула:
– Мошка!
Тогда мальчик пугливо вскочил и поднял голову кверху, где висела голова Флегонта Саввича.
– Мальчик, ко мне! – маня его, сказала путешественница.
Мошка кинулся через дорогу, вмиг очутился в дверях и, высунув свою косматую голову, спросил:
– Чего нада-с?
– Разбуди… как его зовут? ну, что спит на лестнице… собака кидается на меня!
– Его таперича не разбудишь!
– Отчего?
– Коли он захрапел, так ничем, кроме холодной воды! Уж его так завсегда хозяин будит.
– Ну облей его водой.
– Как же-с, я боюсь!
– Кто же мне даст самовар?
– Да я подам.
– Где тебе! ты и без воды-то его едва принес. Нет, лучше я положу в чайник чаю, а ты и налей там кипятку.
Мошка подставил стул к шкапу, достал с полки чайник с отбитым и почерневшим носком. Засаленный шнурок придерживал крышку его.
– Ты вымой его сперва, – сказала путешественница и прибавила: – Да как тебя зовут?
– Мирон!
– Отчего же тебя называют Мошкой?
– Знать, так им хочется!
– Есть у тебя мать, отец?
– Нет, мать давно-давно умерла, а батька убился зимой.
– Как?
– Он был ямщик: ну и убился.
– Где же ты живешь?
– А вон там.
И мальчик указал на крытый двор.
– И зимой? разве тебе не холодно? – с ужасом спросила путешественница.
– Иной раз так ночью прикрутит, что плачу, плачу… А сливочек достать? – спросил Мирон и потянулся на вторую полку.
– Отчего же тебя не пускают спать, где тепло?
– А как же – я должен будить Флегонта Саввича: кто приедет аль почта! – не без гордости отвечал Мирон.
Мальчик был так услужлив, что даже где-то достал путешественнице свежих яиц и черного мягкого хлеба, за что получил очень хорошее награждение. К ужасу своему путешественница узнала от Мирона, что не ранее завтрашнего дня ей дадут лошадей.
Часа через три сонный парень втащил самовар в комнату путешественницы, которая не могла не улыбнуться его удивленному лицу, когда он узнал, что она уже давно напилась чаю. Путешественница хотела было прилечь отдохнуть на диване, но парень сказал ей:
– Уж вы не извольте на нем ложиться – никак!
– А что?
– Да один приезжий чуть в окно не выскочил: так его закусали!
Путешественница с ужасом соскочила с дивана и села у окна.
Наблюдая за всем, что делается на улице, она убедилась, что действительно не для кого готовить кушать в трактире. Проезжающих совсем не было. Парень и Флегонт Саввич валялись на окнах, лениво перебрасываясь словами; драка петухов занимала их, словно какое-нибудь необыкновенное представление.
Путешественница принимала все меры к сокращению времени: работала, читала, пробовала дремать, и очень обрадовалась, когда солнце село и стало смеркаться. Она послала спросить о лошадях у Флегонта Саввича и получила ответ, что, «как будут лошади, сейчас заложат». И, покорясь своей участи, она решилась провести ночь в комнате, откуда кто-то покушался выброситься через окно. Страшный стук телеги, крики, плач Мирона заставили ее выглянуть из окна. Она увидела приезжего господина, в усах, в серой шинели, в фуражке набекрень: он страшно кричал, наступая на Мошку:
– Так нет лошадей? нет? А куда же они девались?
Путешественница крикнула:
– Флегонт Саввич! – и голос у ней замер от взгляда, брошенного на нее приезжим. Он расшаркнулся и, приподняв фуражку, сказал:
– Коман ву порте ву?
Путешественница пугливо заперла окно. Через минуту она услышала страшный шум в соседней комнате и умоляющий голос парня:
– Да нельзя-с, ей-богу, нельзя-с: занята-с.
– Пошел дурак! пошел! – кричал приезжий.
И дверь раскрылась настежь: сначала влетел в нее сонный парень, а потом бойко вошел усач; расшаркавшись, он сказал путешественнице:
– Экскюзе пур деранже! – и, крутя усы, пошатываясь и улыбаясь, он глядел на путешественницу, которая, вся вспыхнув, сердито сказала:
– Эта комната занята!
– Я не буду, сударыня, вас беспокоить. Эй, вина! да смотри, хорошего! – крикнул усач, усаживаясь на диван и набивая себе трубку из кисета, висевшего на пуговице его шинели.
Путешественница пошла к двери.
– Куда-с? Я, кажется, вас не обидел и не мешаю вам? – вскочив с дивана, сказал усач.
– Напротив, очень. Я первая заняла эту комнату; но если… Я уступаю ее вам.
– Помилуйте, сударыня! да я за честь почту услужить такой прелестной… Вы изволите ожидать лошадей?
– Я устала и прошу вас оставить мою комнату! – нетерпеливо и повелительно сказала путешественница.
Но усач расставил широко ноги; крутя усы и лукаво поглядывая на путешественницу, он продолжал:
– Вы откуда-с?
– Вы слышали мою просьбу – оставить меня в покое! – выходя из себя, сказала путешественница.
– Извините, извините, сударыня! – шаркая, говорил усач, но не двигался с места.
Не спуская глаз с нее, он спросил:
– Вы одни-с изволите путешествовать?
– Оставьте мою комнату! – крикнула путешественница.
– Экскюзе, мадам! Не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен?
– Очень, если вы оставите мою комнату!
– Вы здесь изволите ночевать?
– Да!
Усач закрутил усы, зашаркал, бормоча: «Экскюзе», и важно вышел вон.
Путешественница радостно кинулась запирать дверь – и с ужасом вскрикнула: замок был испорчен, ни крючка, ни задвижки не было. Бледность разлилась по ее лицу, когда она услышала голос усача:
– Вели отложить! я здесь останусь ночевать.
Путешественница открыла дверь и сказала слуге:
– Вели мне их заложить!
– Экскюзе, мадам! – радостно подскочив к ней, сказал усач.
Путешественница захлопнула дверь. Сердце у ней сильно билось, руки дрожали, и она в отчаянии искала убежища в своей комнате, пока усач бранился с парнем, осмелившимся ему заметить, что в комнату нельзя входить, потому что она занята. От страха у путешественницы как бы явилась сверхъестественная сила: она притащила диван к двери, поставила на него стол, стулья, даже бросила свой платок и салоп, воображая этим увеличить тяжесть. Потом она раскрыла окно и крикнула Мирона, которому велела принести гвоздей и молоток. Пока она связывала полотенцы и спускала за окно, чтоб Мирон навязал ей гвоздей, усач стучался в дверь, говоря:
– Сударыня, отворите! отворите!
Мирон так был догадлив, что даже навязал доску. И не успела она втащить всё это, как усач, высунувшись из окна своей комнаты, закричал:
– А-а-а! здравствуйте, здравствуйте! зачем вы прячетесь от меня? а?
Путешественница скрылась от окна, затворив его, и принялась заколачивать дверь.
Усач продолжал кричать, стуча чубуком в стекло:
– Не прячьтесь! выгляньте-ка! мне очень нравятся ваши глазки: держу пари целую дюжину, что лучше их не найдется во всем свете. Эй, вина! – заключил он, как будто уже выиграл свое пари.
Слезы ручьями текли по щекам бедной путешественницы, вколачивавшей бесчисленное количество гвоздей в доску, из которой она сделала нечто вроде запора.
– Что вы там стучите, а? да взгляните! – продолжал кричать усач, ударив с силою чубуком в стекло так, что оно треснуло.
Путешественница открыла окно, вырвала чубук из рук усача, который никак не ожидал этого, и бросила его на улицу, в грязь.
– Браво, браво! вот молодец! браво! – аплодируя, кричал усач и, высунувшись до половины из окна, сказал: – Слышите, я теперь должен получить награждение!
И усач стал стучать в дверь и грозился выломать ее, догадавшись, что дверь заколочена. Он стал бить посуду, выбрасывая стулья за окна и страшно бранился.
Ночь провела путешественница в страшной тревоге, не смыкая глаз. Усач неутомимо бушевал.
Лишь только стало рассветать, к станционному дому подъехала отличная дорожная коляска; на козлах и назади сидело по лакею, которые стали, горячась, спорить с Флегонтом Саввичем о лошадях, потому что он более четверки не давал, а они требовали шесть. Однако наконец стали запрягать шесть; тогда путешественница раскрыла окно и сказала Флегонту Саввичу:
– Помилуйте! как вам не стыдно держать меня целые сутки здесь, когда есть же у вас лошади?
– Нельзя-с! – грубо отвечал Флегонт Саввич.
Из коляски высунулось мужское лицо и поглядело на путешественницу, которая в ту минуту вскрикнула, потому что усач, высунувшись из соседнего окна, хотел схватить ее за плечо.
Путешественница ловко уклонилась и в отчаянии произнесла, обращаясь к новому приезжему:
– Это ужасно, что они со мной делают!
И она заплакала.
Приезжий поспешно вышел из коляски. Он был мужчина средних лет, высок, довольно полон. Лицо его было рябо, черты правильны и не лишены ума и приятности. Поговорив с Флегонтом Саввичем, он обратился к усачу и сказал:
– Милостивый государь, извольте-ка выйти вон из трактира и оставьте в покое даму!
– Спасите меня! я сойду с ума! – умоляющим голосом сказала путешественница.
Усач залился смехом.
– Успокойтесь: вы сейчас будете освобождены от невежливого вашего соседа, – отвечал приезжий и пошел в трактир.
Путешественница дрожала, прислушиваясь к разговору, происходившему между усачом и ее защитником. Сначала усач кричал, горячился, потом стал тише, наконец кто-то слегка постучался в дверь к путешественнице и сказал:
– Теперь вы можете выйти: его нет здесь. Велеть заложить вам лошадей?
Путешественница так заколотила дверь, что не могла вытащить гвоздей.
– Я не могу выйти! – сказала она.
– Отчего?
– Я так заколотила дверь от него…
– Ах, боже мой! и давно вы находитесь в этом положении? – с участием спросил приезжий.
– Со вчерашнего вечера!
– Я сейчас распоряжусь: велю снять с петель дверь.
– Погодите! я, кажется, отворю!
Через несколько минут дверь уступила общим усилиям, и путешественница предстала, с пылающими щеками, пред лицом своего покровителя.
Они раскланялись. Путешественница подробно рассказала свое горестное положение и с чувством благодарила своего избавителя, который пригласил ее сделать ему честь пить с ним чай. Вместо зеленого самовара Флегонта Саввича и грязного чайника с отбитым носком чай был сервирован на серебре, и уже не босой парень и не грязный Мошка услуживали путешественнице, а ловкие лакеи. Всё окружающее показывало, что покровитель ее был человек благовоспитанный и с достатком; а сам он к этому прибавил, что он человек семейный. В его голосе и манере было столько солидности, что путешественница чувствовала себя совершенно свободной. Он сказал ей свою фамилию, но не любопытствуя узнать ее. Лакеи называли его Марком Семенычем.
Когда лошади были готовы в обоих экипажах, Марк Семеныч усадил путешественницу в ее старомодную коляску, простился с ней, и она поехала. Дорога, видно, им была одна, потому что Марк Семеныч ехал сзади. Путешественница, не спавшая целую ночь, сладко заснула, убаюканная мерным покачиванием своей высокой коляски. Когда она проснулась, глаза ее встретились с глазами Марка Семеныча, который стоял на ступеньках коляски и смотрел к ней в окно.
– Я вас разбудил?
– Мы приехали? – покраснев и оправляя свой туалет, спросила путешественница.
– Давно. Уж одиннадцать часов.
– Как?
– Я рассудил, что вам надо отдохнуть.
– И это вы меня ждали? – почти с упреком воскликнула она.
– Встреча ваша с этим грубым человеком, кажется, поселила в вас сильное отвращение к мужскому обществу, – смеясь, сказал Марк Семеныч и прибавил с утонченною вежливостью:– Если вы меня не причисляете к числу людей ветреных и не уважающих женщин, то позвольте мне вас высадить из коляски и провести в комнату, где нас ждет чай.
Путешественница смело подала руку Марку Семенычу и почувствовала легкое пожатие, сопровождаемое словом «Merci»[4], тихо произнесенным. Марк Семеныч привел ее в комнату, где нашла она всё уже приготовленным для туалета. Эта внимательность тронула ее, и она, освежая свое лицо, невольно сравнивала все свои встречи в дороге. Переменив свой туалет, путешественница явилась в комнату, где ее ждали самовар и Марк Семеныч, который, указывая на диван, сказал:
– Не откажите мне в моей просьбе: позвольте мне пить с вами чай? Я так привык к семейной жизни, что пить чай одному для меня страшное наказание!
Она с готовностью поспешила разлить чай, желая хоть чем-нибудь отплатить своему покровителю за всю его внимательность к ней.
Они продолжали дорогу вместе. Чай, обед, завтрак были продолжительны. Марк Семеныч был так любезен, что упрашивал путешественницу останавливаться ночевать, боясь за ее силы; но она не согласилась.
– Я, право, боюсь, чтоб вас не утомила дорога, – говорил Марк Семеныч.
– О нет! я теперь очень покойна и отлично сплю в коляске.
– Позвольте мне сделать вам один нескромный вопрос; но я потому осмеливаюсь его сделать, что завтра, может быть, он будет еще более некстати. Мы приедем в Москву; у вас, верно, есть там родственники, близкие знакомые?
– У меня нет ни тех, ни других.
– Какая же цель вашего путешествия? – с живостью спросил Марк Семеныч и прибавил:– Извините мое… любопытство… вы, верно, так поймете мой вопрос.
– Только два дня, как мы знакомы, и вы столько сделали мне одолжений, что имеете полное право сделать мне такой вопрос. Я смело решаюсь вам открыть мое положение, – искренно сказала путешественница.
– Я буду очень счастлив, если вы удостоите меня вашей доверенности.
– Мой отъезд был неожидан; как вы видите, со мной даже нет горничной. Цель моего путешествия неопределенна. Я не могу жить независимо. И я решительно еще не знаю, что буду делать.
Марк Семеныч сказал:
– Может быть, с моей стороны будет нескромно, если я изъявлю мое участие?
– Напротив, я очень буду вам благодарна! – с чувством отвечала путешественница.
– Не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен? Я очень много знаю людей с весом в Москве. Не желаете ли какого-нибудь места?
– Я боюсь должности гувернантки.
– Почему?
– Во-первых, я получила домашнее воспитание.
– Тем лучше! Я гораздо более предпочитаю…
– Во-вторых, мне кажется, что обязанность слишком щекотливая для самолюбия…
– Ваше самолюбие не может страдать: тот, кто вас увидит, в каком бы вы ни были звании, всегда оценит и…
– Я никогда не пробовала заниматься с детьми, хотя я их очень люблю.
– Любовь к ним есть самый верный залог, что вы можете быть наставницей их.
– Всё так; но это занятие меня пугает…
– Будьте покойны: я отыщу вам порядочный дом, где вы, верно, измените ваше мнение об этом занятии. Люди образованные понимают, как высоко значение быть второй матерью их детям…
– Если б я нашла таких людей, то мне было бы совестно, что я не буду уметь выполнять как следует своих обязанностей.
– По вашим летам и красоте?.. Но это ничего не значит! – как бы опомнясь, заметил Марк Семеныч.
Женщине нетрудно угадать, какое она произвела впечатление на мужчину, и путешественница ясно видела, что почтительность и внимание к ней Марка Семеныча доходили до высшей степени. Но его солидная наружность, ежеминутное воспоминание о детях и жене разрушали всякое сомнение путешественницы. Она смотрела на всё его участье к ней как на плод необыкновенно сострадательного сердца, каким обладал Марк Семеныч. Его слова, казалось, подтверждали это. Он сказал путешественнице, заметив, что она избегает его заботливости:
– Я сам отец и представляю себе весь ужас положения беззащитности, в каком вы находитесь. Моя обязанность, как мужа и отца, оказывать помощь беззащитным женщинам. Да, я научился уважать их вполне только тогда, как сделался их покровителем/ У меня три дочери, и очень хорошенькие; я ужасно огорчен, что должен поручать их разному сброду, приезжающему сюда из-за границы. Их жизнь тайна для нас, а мы между тем смело вверяем им своих детей, – с грустью говорил Марк Семеныч.
Они приближались к Москве и на другое утро должны были приехать; но неожиданный случай замедлил их приезд.
Вечером, когда они остановились пить чай, Марк Семеныч вошел озабоченный в комнату и с досадой сказал:
– Надо же быть такому случаю!
– Что такое? – спросила путешественница.
– Ось лопнула! это просто как на смех!
– Вас ждет завтра ваше семейство и будет беспокоиться…
– Нет! оно в деревне, и я возвращусь ранее срока. Но как же вам ждать?
И Марк Семеныч вопросительно глядел на путешественницу, которая сказала:
– Теперь так близко, что, я думаю, со мной не может ничего случиться.
– Не лучше ли послать вперед одного из моих лакеев: пусть вам приготовит нумер, и…
– О нет, это лишние хлопоты!
– Я должен вам сказать откровенно, что также имею цель: мне хочется известить о моем приезде семейство. А вы пока отдохните, поговорим о ваших намерениях, – что вам предпринять…
Лакей был послан на перекладных; а путешественница с Марком Семенычем, в ожидании починки экипажа, отправилась гулять.
Вечер был очень хорош; они незаметно зашли далеко. Стемнело совершенно, когда они возвращались. Марк Семеныч крепко сжал руку путешественницы; она не отнимала ее, потому что всё, что он говорил, далеко было от волокитства. Дети, семейство, обязанности отца – вот предмет его разговора.
Ужин был уже готов, когда они возвратились с гулянья. Они весело сели за стол.
Марк Семеныч был любезен. Из строгого отца семейства он превратился в самого тонкого дамского угодника. Ужин был великолепен. Налив бокал вина, Марк Семеныч встал и почтительно сказал:
– Позволите ли вы мне выпить за ваше здоровье и за ту минуту, когда вы решились почтить меня вашей дружбой? Да, я прошу у вас дружбы…
Путешественница что-то проговорила, благодаря Марка Семеныча, который, протянув к ней руку, с жаром сказал:
– Вашу руку! у вас есть теперь самый искренний и преданный друг и защитник. Я смело мог бы поспорить с вашим братом или отцом в чистоте моих чувств. Итак, мы друзья!
И Марк Семеныч поцеловал руку путешественницы.
Ужин длился долго: почти за полночь они встали из-за стола, чему путешественница была очень рада, потому что ей стало как-то неловко от пристальных, даже увлаженных слезой взглядов Марка Семеныча и от вопросов: точно ли она его друг?
Усаживая ее в коляску, Марк Семеныч опять поцеловал у ней руку.
Путешественница не скоро заснула: лошади скакали во весь дух, как бы желая наверстать время, потерянное за починкой оси. Марк Семеныч на каждой станции отворял дверцы коляски путешественницы и, стоя на ступеньках, обращался к ней с заботливыми вопросами: спокойно ли ей? не хочет ли она пить чего-нибудь?
– Вам, кажется, неловко лежать? – спросил ее Марк Семеныч на одной из станций. – Не дать ли вам подушку?
– Не беспокойтесь: у меня есть! – отвечала путешественница; но Марк Семеныч спрыгнул со ступенек и через минуту возвратился с подушкой.
– Мне, право, не надо: у меня есть своя! – говорила путешественница.
– Ложитесь, ложитесь! дайте вашему другу позаботиться об вас. Ну, так хорошо ли?
И Марк Семеныч, взяв голову путешественницы и положив ее на подушки, сам сел на второе место в коляске.
– Что же мы не едем? – спросила путешественница, прервав неприятное для нее молчание.
– Верно, лошади не готовы.
– Вот они, готовы! – выглянув из коляски, заметила путешественница.
– Вы гоните своего друга! вы кажется, не верите искренности моей? – с упреком возразил Марк Семеныч.
– Помилуйте! – сконфузясь, произнесла путешественница.
– Да, да! Я так в жизни был несчастлив, что даже ни лета мои, ни обязанности не уничтожают преград к простым чувствам дружбы, о которой я с детства мечтал. Знаете ли, что я, бывши ребенком, чуть не умер оттого, что дружбу мою отвергли. Я женился по любви и очень счастлив до сих пор. Но дружбы, дружбы – этого тихого, кроткого чувства – я желаю теперь!
– Говорят, что между женщиной и мужчиной не может быть дружбы, – заметила путешественница.
– Это вздор! Одни скептики да люди, истратившие всю искренность чувств и попирающие свои обязанности, так говорят. Нет, я был дружен с одной женщиной: всё кругом толковало, судило в том роде, как вы сейчас заметили, что между женщиной и мужчиной не может быть дружбы. К счастию, домашние ее и мои слишком хорошо знали меня и смеялись над толками. Я должен сознаться вам, что часто спешил ей первой сообщить какое-нибудь мое горе или радость.
– Может быть, вы, сами не зная, любили эту женщину?
– Помилуйте! если б я любил эту женщину, разве бы я мог радоваться и способствовать ее браку? Нет, я ревнив, и страшно ревнив! Но она! она была мне искренним другом.
– Где же она теперь?
Марк Семеныч в волнении произнес:
– Она умерла!.. Вы напомнили мне живо о моей Вере. Я был поражен сходством вашим с ней. Когда я смотрю на вас, мне кажется, что передо мной моя Вера, мой искренний друг! – И Марк Семеныч взял руку путешественницы и умоляющим голосом прибавил: – Замените мне мою Веру!
Путешественница пришла в такое волнение, что пугливо сказала:
– Успокойтесь… Нас ждут лошади…
– Извините! я забылся: мне казалось, что я сижу с моим другом; а воспоминание о ней наводит на меня страшную тоску. Я сам не понимаю, что со мной делается.
И Марк Семеныч ударил себя в грудь; слезы ручьями текли по его щекам, и он, ломая руки, повторял тоскливо:
– Вера, Вера!
Путешественница с удивлением глядела на порывы отчаяния человека в летах, с наружностью, по которой нельзя было подозревать такой сильной сентиментальности.
– Марк Семеныч, если б было в моей власти заменить вам вашего друга, я была бы очень счастлива!
– О, будьте добры, не оставляйте меня в такую минуту! – рыдая, говорил Марк Семеныч.
Слезы и просьбы его были так искренни, что путешественница, забыв неловкое положение свое, стала утешать его.
Через несколько минут Марк Семеныч как бы пришел в себя, стал извиняться и сказал:
– Эти припадки у меня с детства, и я могу показаться очень странным и смешным тому, кто меня не знает. Я лечился много; но еще не открыто средство против сильной впечатлительности сердца. Достаточно малейшего потрясения моим нервам, чтоб я впал в такое состояние, в каком вы меня сейчас видели… Я думаю, я вам надоел? извините меня…
И Марк Семеныч вышел из коляски и более уже не беспокоил путешественницу, которой долго еще слышался его молящий голос, с тоскливой нежностью взывающий к Вере.
Рано утром они остановились пить чай уже близко от Москвы. Марк Семеныч был по-прежнему почтительно-вежлив с путешественницей; но грусть была разлита в его словах и взгляде. После чаю он серьезным голосом сказал ей:
– Не можете ли вы мне пожертвовать десятью минутами вашего времени?
– С большим удовольствием!
– Имеете ли вы ко мне настолько доверенности, чтоб принять мое предложение?
– Какое?
– Я всё время обдумывал, что бы вам предпринять, и мне пришла мысль…
– Какая?
– Предложить вам, так, для пробы, взять на себя обязанность следить не за учением моих детей, а за их нравственностью. Я прошу вас не обижаться моими словами… Вы будете в порядочном семействе, под защитою моей жены, во всех отношениях достойной…
– Благодарю вас… но я… право…
– Согласитесь на мою просьбу: докажите, что вы не обиделись моим предложением.
– Я ничуть не обиделась, но…
– Значит… я имею ваше согласие? я счастлив, что дети мои будут под присмотром такой женщины, как вы.
– Но как же, – в недоумении заметила путешественница, – ваша жена? она не знает…






