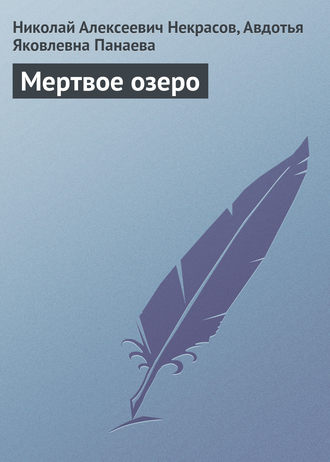
Николай Некрасов
Мертвое озеро
Глава XLV
Праздник
Приезд кочующей труппы произвел сильное волнение во всей деревне.
Всё сбежалось смотреть, как волтижеры въезжали и входили в барский двор.
Юлия ехала в деревянной колеснице, управляя тремя лошадьми, разукрашенными перьями. Сама она была одета в какое-то газовое платье с блестками, с крылышками назади. Голова была убрана измятыми цветами. Юлия держала в руке золотую палочку, которою размахивала в воздухе. Фриц и его товарищ ехали, в костюмах очень пестрых, верхом; дети бежали возле них, кувыркаясь и цепляясь за хвост лошади. Наставница собак вела пуделя, на котором сидела обезьяна в гусарской курточке с саблей наголо. Другие собачонки бежали сзади, попарно, связанные веревками. Итальянец вел свою маленькую лошадку. Слепой играл на шарманке, весь согнувшись под ее тяжестью.
Сестры-артистки и другие актрисы и актеры труппы Петровского прибыли позже в кибитках и старых экипажах Тавровского.
Остроухову, как опытному актеру, Петровский всегда поручал устроить и приладить всё. Эти занятия, казалось, оживили старика. Спина его выпрямилась, глаза блестели, голос сделался чище; и часто, выхватив топор из рук неопытного плотника, Остроухов сам прилаживал дерево или лазил по кулисам, развешивая лампы.
Павел Сергеич присутствовал очень часто на сцене и однажды чуть не был ушибен дверью, которую тащил Остроухов, делая репетицию плотникам.
– Посторонись! – крикнул ему Остроухов, с усилием таща дверь.
Тавровский отскочил в сторону, но потом снова кинулся к кулисе и, приняв ее из рук Остроухова, поставил на место, спросив:
– Тут ей стоять?
– Здесь! – отвечал Остроухов, вытирая пот с лица рукавом своей рубашки и пристально глядя на Павла Сергеича, который спросил его:
– Ты бутафор или декоратор труппы?
– Всё что угодно. «Сам и пашет, сам орет и оброк с крестьян берет», – кланяясь, отвечал Остроухов и прибавил:– Не имею ли чести говорить с самим господином Тавровским?
– Да! как же вы меня узнали? а ваша фамилия?
– Остроухов.
– Остроухов… – протяжно повторил Тавровский, как бы припоминая что-то.
– Вы могли слышать обо мне только от одного лица, – заметил Остроухов нерешительным голосом.
– От кого? – быстро спросил Тавровский.
– Любская… – медленно произнес Остроухов.
– Я знаю ее! – отвечал поспешно Тавровский.
– Позвольте узнать, где она теперь, счастлива ли?..
Тавровский ничего не отвечал на вопрос Остроухова и, глядя пытливо на него, спросил:
– Вы родственник ей?
– Нет! – со вздохом отвечал Остроухов и с жаром прибавил: – Я принимаю в ней…
– А-а-а! вы, верно, были влюблены…
– Я слишком стар и беден был и тогда, чтоб быть соперником…
Тавровский усмехнулся и перебил его:
– Вы, как я вижу, знаете все тайны Любской.
– В то время как я знавал ее, она была самая несчастная…
– Ну, будьте покойны: она теперь не может жаловаться на свою судьбу.
В голосе Тавровского заметна была ирония; но ее мог подметить только тот, кто коротко знал его. Остроухов же с чувством схватил было его руку и хотел пожать, но, опомнясь, выпустил и пробормотал:
– Извините… радость… я ее люблю, как родную дочь.
Тавровский протянул руку Остроухову и с любезностью сказал:
– Я очень рад познакомиться с вами, господин Остроухов.
И они пожали друг другу руки.
Тавровский тотчас переменил разговор, начал расспрашивать о состоянии труппы и чрез несколько минут, как бы вспомнив о чем-то, поспешно пошел со сцены. Остроухов долго стоял на одном месте, посреди гама и шума, происходившего вокруг него…
Настал день рождения Любы, которая с отцом и другими соседями приехала с вечера к Тавровскому.
С самого раннего утра начались сюрпризы для Любы. Комната, смежная с тою, где она спала, в ночь была уставлена потихоньку любимыми ее цветами. Попугай сидел в золоченой клетке, маленькая левретка лежала на ковре. Люба проснулась от следующей фразы:
– Любочка, пора вставать. Люба, bonjour[3]!
Люба соскочила с постели и кинулась к двери; она тихонько заглянула в нее, желая знать, кто там мог ее навивать, и остановилась, удивленная превращением комнаты. Лай левретки вывел ее из этого положения, и она пустилась бегать по комнате, желая поймать собачку, которая, как нарочно, чтобы продлить эту сцену, увертывалась от рук Любы. Попугай, хлопая крыльями и крича пронзительно, произносил очень чисто: «Люба, Люба!»
Люба, в ночном туалете, с лицом, хранившим еще следы сладкого сна, озаренным удивлением и радостью, окруженная цветами и освещенная ярко лучами раннего утреннего солнца, – была очень эффектна.
Стеша тихонько выглядывала из щелки противоположной двери. И когда Люба стала осыпать поцелуями левретку, подруга ее вошла в комнату и насмешливо глядела па Любу, которая весело обратилась к ней и стала рассказывать свое пробуждение.
Стеша невнимательно слушала, смотря на левретку, старавшуюся укусить необутые ножки Любы, и недовольным голосом перебила ее:
– Уж теперь ты глядеть не захочешь на нас!
– Стеша! – обиженно заметила Люба.
– Разумеется, ты гордая стала.
Люба повернулась спиной к Стеше, которая с презрением сказала:
– Сердись: я тебя никогда не буду бояться. Слышишь, никогда! даром что он учит тебя важничать со мной.
– Ты вздор болтаешь, Стеша!
– И ты думаешь, что он тебя любит? много?
– Разумеется!
– Да он всем говорит, что любит!
Люба, вспыхнув и топнув ногой, с сердцем сказала:
– Я тебе, Стеша, уж раз навсегда сказала, чтоб ты ничего не смела говорить о нем!
– Я хочу и буду говорить: он тебя обманет, как и других!
Люба засмеялась и с уверенностью отвечала:
– Он любит меня одну, и я не боюсь ничего, что ты ни болтаешь.
– Если он тебя любит, отчего же он не женится на тебе, а?
– Как?! – в недоумении спросила Люба, как бы пораженная чем-то.
– Ну как! известно, как женятся все, кто не хочет обманывать. Все женятся. А он разве тебе говорил, что женится на тебе? – язвительно улыбаясь, говорила Стеша, глядя на пугливое выражение невинной девушки, которая тихо бормотала:
– Нет, он никогда мне не говорил…
– То-то и есть!.. И он даже скоро уедет отсюда! – торжествующим голосом и протяжно сказала Стеша.
Люба побледнела. Стеша, смеясь, выбежала из комнаты.
Недолго испуг и сомнение терзали доверчивую девушку, тем более что Стеша так часто и много говорила дурного о Тавровском. Люба опять стала бегать с левреткой под крик попугая, который уже был выпущен на волю. Но вдруг, как бы о чем-то вспомнив, Люба поспешно оделась, вышла в сад и бегом пустилась по его аллеям. Запыхавшись, она прибежала к той беседке, которую занимал Павел Сергеич, и, отворив ее небольшим ключом, бывшим у ней в руках, вошла и быстро захлопнула за собой дверь. В беседке всё было, как прежде; полумрак от жалюзи и запах цветов придавали комнате что-то таинственное. Верно, Любе это не понравилось, потому что она подняла жалюзи, – и яркий свет ворвался в беседку. Люба только тогда заметила бесчисленное множество сюрпризов, приготовленных ей. Огромная коллекция бабочек и колибри, вместе с книгами об естественной истории, стояли на столе. Удочки, рыбные снаряды – ничто не было забыто, чем только Люба занималась или интересовалась. Упав в кресло и закинув голову, Люба долго оставалась в этом утомленном от счастия положении. Легкие шаги в саду заставили ее встрепенуться, и она, открыв дверь, кинулась навстречу Павлу Сергеичу, который принял Любу в объятия, приподнял и поцеловал в лоб, поздравив ее с днем рожденья. Люба хотела что-то сказать, но не могла; слезы выступили у ней на глазах, и она, сложив руки на своей груди, высоко поднимавшейся от волнения, с такою нежною благодарностью глядела на Павла Сергеича, что он с грустью сказал:
– Я не стою одного такого взгляда твоего, Люба. Я счастлив, что мог угодить тебе этими пустяками.
Люба со смехом рассказала свое пробуждение и, верно вспомнив слова Стеши, слегка смутилась и, взяв за руку Павла Сергеича и смотря ему в глаза, робко сказала:
– Ты меня не станешь обманывать?
– Я убежден, что это опять следствие болтовни дерзкой твоей горничной. Ты так сама чиста, что никакие подозрения не могут зародиться в твоей головке. Люба, прошу, даже умоляю тебя, для твоего спокойствия, удалить эту дикарку. Она своими дикими чувствами способна наделать кучу неприятностей.
– Я не знаю, что с ней сделалось! она прежде была такая добрая, так любила меня…
– Люба, она взбалмошная девушка. Ревность…
– Как?! кого она ревнует? – быстро спросила Люба.
– Тебя! – улыбаясь, отвечал Павел Сергеич и наставительно прибавил: – Пожалуйста, берегись ее, держи себя дальше от ее бесед. Ты дитя еще, а она уже женщина, к тому же дикая. Ну, что она тебе насказала сегодня?
Люба, вспомнив слова Стеши, что Павел Сергеич уедет, пугливо передала их.
– Это слишком! – разгорячась, воскликнул Павел Сергеич. – Нет, она будет отравлять наше счастье!
– Так ты не уедешь? нет? – повторяла Люба умоляющим голосом.
– Ты скажи от меня ей, что она дурная девушка и лгунья, – едва сдерживая свой гнев, говорил Павел Сергеич.
Это испугало Любу, и она, побледнев, смотрела на него. В первый раз, с тех пор как она познакомилась, Люба видела Тавровского в таком гневе. Заметив, что произвел дурное впечатление на Любу, он кротко сказал:
– Эти два лица, кажется, поклялись меня преследовать.
– Илья о тебе никогда ничего не говорит, – перебила его Люба.
– Всё равно: не говорит, так думает.
– О нет, он добрый.
– То есть умеет скрывать свои чувства и обуздывать себя: не так, как его сестра. Впрочем, оставим их. Я пришел для тебя и хочу глядеть на тебя, говорить о тебе.
И долго еще говорил Павел Сергеич в этом роде. Люба со вниманием слушала его.
Они расстались не скоро, потому что слишком были заняты рассматриванием коллекции бабочек, отыскивали в книге их названия, болтали о посторонних вещах. Павел Сергеич, однако, первый вспомнил, что время уйти.
Люба застала Стешу в своей комнате, играющую с левреткой.
– Оставь ее! ты лгунья! – сказала сердито Люба.
Стеша не верила своим ушам: в первый раз подруга ее детства назвала ее так.
– Да, ты лгунья! и не смей трогать ничего, что он мне подарил, – продолжала Люба и, подозвав к себе собачку, стала осыпать ее поцелуями.
Стеша оставалась на своем месте; дико поводя глазами в стиснув зубы, она сказала:
– Так я лгунья?
– Да! это и он велел тебе сказать.
Стеша, не помня себя от гнева, подскочила к попугаю, спокойно сидевшему на клетке, и бросила его на пол. Люба кинулась на помощь. Стеша в это время ударила ногой собачку, которая страшно завизжала. В заключение Стеша побросала на пол цветы и мяла их ногами, повторяя:
– Вот, смотри, как я боюсь дотронуться до его подарков!
Глаза Стеши горели страшным огнем, когда она, остановись посреди комнаты, искала еще чего-нибудь, на чем могла бы выместить свой дикий гнев.
Люба, бледная как полотно, с полуоткрытыми губами, дрожа от ужаса, глядела на свою подругу, которая как бы вздрогнула и зажала уши от визга собаки. Через минуту Люба, тяжело вздохнув, оглядела комнату и, останавливая свои спокойные глаза на Стеше, повелительно сказала ей:
– Поди прочь отсюда!
В лице и во всей фигуре Любы было столько силы и гордости, что Стеша, закрыв лицо, горько заплакала.
– Иди! я не хочу больше тебя видеть! ты злая, ты страшная! уходи скорее!
– Люба! – умоляющим голосом произнесла Стеша.
– Не смей меня так звать теперь: я больше тебе не сестра! и не смей входить ко мне! – горячась, говорила Люба.
Стеша гордо подняла голову и, удаляясь, сказала:
– А-а-а! это он тебе велел меня выгнать?
Люба, презрительно глядя на Стешу, молчала.
– Я уйду, и ты меня больше никогда не увидишь.
– Мне всё равно, я даже не могу говорить с тобой, уходи скорее!
И Люба с отвращением отвернулась от Стеши, которая выбежала из комнаты.
Целое утро прошло в разнообразных развлечениях. Не только Люба и другие гости, но даже вся деревня и дворня предавались неописанному восторгу. Не говоря о вине, которое лилось рекой, о пирогах, пряниках и орехах, которыми были уставлены огромные столы, – Тавровский сам поминутно входил в толпу крестьян, обнимался с ними, чокался. Собачьи комедии, волтижированье и другие фокусы до того удивляли мужиков и баб, не исключая самых почтенных стариков, что невозможно было оставаться равнодушным зрителем: их простодушный смех был так увлекателен, что Тавровский и сам смеялся до слез над кривляньем итальянца, который в интермедиях разговаривал с толпой и выкидывал разные фокусы.
За несколько часов до представления на сцене и в комнатах, где одевались актрисы и актеры, была страшная суматоха и крики.
Несчастный содержатель кочующей труппы, одетый сам в испанский костюм, бегал из одного угла в другой, из одной комнаты в другую.
– Да как же я выйду? платье на четверть не сходится! – кричала Настя, поворачиваясь спиной к Петровскому, который отвечал:
– Наденешь мантию; на что же и держим мантии? никто и не заметит!
– Мне покрывало, скорее покрывало! – подбегая к содержателю, кричала другая актриса.
– Посмотрите, ради бога, какие грязные сапоги-то! – говорил басом толстый актер, силясь взглянуть на свои ноги, в чем огромный живот препятствовал ему. – Какой же я буду дож?
– Где же взять! – отвечал Петровский.
И вслед за тем закричал:
– Эй, книгу на стол сюда дайте, книгу!
– Зачем же вы брались давать трагедию? ну поставили бы водевиль какой-нибудь, – заметила полновесная актриса в бархатном платье и диадеме на голове.
– Да перестань! Я знать ничего не хочу, одевайтесь во что есть, и конец! – топнув ногой, грозно закричал содержатель труппы.
И все, ворча, отошли от него.
Остроухов, тоже в костюме, был занят не менее Петровского: он румянил, наклеивал усы, бороды и бакенбарды целой толпе одетых воинов.
Наконец заиграл оркестр по сигналу Остроухова, топнувшего ногой об пол.
Сюжет трагедии был основан на любви двух молодых людей. Любовников разлучают; они клянутся вечно любить, страдают, плачут. Суровые сердца смягчаются, и влюбленных благословляют.
В первый раз в жизни Люба видела игру актеров, и как они ни были посредственны, но на Любу произвели сильное впечатление. С биением сердца следила она за каждым словом и движением актрис и актеров. Когда же разлучили влюбленных, Люба предалась такому искреннему отчаянию, что должна была уйти на несколько минут, чтоб дать свободу своим слезам. Трагедия окончилась свадьбой, на которой танцевали разнохарактерные танцы, а Лёна – своего неизменного казачка.
Любу очень поразило равнодушие Павла Сергеича к несчастиям влюбленных и сладкий сон отца, который просыпался только в антрактах, чтоб освежить себя после сытного обеда прохладительными напитками, которые разносили гостям.
Только что спустился занавес, Тавровский пошел на сцену благодарить актрис и актеров. Он каждому нашел сказать что-нибудь любезное. Обращаясь к Остроухову, он сказал:
– Вам я приношу двойную благодарность.
– Я рад, что вам понравилась игра наша. Чем богаты, тем и рады! – кланяясь, отвечал Остроухов.
– Очень, очень я доволен всем и никак не ожидал, чтоб столько талантов скрывалось так близко от меня, в этом городишке.
– Что делать? все, кого вы видите здесь, более или менее заблудшие овцы. Некогда и она была в такой же труппе… а что, хорошая она актриса?
– Очень хороша, – с иронией отвечал Тавровский.
– То-то, я ей предсказывал, что она будет хорошая актриса, если…
– И вы угадали! – перебил Остроухова Тавровский и затем обратился к Лёне, еще дышавшей, после казачка, подобно кузнечным мехам. Белилы и румяны остались пятнами на ее смуглых щеках. Пот, подобно весенним ручьям, образовавшимся от снегов, катился по лицу.
– Очень мило вы протанцевали, главное – смело!
– Она уж двадцать лет танцует казачка, – заметила Мавруша, закатывая глаза под лоб.
– Только давностью и можно объяснить такую ловкость, – отвечал серьезно Тавровский и, обращаясь ко всем, громко прибавил: – Господа, прошу вас всех отужинать у меня.
И под общий восторг он сошел со сцены.
В зале, великолепно освещенной, играла уже музыка на хорах; гости танцевали. Вальсируя с Любой, Павел Сергеич вздрогнул, заметив черные, блестящие глаза Стеши, устремленные на него из окна, выходившего в сад.
Посадив Любу на стул, он кинулся к окну и сказал:
– Что ты здесь делаешь?
– Разве мне нельзя глядеть, как танцуют?
– Нет… что ты сегодня сделала с своей барышней?..
– Я не ее горничная, – перебила Стеша.
– Что же ты думаешь о себе? тебя она избаловала; но ты всё-таки горничная, и я, на ее месте, велел бы выгнать тебя из дому.
– Я и так уйду! Я вижу, что вам этого хочется.
– И прекрасно сделаешь!
Тавровский отошел от окна, несмотря на слова, произнесенные Стешей умоляющим голосом:
– Вернитесь: я вам скажу…
Но Тавровский не вернулся. Фейерверк был спущен, сад иллюминован; музыка играла в нескольких местах. Гости разбрелись по саду. Тавровский шел с Любой под руку и обратил внимание на ее печальное лицо.
– Ты чем-то огорчена? не видала ли ее? – пугливо спросил Павел Сергеич.
– Я ее не видала с утра, – робко сказала Люба, – но…
– Говори, что тебя беспокоит?
– Отчего же… ты на мне не женишься?
Павел Сергеич остановился и, глядя в глаза Любы, улыбаясь, сказал:
– А ты хотела бы за меня выйти?
– Как же! я тебя очень люблю! а кто любит, тот женится…
– Это откуда ты таких рассуждений набралась?
– Стеша…
– А, понимаю!
– И в пьесе – они любили и женились.
– Так, значит, пьеса тебя навела на эту мысль?
– Да! но мой отец не будет сердиться: он всё делает, что я ни попрошу.
– Ну, дитя мое, ты подожди еще просить его об этом, – пожимая руку Любе, весело отвечал Павел Сергеич.
В продолжение прогулки он, шутя, спрашивал ее:
– Так ты хочешь выйти за меня замуж?
Отужинав с гостями, Тавровский отправился в отдаленный флигель, где ужинала труппа Петровского вместе с некоторыми любителями из гостей. Среди шумного разговора Тавровский не был замечен; он подошел к актрисам помоложе и получше и разговаривал с ними; как вдруг его кто-то дернул за платье. Он повернулся и увидел перед собой Остроухова с бокалом в руке. На его усталом лице еще были следы белил и румян, и он хриплым голосом сказал:
– Павел Сергеич, а Павел Сергеич, за ваше здоровье!
– Благодарю!
– Господа, здоровье хозяина! Ура! – закричал Остроухов.
Все встали и с шумом провозгласили тост. Один только содержатель труппы, сидя в углу, пел басом:
Мы живем среди полей…
И страшно вскрикивал, схватывая себя за виски:
Жизнь для нас копейка!
Тавровский также взял бокал и произнес:
– Господа, за процветание и славу талантов, находящихся здесь!
Каждый и каждая поспешили отблагодарить хозяина скромной улыбкой.
– Вот вельможа так вельможа! не чета нашему Семену Иванычу! – заметила Лёна, на лице которой играл яркий румянец; ни смуглоты, ни желтизны не было и признаков, так же как и на лицах ее сестер.
– Красавчик! – с чувством произнесла Мавруша, у которой вместо тощей косички лежала на голове пышная коса, мелко заплетенная в виде корзинки.
Настя тоже хотела изъявить свое мнение; но рот ее был занят: она только промычала что-то.
– Смотри, смотри Юльку-то! вишь, как коверкается! Ах, он подошел к ней! – шепотом произнесла Лёна.
– К чему было ее приводить к ужину? ведь он пригласил актеров и актрис, а не комедианток. Пусть бы в лакейской и ела: ведь для них да для мужиков ломалась утром.
– Ай! – воскликнула Лёна.
Тавровский в эту минуту чокнулся с Юлией.
– Ну, вот подымет нос! – заметила с грустью Мавруша.
– А вот подошел к нашей франтихе… дура, да отвечай! – с сердцем шептала Лёна.
– Сестрица, смотри-ка, наш-то как надоедает ему.
– Его бы спать положили… Право, никто из них не умеет с вельможами говорить, – наконец проглотив, сказала Настя.
Остроухов, точно, ходил за Тавровским и что-то ему бормотал. Наконец Тавровский сказал ему:
– Господин Остроухов, право, мне некогда!
– Нельзя, важное дело! я должен, я обязан! она…
– Позвольте вам заметить, что здесь не место и не время вести серьезные разговоры. Я хозяин и не могу исключительно принадлежать одному вам.
– Павел Сергеич! – умоляющим голосом воскликнул Остроухов, тоскливо глядя вслед Тавровскому, который, еще несколько времени поболтав с актерами и актрисами, ушел в свою спальню отдохнуть от дневных хлопот. Он только что хотел раздеваться, как услышал шум в соседней комнате. Раскрыв дверь, он увидел Остроухова, который чуть не боролся с его камердинером. Увидав Тавровского, он с радостью воскликнул:
– А-а-а! Павел Сергеич! прикажите вашему лакею быть повежливее с человеком, носившим за несколько часов тому назад такое историческое имя и перед которым…
И Остроухов почти силою вошел в спальню; остановись и покачиваясь, он стал потирать лоб, как бы приводя в порядок мысли.
Тавровский с жалостью глядел на Остроухова, который, подняв голову и осмотрясь кругом, сказал:
– Ну, здесь могу я говорить о ней.
Тавровский затворил дверь.
– Вы, говорят, женитесь?
– Кто вам это сказал? – сердито спросил Тавровский.
– Все, решительно все говорят об этом.
– И решительно все ошибаются! – утвердительно отвечал Тавровский.
Остроухов, покачавшись, сказал растроганным голосом:
– Павел Сергеич! удостойте вашей откровенностью кочующего актера. Верьте, он свято сохранит…
– Скажите мне, пожалуйста, наконец, чего хотите вы от меня? – выходя из терпения, спросил Тавровский.
– Чего я хочу? – отрывисто отвечал Остроухов.
– Ну да, что вам угодно?
– Знает ли она, что вы женитесь?
Тавровский пожал плечами.
– Она знает, или вы скрываете, а? За что вы хотите…
– Вы говорите вздор! Замолчите: мне это надоело! – сердито воскликнул Тавровский.
Остроухов вздрогнул, выпрямился, и опухшие глаза его устремились на лицо Тавровского, которому он глухо сказал:
– Ну что же, прикажите своим лакеям вытолкнуть меня. Я актер: вы даже не согласитесь выйти на дуэль со мной; я погибший человек, – а как легко презирать таких людей.
– Вы слишком дурного мнения обо мне, – устыдясь своего гнева, отвечал Тавровский.
– Мое мнение?! да мое мнение что такое для всех, – тем более для того, кто нанял меня сегодня, чтоб я его забавлял?
– Перестаньте, пожалуйста!
– Нет, оставьте меня, я всё скажу; я поклялся быть защитником ее. Я…
И Остроухов остановился, весь задрожал и сквозь зубы продолжал:
– Не улыбайтесь, не улыбайтесь! Каков бы я ни был, я еще могу разгадать людей и их взгляды. Да, я требую от вас одного слова… Знает ли она, что вы…
Лицо Остроухова всё пылало, и он задыхался.
Тавровский гордо сказал:
– Вы слишком во зло употребляете мою деликатность! Прошу вас выйти вон.
Остроухов хотел поклониться, попятился назад и упал в кресло. Он уперся руками в свои раздвинутые колени и, понурив голову, тихо заплакал, повторяя несвязно:
– Бедная, бедная женщина!
Тавровский, позвонив, велел подать воды плакавшему Остроухову; но камердинер принес вина.
– Я тебе велел подать воды? – сердито сказал Тавровский.
– Это-с для них лучше! – отвечал камердинер и, наливая стакан вина, продолжал: – Выпейте-ка!
Тавровский вышел из спальни.
– Пей; ну, чокнемся! – говорил камердинер, поднося вино Остроухову.
Старик осушил стакан и, упав на грудь камердинеру, повторял писклявым голосом:
– Бедная, бедная женщина!
– Ну что болтать! выпьем-ка за здоровье кого любим! – отвечал камердинер, освободясь из объятий Остроухова.
Через четверть часа камердинер тихонько вел из комнаты Остроухова, облокотившегося на его плечо и декламирующего стихи из «Эдипа»:
О дочь несчастная преступного отца!






