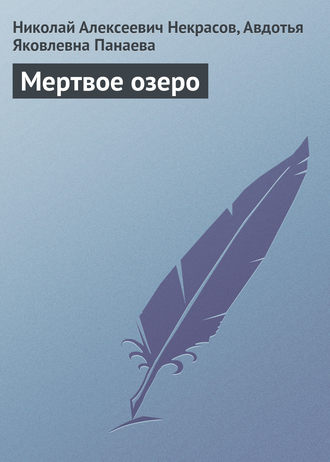
Николай Некрасов
Мертвое озеро
Глава LIV
Попутчик
Винтушевич, однако, давно уже не спал, – может быть, потому, что накануне выспался в тарантасе, где его насилу растолкали, когда тарантас остановился на дворе гостиницы. Мальчик, принесший сухари, застал его перед зеркалом, за бритьем, между тем как человек его – средних лет, немного повыше карлика, с рыжими волосами и лицом, густо усеянным веснушками, – суетился около самовара, беспрестанно повторяя: «Слушаю-с!» – в ответ на приказания Винтушевича готовиться снова в путь к вечеру. Винтушевич очень спешил и вследствие этого, подозвав вошедшего мальчика, совершенно неожиданно дал ему пальцем щелчка в лоб.
– Пошел – и пропал! – проговорил он сквозь зубы, продолжая бриться и делать неизбежные гримасы.
Мальчик отскочил назад и, тряхнув головой, сказал:
– Там спрашивает кто-то-с…
– Меня? – перебил его Винтушевич, отняв бритву от подбородка и уставив глаза в зеркало.
– Точно так-с!.. никак…
– Кто такой? – снова перебил Винтушевич, и лицо его выразило беспокойство.
– Не могу знать!
Винтушевич в нетерпении повернулся со стулом к мальчику лицом.
– Да как то есть спрашивал? по фамилии, что ли? говори! – сказал он, озлившись.
– Да-с, спрашивал и по фамилии… – бормотал тот, оробев.
– А ты как ему отвечал, а? – продолжал допрашивать его Винтушевич, нетерпение которого возрастало с каждым словом, – и, не дав ему приготовиться для ответа, он вскочил со стула и в два шага очутился перед испуганным мальчиком. – Ну что ж ты молчишь! – закричал он, потрясая бритвой над его головой.
– Да я ничего не отвечал! – проговорил поспешно мальчик, попятившись назад от Винтушевича, который снова закричал:
– Пошел вон! Прохор, – сказал он своему камердинеру, когда мальчик вышел, – поди узнай, кто там спрашивает! Да осторожней… понимаешь? – прибавил он. – Посторонним образом…
– Слушаю-с – отвечал плутоватый камердинер и вышел.
Приняв меру осторожности, Винтушевич снова сел бриться. Осторожность в самом деле была не лишняя, потому что в числе бывших знакомых его в Петербурге были некоторые лица, визит которых не доставил бы ему большого удовольствия. Винтушевич рассчитывал, что в памяти этих лиц, несмотря на долгое отсутствие его из Петербурга, не могли не сохраниться некоторые данные из его биографии. Вот в чем, между прочим, заключались эти данные. Знакомство Винтушевича в Петербурге началось с его тетушки, – так по крайней мере он называл свою покровительницу, которой отрекомендовался, впрочем, просто родственником ее, приехавшим из провинции испытать свои силы на сценическом поприще или вообще по части наук и искусств (Винтушевич выражался как-то неопределенно); причем он просил «поддержать его, как не чуждую ей отрасль одной из артистических фамилий, известных в ее далеком отечестве». Фраза эта, при всей своей неясности, польстила самолюбию женщины, которая причисляла себя к артистическому кругу, а квартиру свою называла «артистическим домом» – на том основании, что некогда у нее собирались молодые таланты обоего пола и богатые любители искусств. К тому же родственник был красивый молодой человек, чего не могла не заметить его покровительница, которая была еще не стара, но находилась в той переходной поре жизни, когда старость представлялась уже ей неизбежностью и заставляла иногда подумать о заблуждениях молодости, прожитой весело и роскошно, и когда она, однако ж, не в силах еще была совершенно отказаться от визитов, модных платьев и претензий на внимание мужчин. По временам она впадала в меланхолию, запиралась у себя в спальне и читала поучительные книги. Лицо ее было бледно и постоянно выражало утомление. Домашние обстоятельства ее были запутаны, несмотря на значительную помощь, которую каждый год оказывал ей какой-то, вероятно известный ей, благотворитель. Впрочем, по-прежнему она жила в одной из лучших улиц, только повыше одним этажом; по-прежнему на одном окне красовался в золотой клетке попугай, который летом в отворенное окно громко кричал, как бы стараясь маскировать таким образом настоящее печальное положение отживающего «артистического дома», известного многим свидетелям лучшей поры жизни его хозяйки. Вне дома домашние обстоятельства маскировались крупными брильянтами, блестевшими на бледно-желтых пальцах и в такого же цвета ушах этой женщины, – женщины в грустной поре весело прожитой жизни… Вслед за льстивой фразой Винтушевич мрачно проговорил:
– Я прошу у вас средств, чтобы идти к своей цели. До сих пор целью моей жизни было бороться с критическими обстоятельствами!
Неизвестно, бескорыстное ли желание помочь молодому человеку, тщеславие ли или другое какое чувство пробудилось в покровительнице талантов, только в судьбе Винтушевича она приняла живое участие и предложила ему даже небольшую комнатку в своей девственной квартире, не потребовав при этом более ясных доказательств родства его с нею. Винтушевич облобызал руки своей покровительницы с истинно родственной нежностью и поселился у нее в предложенной комнатке. Вскоре же тетушка назначила в своем «артистическом доме» нечто вроде домашнего спектакля, на который съехались все ее знакомые. Дебют будущего артиста был неудачен; но зато с этого вечера начались его новые знакомства и увеличивались с каждым днем. Красивый Винтушевич оказался, сверх того, очень любезным и услужливым, чем особенно нравился дамам. Многие из них надавали ему разных комиссий, на которые, впрочем, он всегда вызывался сам, лишь только в разговоре случалось ему слышать от одной, что у нее испортился браслет, от другой, что она желала бы выменять старую брошку на новую без придачи, от третьей, что у нее валяются часики: позапылились и остановились, а часики хорошенькие и очень можно бы носить. Винтушевич тотчас выпрашивал все такие вещи, уверяя наперед, что обмен или поправка их ничего не будут стоить. Кроме того, Винтушевич говорил по-французски и немного по-немецки, делал несколько фокусов картами, изумляя проворством рук, умел жужжать мухой, петь петухом или лаять собакой, играл и никогда не проигрывал, хотя нередко ошибался, ошибался двусмысленно, как иным казалось. У тетушки Винтушевич пользовался заботливостью самой нежной родственницы. В комнате ее слышались всхлипывания и упреки всякий раз, как он возвращался после слишком продолжительного отсутствия. Впрочем, они скоро мирились, причем Винтушевичу редко не удавалось выпросить денег. Если же не удавалось, он долго не настаивал, но вдруг восклицал: «Ба! счастливая мысль!», точь-в-точь как это делается на сцене, и, взяв шляпу, уходил приводить эту мысль в исполнение. Следует отдать справедливость, что, несмотря на отсутствие сценического таланта, Винтушевич очень удачно лицедействовал в жизни, когда желал достать денег. В подобных случаях он в замечательной степени обладал даже даром импровизации, действуя по первому внушению счастливой мысли, которая всегда почти впору являлась ему на выручку, – так что борьба с теми затруднительными обстоятельствами, о которых он упоминал при поступлении в дом тетушки, вероятно, ничего ему не стоила.
Прошло месяца три со времени благополучного водворения в доме покровительницы. Винтушевич вдруг куда-то пропал и некоторое время не показывался ни в одном из знакомых домов. Наконец он явился утром к одному скромному и доверчивому молодому человеку, который иногда встречался с ним у своих знакомых.
– Добродетельнейший из смертных! давай пять целковых! – воскликнул он, едва успев войти.
– Нашел у кого занять, – отвечал молодой человек, осматривая новый костюм свой.
– До вечера только, – прибавил Винтушевич, – а там сколько хочешь бери у меня.
– Да, право, нет, – уверял его молодой человек. – Сам я задумался, где бы достать: нужны сегодня перчатки и еще расходы кое-какие…
Это было в день именин одной их общей знакомой, у которой быть молодой человек считал непременным долгом.
– Так нет? – сказал Винтушевич, кружась по комнате и взъерошивая волосы. – Верю… верю… – бормотал он и вдруг, остановившись перед молодым человеком, воскликнул, по своему обыкновению:– Ба! счастливая мысль! Давай мне твое платье, и через час мы оба будем с деньгами!
В пять минут Винтушевич одет был в новенькую пару молодого человека и вдобавок прицепил к жилету его золотые часы.
– Прощай! – сказал он, уходя. – Жди меня и ни о чем не хлопочи!
Но молодой человек прождал весь день, весь вечер и всю ночь и наконец дождался утра, а не Винтушевича, который с тех пор окончательно скрылся, к общему сожалению всех своих знакомых, потому что все они, вспоминая о нем, вспоминали в то же время о своих деньгах, занятых Винтушевичем у кого на несколько дней, у кого на несколько часов, в количествах, соответствовавших более или менее счастливой мысли, какая озаряла его в минуту займа. Сожаление дам о потере любезного и услужливого Винтушевича также равнялось сожалению о тех вещах, которые он обобрал у них для поправки или обмена. Некоторые сбирались спросить о Винтушевиче у его тетушки; но она давно что-то не выезжала никуда, а после, когда стала выезжать, то на ней уже не было прежних брильянтов.
Камердинер Винтушевича доложил, что человек, спрашивающий его, был какой-то старик, и описал костюм его и физиономию.
– Письмо, говорит, есть и дело нужное. Должно быть, попрошайка-с! – прибавил он спокойно.
Винтушевич углубился в размышление, продолжая сидеть против зеркала, хотя операция бритья была кончена.
– Позови! – сказал он наконец решительно и еще пристальнее начал что-то высматривать в зеркале, в котором через минуту отразился красный нос и красные глаза вошедшего посетителя.
Винтушевич вскочил и, быстро обернувшись к нему, спросил в недоумении и досаде:
– Ты как узнал, что я здесь? Что тебе нужно? какое письмо?
Посетитель молча подошел к Винтушевичу и, подав письмо, сказал:
– Велено отдать… вам или кто случится в городе из знакомых…
– Из знакомых? – заметил Винтушевич, презрительно взглянув на посетителя. – Лучше не нашли, с кем бы послать, кроме тебя! Пьяница! – прибавил он, срывая конверт.
– Пусть пьяница. Да я никого не выдам, – проговорил посетитель, голос которого хрипел и прерывался кашлем.
– Не выдам! Ты думаешь, я забыл твою последнюю штуку! – снова заметил Винтушевич, читая письмо.
– Что ж! ведь я и сам потерял всё, что было тогда, – грустно отвечал посетитель. – Эх, батюшка, полно сердиться' Дело-то начинается славное! – прибавил он таинственно, кивнув головой на письмо, и разразился кашлем, который захватил ему дух.
– Ну что ж! – сказал Винтушевич, бросая письмо на стол. – Меня приглашают на ярмарку. Я и без того ехал туда.
– А насчет сигарочника-то… – возразил посетитель.
– Ну да! – перебил Винтушевич в досаде на то, что посетителю известно содержание письма. – Мало ли что!.. – забормотал он, кружась по комнате, – Мало ли кто едет отсюда с деньгами, да попробуй!.. Будто легко!..
– Везет-то человек молодой, – проговорил посетитель, – Генрихом зовут: я видел его вчера в веселой компании.
– Пьет? – отрывочно спросил Винтушевич, продолжая кружиться.
– Нет, там не пил…
– Ничего?
– Ничего. Один меня, кажись, узнал, – дополнил посетитель после минутного молчания, – тот, что, помните, пустил в меня…
– Ничего не помню! – перебил Винтушевич, между тем как посетитель указывал на свой шрам. – И не заикайся мне о том, что было! Или я тебя выгоню!
– Я только так, чтобы не испортить дела…
– Да ты уж испортил его! – закричал в досаде Винтушевич. – Сам же говоришь, что этот, как его… этот глупый мальчишка ничего не пьет. А тут вдобавок другой еще узнал тебя: расскажет тому и напугает некстати!
– Попутчика ищет через газеты… – продолжал посетитель, терпеливо пропуская замечания Винтушевича, который между тем взъерошивал свои черные курчавые волосы и кружился всё шибче и шибче.
Наконец в лице Винтушевича ясно обозначилось присутствие счастливой мысли.
– Ну ладно, убирайся! – заключил он, видимо успокоенный. – Хорошо, ступай!
Но посетитель не шел.
– А насчет пропитания, – проговорил он, – там написано…
– То есть насчет пропивания! – перебил Винтушевич, почувствовавший даже расположение к шутке, и, подойдя к столу, на котором стояла шкатулка, достал из нее бумажник, хранившийся между несколькими разноцветными париками, накладными усами, бакенбардами и картами.
– Возьми и убирайся! – сказал он, подавая ассигнацию посетителю, который докладывал между тем, что он будет на ярмарке недельки через две, и просил кланяться от него какому-то благодетелю Исаку Абрамычу.
– Марш, марш! – отвечал Винтушевич, указав на дверь; и посетитель вышел, сжимая в кулаке полученную ассигнацию.
Минут в пять Винтушевич очутился прилично и скромно одетым почтенным человеком, в длинноволосом коричневом парике, с бакенбардами такого же цвета и в длиннополом сюртуке, тоже коричневом. На левой руке его висел кисет с табаком, а в правой он держал дорожную пенковую трубку с коротеньким плетеным чубуком в виде змеи, извивавшейся кольцами. Головку этой змеи он сжимал в зубах и курил, оправляясь перед зеркалом окончательно.
– Ну что ж там, скоро ли? – сказал он в нетерпении своему камердинеру, который в то время с силою напирал коленком в чемодан, затягивая ремни.
– Сейчас, сударь, сейчас! – отвечал камердинер не своим голосом и побагровев от натуги. – Степан жалится, сударь, что, дескать, лошадей совсем измучили; погодили бы, говорит, хоть до вечера.
– А вот я ему дам рассуждать! – возразил Винтушевич.
– Исак Абрамыч, говорит, взыщет и с меня, – продолжал камердинер.
– Важная штука Исак Абрамыч! – заметил Винтушевич. – Колотил я его не раз!.. Живей, живей! – прибавил он камердинеру. – А теперь продам и выкуплю со всем его жидовским племенем!
И, отойдя от зеркала, Винтушевич заходил по комнате скорыми шагами, под влиянием счастливой мысли, а человек его зашевелился гораздо проворнее под влиянием последних слов Винтушевича, которые, очевидно, подействовали на него сильнее, чем слова «Живей, живей!»
Еще через пять минут Винтушевич выехал в своем тарантасе из ворот гостиницы и остановился у дома сигарочного фабриканта Штукенберга не позже той минуты, как ассигнация его, выданная посетителю, достигла до буфета ближайшего трактира.
Август Иваныч с семейством своим сбирался в церковь, когда раздался звонок у дверей; он только что успел одеться в своем кабинете при помощи одного из фабричных мальчиков, который исполнял должность лакея, получая, впрочем, за все сверхконтрактные занятия некоторые лакомые кусочки от хозяйского стола. Мальчик вышел отворить дверь и, возвратясь, доложил:
– Помещик-с. Говорит: желаю говорить с хозяином о деле. Из Нижегородской губернии.
– Ага! – сказал Август Иваныч значительно, вспомнив, что путь Генриху предстоял именно в ту губернию. – Пусть идет!
– Честь имею рекомендоваться! – сказал Винтушевич протяжно, входя в кабинет без обычной своей развязности. – Извините великодушно, что обеспокоил! – продолжал он, между тем как Август Иваныч подставлял ему стул, говоря:
– Покорнейше прошу!.. о, ничего!
– У меня, извольте видеть, – начал объяснять Винтушевич, – есть много мальчиков, которых желал бы отдать в ученье, и отдать не кому другому, как вам, почтенному и знаменитому фабриканту, имя которого… поверьте, я говорю от души…
– Можно, можно. Присылайте! – отвечал Август Иваныч, кашлянув несколько раз от удовольствия, потому что Винтушевич льстил с замечательным простодушием.
Винтушевич благодарил и спросил, сколько мальчиков прислать.
– О, сколько-с хотите! – отвечал фабрикант и весело прибавил: – Дела идут вперед, хе-хе!
– Еще бы, батюшка! – заметил Винтушевич. – Сигары ваши курят по всей безграничной России.
Август Иваныч покашлял и продолжал:
– Открываю новое отделение фирмы в городе ВВ, в Нижегородской губернии, – пояснил он, приступая к своему делу, – ожидаю туда попутчика для своего конторщ…
Винтушевич не дал договорить.
– Вот случай! – воскликнул он радостно. – А я еду один-одинешенек!.. да вот, взгляните…
И с этим словом он взял фабриканта под руку и подошел с ним к отворенному окну, выходившему на балкон, против которого стоял тарантас.
– Эй, Прохор! – крикнул он с балкона своему камердинеру, дремавшему на козлах, рядом с кучером. – Что дремлешь! слетишь с козел! – предостерег его Винтушевич, когда тот откинулся от плеча кучера, служившего ему подушкой. – Эк печет! – заметил потом Винтушевич фабриканту, кивнув на солнце, и они возвратились в кабинет. – Так вот, батюшка! чего лучше: сейчас и едем.
– На половинных издержках… – проговорил Август Иваныч.
– И, боже сохрани! что за издержки! Вы доставите мне удовольствие, несказанное удовольствие! – воскликнул Винтушевич, взяв за руку фабриканта, который тоже выражал большое удовольствие своим известным покашливанием. – Велите готовиться, – продолжал Винтушевич, – прописать паспорт на выезд… Мой прописан и всё готово – сесть да ехать! – прибавил он между прочим.
Август Иваныч благодарил и искал глазами Генриха.
В дверях показалась Саша – девица, знающая шить и кроить по мерке, и доложила, что Шарлотта Христофоровна готова и ждет, чтоб идти вместе в церковь.
– Я остаюсь! – отвечал решительно фабрикант и велел позвать Генриха.
Но Генрих в эту минуту явился сам, таща на плече новенький чемодан: он не успел купить его вчера и потому отправился покупать, как только проснулся.
– Ага! – встретил его Август Иваныч. – Иди, Генрих, простись там (он махнул рукой на спальню Шарлотты Христофоровны) и будь готов. Ты едешь вот с добрым господином…
– Прошу любить да жаловать! – вступил в речь Винтушевич, между тем как Август Иваныч, подойдя ближе к Генриху, сказал тихо:
– Прекрасный человек!.. спеши немедленно!..
– Сейчас! – отвечал оторопевший Генрих и, бросив чемодан у дверей своей комнаты, побежал к Шарлотте Христофоровне.
– Ничего, я подожду, подожду! – кричал ему вслед Винтушевич.
Затем Август Иваныч отдал приказание прописать паспорт Генриха и получить, если можно, обратно деньги, заплоченные вчера за публикацию о попутчике, которая не была еще напечатана. Потом фабрикант усадил своего гостя и подал ему сигару, вынув ее из ящика, который стоял на окне.
– Вашей фабрики? – спросил Винтушевич, принимая сигару, и, получив утвердительный ответ, продолжал:– Я это спрашиваю потому, что никаких других не курю, кроме ваших.
Август Иваныч снова покашлял и взял свечку из рук принесшего ее мальчика, сам подал гостю огня закурить сигару, после чего свечка тотчас же была погашена.
Затем фабрикант начал речь о мальчиках, о которых Винтушевич почти забыл. Он рассказал по пунктам все условия, на каких они принимаются в ученье, – сказал даже, на какой бумаге написать контракты. Винтушевич слушал внимательно и соглашался на все условия, вполне сознавая их необходимость и даже благодетельные последствия для своих вымышленных мальчиков. Далее фабрикант рассказал весь порядок содержания мальчиков на фабрике, между тем как Винтушевич восклицал: «Бесподобно! удивительно!» – и просто завидовал будущей судьбе воображаемых мальчиков в столь благоустроенном заведении. Покашляв, Август Иваныч предложил в заключение осмотреть его фабрику. Винтушевич не отказался, и они вышли. Спускаясь по лестнице, Винтушевич бросил и загасил сигару.
– О, напрасно! – заметил Август Иваныч, внутренне, однако ж, очень довольный осторожностью гостя.
– Как можно! как можно! – возразил гость, придавив еще раз сигару каблуком.
– Застрахован! – заметил Август Иваныч и, смеясь, махнул рукой.
– Еще бы! такой великолепный дом!..
– О да-с, конечно! – перебил фабрикант. – Двенадцатого марта тысяча *** года пополудни, в три часа и двадцать семь минут!
– И минут! – воскликнул Винтушевич. – Вот как!
– И двадцать семь минут! – повторил фабрикант с твердостию, которая ручалась, что он точно так же не ошибся бы сказать время застрахования даже тогда, если б его вдруг, среди ночи, сонного растолкали и поразили известием, что дом его охватило пламенем со всех сторон.
На дворе, увидев кладовую с надписью: «Пожарная», Винтушевич всплеснул руками с простодушным удивлением провинциала, на что Август Иваныч снова покашлял; а в мастерских гость объявил решительное желание сесть за работу вместе с мастеровыми, которых, впрочем, там не было ни одного по случаю воскресенья. Далее фабрикант повел своего гостя в помещения мастеровых и во все принадлежащие к фабрике службы.
Между тем в комнатке Генриха происходили приготовления к отъезду. Отъезд Генриха сильно занял все умы в доме Августа Иваныча, где много лет всё шло так однообразно, без всяких перемен и приключений. При этом обнаружилось, что у доброго Генриха было немало друзей кроме Саши. Его внезапный отъезд особенно поразил работницу в кухне – помощницу Шарлотты Христофоровны по части стряпни, – поразил до того, что она (непостижимо!) решилась выйти из кухни и в первый раз прошла по спальне отсутствующей Шарлотты Христофоровны, потом прокралась по зеленой столовой, проникла в кабинет Августа Иваныча и просунула голову в дверь комнатки Генриха.
– Желанный ты наш! едешь? – проговорила она жалостно.
– Еду, еду, Марфуша! прощай! – отвечал Генрих, роясь проворно в комоде.
После чего Марфуше тотчас почудилось, что Август Иваныч, откуда ни возьмись, очутился позади ее, изумленный до остолбенения ее появлением в кабинете, и она опрометью бросилась бежать обратно.
Но в бескорыстной привязанности работницы еще можно было усомниться, потому что Генрих раза три в год писал ей письма к братьям в разные губернии, всегда одинакового, впрочем, содержания, и не раз отправлял эти письма по почте, не требуя от нее ни копейки. Привязанность мамки была неопровержимее. Эта женщина, вообще довольно злая и называвшая Генриха не иначе как жидконогим, принесла ему веревочку: вот тебе, дескать, понадобится что-нибудь перевязать, – и потом она с некоторым сожалением принялась твердить ребенку, которого держала на руках:
– Уезжает, вишь, уезжает молодец-то наш!
Только что мамка возвратилась в детскую, в комнатку Генриха застенчиво и робко вошла Саша с предложением помочь ему укладывать вещи.
– Не нужно, не нужно, Саша! – возразил Генрих.
Но Саша настаивала. Тронутый ее печальным видом, Генрих взял ее за руки и, отводя от комода, нежно сказал:
– Спасибо, душенька!
Саша вспыхнула, услышав это имя от Генриха в первый раз.
– Скажи, – продолжал Генрих, – тебе скучно, что я уезжаю, да?
Саша молчала; но лицо ее быстро покрылось бледностью, и вдруг две крупные горячие слезы упали на руки Генриха. В свою очередь Генрих побледнел.
– Ты не приедешь! – насилу проговорила Саша и, вырвав свои руки из рук Генриха, закрыла ими лицо, едва сдерживая рыдания.
Всё это было бы ребячеством, если бы не было тут грустного предчувствия.
– Ради бога, перестань! – воскликнул Генрих, дрожавший от тоски, пробужденной привязанностью и опасением девушки. – Клянусь тебе, приеду! – утешал ой ее. – Да еще выпрошу прибавку тебе и себе, и заживем! А там, может быть, явится отец твой! – прибавил он с веселым видом, пробуя и эту обычную струну, всегда благодетельно действовавшую на Сашу в минуты грусти.
Но предчувствие было сильнее надежд, и Саша продолжала плакать. Голос Винтушевича, раздавшийся на лестнице, заставил ее поспешно выйти из комнаты. Генрих снова засуетился около чемодана.
– И купчую совершим и всё устроим! – говорил за дверьми Винтушевич. – Будьте спокойны, добродетельнейший Август Иваныч! Если с ним едет человек преданнейший вам… человек, который… я говорю от души… то вы должны быть спокойны, если б даже покупали пятьдесят домов в пятидесяти местах.
Последние слова он договорил уже в столовой, где готов был завтрак в ожидании Шарлотты Христофоровны. Август Иваныч предложил гостю закусить; но Винтушевич отговорился, что ему еще рано и что позавтракает на первой станции. В это время вошла Саша, чтобы взглянуть на попутчика Генриха.
– Какая у вас красавица эта девушка! – добродушно сказал Винтушевич.
– О да-с, конечно! – отвечал Август Иваныч и в шутку прибавил: – Совсем потеряла родителя!
Затем фабрикант попросил своего гостя подождать его тут с минуту и пошел к себе в кабинет, где тотчас же началось щелканье на счетах.
– Как зовут вас, милая? позвольте спросить! – заговорил Винтушевич, оставшись один с Сашей.
Саша сказала свое имя.
– А по батюшке?
– Максимовна.
– Александра Максимовна! Скажите, пожалуйста; у меня двоюродная сестра Александра Максимовна! – воскликнул Винтушевич, очевидно лицедействуя за какого-то простяка в какой-то пьесе. – А фамилия ваша? позвольте узнать? – продолжал он, чтобы говорить что-нибудь.
– Отрыгина, – отвечала Саша.
Здесь Винтушевичу было бы более кстати сделать восклицание, потому что он узнал в Саше дочь своего утреннего посетителя, бывшего товарища его по золотым промыслам в особенном смысле. Но он повторил только машинально:
– Отры… гина… – И прибавил, кланяясь: – Прошу любить да жаловать!
Наконец вышел из кабинета Генрих с оттопыренным боковым карманом в сопровождении Августа Иваныча и мальчика, который нес на голове чемодан; отъезжающие начали прощаться, причем Винтушевич убедительно просил фабриканта не побрезговать его хлебом-солью в проезд когда-нибудь мимо его поместья. Когда отъезжающие стали спускаться по лестнице, Август Иваныч и Саша вышли на балкон проводить их глазами.
Винтушевич первый взобрался в тарантас, принял от мальчика и уложил чемодан Генриха, между тем как его камердинер с кучером, сомкнувшись плечами и головами, спали мертвым сном.
– Сюда! сюда! любезный Генрих, – сказал Винтушевич, подавая ему руку, – славное, спокойное место!.. Я тебе дам спать! – прикрикнул он на камердинера, который наконец проснулся и растолкал кучера локтем.
– Ну, прощайте еще раз, почтеннейший! – сказал Винтушевич, посмотрев на балкон, где Август Иваныч кивал ему, покашливая, а Саша печально смотрела на Генриха. – Ба! счастливая мысль! – воскликнул Винтушевич уже с обычной наглостью. – Слушайте, знаменитейший фабрикант! – закричал он Августу Иванычу. – Если б мне пришлось вам строить памятник, я именно поставил бы вас на балконе вашего дома, а на пьедестале вместо надписи поместил бы вашу вывеску: «Табачная и сигарочная фабрика Августа Штукенберга»!.. Ну, пошел! – крикнул он кучеру.
Кучер стегнул по лошадям, и тарантас двинулся, между тем как Август Иваныч, кивая и покашливая, говорил:
– Славный человек! хороший господин! – И, обратись к Саше, прибавил: – О да, конечно!






