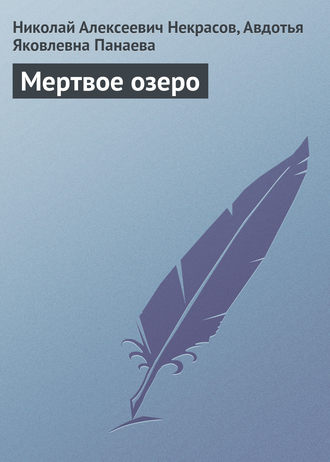
Николай Некрасов
Мертвое озеро
В позднейшее время потомок Куратова (с которым мы познакомились в начале главы), в припадках своей хандры, любил охотиться в лесах около озера. Бездна зверей и птиц заставляла его иногда останавливаться для ночлега в доме, в котором он провел детские годы. И когда он увез цыганку, страх, чтоб ее не похитили, и ревность подали ему мысль поселиться в заброшенном доме. Куратов любил цыганку, как только ему позволяла его дикая и мрачная натура. Но любовь его выражалась в ревности и в вечных подозрениях, что он обманут ею. Когда у цыганки родилась дочь, Куратов, видя страстную любовь к ней матери, успокоился; ревность его прошла, и, казалось, любовь стала мало-помалу вместе с ней проходить. Так прошло несколько лет. Как вдруг Куратов стал задумываться, и мысль о женитьбе овладела им.
В страхе за свою дочь цыганка прибегнула к самым искусным заговорщикам своего племени. Но ничто не помогало. Куратов не скрывал своего намерения.
Цыганка безумно любила свою дочь, которая была живой портрет матери. Только цвет лица Любы был гораздо белее и черты мягче. С того дня, как Куратов задумал жениться, мать ни на минуту не отпускала дочери от себя и со слезами твердила ей: «Я хочу, чтоб ты была счастлива; что я могу сделать для того, я на всё готова».
Куратов несколько дней не был дома. Возвратясь к обеду, который, по обыкновению, накрыт был на три прибора, для цыганки и ее дочери, Куратов приказал снять все приборы и оставить только один, для себя.
Цыганка, узнав об этом, как безумная вбежала в столовую и, бледная как смерть, задыхаясь от волнения, спросила:
– Мне и моей дочери, кажется, нет места за столом?
Куратов, казалось, смутился, но, верно желая покончить разом всё, твердо произнес:
– Нет!
И он потупил глаза в тарелку.
Цыганка, как бы пораженная громом, с минуту стояла в нерешительности и вдруг крикнула:
– Если ты унижал мать, – ты не сделаешь того же с дочерью!
Сказав это, она выбежала в сад через дверь террасы и пустилась бежать.
Куратов знал характер цыганки. Он с ужасом бросился ее догонять, крича на помощь людей. Но цыганка, казалось, летела. Добежав до плота, она приостановилась, дала приблизиться Куратову и закричала так сильно, что все вздрогнули:
– Не забудь, что смерть моя падет на тебя, если ты оставишь мою дочь!
С этими словами она бросилась в воду.
Куратов дико закричал: «Спасите, спасите ее!» – и прислонился к дереву. С минуту он стоял неподвижно, закрыв глаза. Столпившаяся к плоту дворня в нерешимости глядела на воду и друг на друга.
– Вон, вон она! – раздались крики в толпе.
Куратов как бы очнулся. Он в отчаянии закричал: «Лодку, лодку!» – и сам кинулся ее отвязывать. Несколько лодок в минуту было на озере, но цыганки не было видно, – поверхность озера была гладка и спокойна, как и прежде. Куратов назначил страшную сумму тому, кто кинется в озеро. Нашлись смельчаки: перекрестясь, бросались они в воду, туда, где показалась цыганка, но в ту же минуту возвращались. Видимо, страх отнимал всякую возможность оставаться долго в воде.
Уже смерклось, а Куратов в каком-то безумном отчаянии плавал по озеру, то наградами, то угрозами понуждая бросаться в воду и искать цыганку. В его голосе слышались слезы. Он звал по имени цыганку, как будто думая вызвать ее со дна озера, которое освещено было тысячами факелов и кострами, разложенными на берегу, чтоб греться бросавшимся в озеро. Шепот людей, которые как будто боялись заглушить голос Куратова, величавое спокойствие природы – всё полно было унынья и ужаса…
Всю ночь продолжались поиски. Куратов желал во что бы то ни стало вытащить тело цыганки. Сам он сидел у пылающего костра; его фигура была страшна в эту минуту. Суровое лицо его подавлено было отчаянием, бледность, растрепанные густые волосы, стоящие дыбом, дикие глаза, устремленные на озеро, в котором он всё чего-то искал…
Под утро Куратов как бы впал в бесчувственность, устремив усталые глаза на чуть тлеющий костер. Он уже не замечал, что лодки стояли неподвижно в тростниках; утомленные люди дремали в них. Другие, разъезжая по озеру, лениво ударяли веслами, проезжая мимо Куратова.
Утренний густой туман медленно подымался от воды, как бы щадя осветить светом то место, где погибла цыганка. Сам Куратов, утомленный, отвернулся от озера и, сжав свою голову в руках, локтями которых он упирался в колени, как окаменелый оставался в этом положении.
Вдруг он вздрогнул, поднял голову и стал глядеть напряженно вдаль к дому, от которого с горы, как бы несомая туманом, бежала детская фигура. По мере ее приближения волнение Куратова усиливалось.
– Где моя мать? – едва слышно проговорила девочка. – Отдай мне, отдай мне ее!
Куратов склонил голову перед девочкой и как бы молил ее о пощаде.
Девочка, призывая свою мать, горько рыдала. Куратов долго вслушивался в слезы ребенка и вдруг встал, взял дочь за руку и повел в дом.
К обеду на столе стояло два прибора. Куратов сидел мрачный за столом.
С этого дня дочь цыганки присутствовала каждый день при обеде и ужине Куратова. Кормилица из цыганок заменила ей мать. Сам Куратов ни о чем не заботился, что касалось его дочери, и только иногда, казалось, вспоминал об ее существовании, когда прибор за столом был не занят ею. Единственное участие оказал он к своей дочери – это взяв в дом учителя, дряхлого старика, некогда бывшего страстным и искусным охотником. Дочь училась мало, – разве только тогда принималась за уроки, когда уставала резвиться и гулять; но в этом она была неутомима.
В дом была взята дочь кормилицы, единственная подруга, какую имела дочь Куратова, подрастая быстро в жизни, полной свободы.
Смерть ее второй матери, казалось, скрепила дружбу еще сильней между дочерью Куратова и детьми кормилицы. Они звали друг друга «ты», делили всё, что имели; игры и прогулки были общие. И только в присутствии Куратова видна была разница их положения в доме. Куратов, несмотря на всё свое равнодушие, строго взыскивал с живущих в доме за неуважение к своей дочери, которая не скучала ни равнодушием отца, ни однообразною, уединенною жизнью. Мрачное озеро, леса были для нее источниками беспрерывных удовольствий и развлечений. И эта дикая жизнь не имела никакого влияния на нежность характера Любы, – нежность, которая проявлялась не только в каждом ее поступке, но даже в каждом слове и взгляде. В доме все считали Любу наследницею всего имения Куратова, исключая самой Любы, которая никогда не помышляла о своем положении.
Часть девятая
Глава XLIII
Люба
Выше рассказаны обстоятельства и события, объясняющие характер Любы, образовавшийся под влиянием условий, совершенно противоположных тем, в которых развивался и жил Тавровский. Эта противоположность, может быть, была главною основой их сближения; встреча с таким человеком, как Тавровский, не могла не произвесть впечатления на Любу. С своей стороны и Тавровский был поражен Любою. Простодушная доверчивость, ненатянутая наивность и грация, не испорченная расчетливым кокетством, которое он так привык видеть в женщинах, даже простенькое платье Любы, ее детские занятия и веселая болтовня – всё в глазах человека, утомленного роскошью и рутиной городской жизни, имело необыкновенную новизну и привлекательность. Павел Сергеич был принят на короткую ногу в доме угрюмого старика, который, как бы вспомнив свою прошлую жизнь, стал задавать обеды, созывал соседей. Карты и вино появились в доме.
Тавровский продолжал видеться с Любой у ската горы, куда она приезжала со своими товарищами. После нескольких прогулок Люба уже не дичилась его. Да и Павел Сергеич так умел примениться к характеру девушки, что, видя его бегающего с Любой вперегонку и потом в ту же ночь сидящего за карточным столом с Куратовым, никто бы не узнал в нем того же самого человека. Но Люба, к счастию, не видала его в такие минуты. Не имея сама еще прошлого, она не мучилась любопытством разгадать прошлое Павла Сергеича. Ей достаточно было заметить в нем один раз проблеск благородства души, чтоб твердо верить в его душевные достоинства. Недоверчивость к людям была еще чувством, не понятным девушке, воспитанной среди природы и не имевшей никаких столкновений с людьми. Если же в некоторых случаях недоверчивость и проявлялась в ней, то скорее как инстинкт, чем как следствие опытности. Например, Павлу Сергеичу много стоило труда уговорить Любу ездить одной на прогулки, потому что свита ее не очень была ему приятна. Цыган с своими мрачными и пытливыми взглядами уничтожал в Тавровском веселое расположение духа, а Стеша подслушивала его разговор с Любой и потом выкидывала с Павлом Сергеичем не очень нежные шутки. Вообще ему не нравилось слишком фамильярное обращение цыган с Любой, которая иногда сама краснела от слов и выходок Стеши и смущалась от взглядов ее брата. Несколько уже дней Павел Сергеич приезжал к скату горы, в полной надежде найти Любу одну, но ошибался. Стеша, казалось, сделалась ее тенью. Наконец Тавровский, после одной грубой выходки Стеши, объявил, что он не может выносить присутствия Стеши и ее брата. Строгий голос Павла Сергеича так подействовал на Любу, что она, несмотря на всю кротость своего характера, поссорилась с цыганкой и цыганом. Первая не уступила ей ни в одном слове, зато цыган не сделал ни одного возражения против желания Любы: он только страшно изменился в лице и исчез из дому. Пользуясь этим, Люба уехала одна к скату горы. Сердце ее болезненно сжималось при мысли, что она поступила несправедливо; но весла всё-таки действовали дружно, и щеки девушки, раскрасневшиеся от движения, зарделись еще ярче, когда она завидела черную точку на скате горы. В это время она более уже ни о чем не думала, как только о том, чтоб лодка плыла быстрее.
Тавровский давно уже был у ската горы. Красивое его лицо приняло такое торжествующее выражение, когда лодка подъехала к берегу, что Люба с минуту не решалась выйти на берег. Павел Сергеич прыгнул к ней в лодку и с жаром сказал:
– Как благодарить мне вас за вашу доверчивость ко мне!
Люба не поняла его благодарности и чуть не со слезами рассказала свою ссору дома.
Павел Сергеич старался всеми силами уверить Любу, что она поступила хорошо; но Люба тревожилась.
– Вы разве хотите остаться в лодке? – спросил Павел Сергеич, любуясь девушкой, окруженной со всех сторон осокою.
– О нет! они, верно, ищут меня! – пугливо сказала Люба и спешила выйти на берег.
Павел Сергеич поднял Любу; она было взяла его под руку, но тотчас оставила его руку и сказала:
– Куда же мы пойдем? ведь всё равно лодку увидят.
– Она в осоке. Пойдемте.
И он снова взял руку Любы и продолжал говорить, как будто не замечая, что Люба пыталась освободить свою руку.
– Пойдемте на то место, где я вас в первый раз увидел. Я каждый раз захожу на эту площадку и думаю о вас.
Люба вся вспыхнула, потупила глаза, но не двигалась с места.
– Чего же вы боитесь? в первый день нашего знакомства вы были такая смелая.
– Тогда была Стеша… – поспешно начала Люба и, окончательно потерявшись, склонила голову на грудь, которая сильно подымалась.
– Но вы меня не знали, тогда, – а теперь? чего же вы боитесь?
И он почти против воли повел Любу за собой.
Тавровский замечал, что с Любой надо говорить и обращаться, как с ребенком: тогда она не дичилась его; и точно: лишь только голос его сделался прост, а взгляды обыкновенны, Люба, доверчиво опираясь на его руку, пошла за ним. Она сделалась весела, болтлива, совершенно позабыв и свое горе, и неловкость, которую чувствовала за минуту в присутствии Павла Сергеича. Тавровский, казалось, сам превратился в ребенка: он усердно гонялся с Любой по лесу за коньками и бабочками. Поймав, они разглядывали их радужные крылышки. Держа на ладони бабочку, Люба так была занята ею, что не чувствовала горячего дыхания на своей разгоревшейся щечке. Тавровский, казалось, завидовал насекомому, тоже разглядывая его. Люба, подняв голову, столкнулась с его головой; он стал извиняться.
– Я, кажется, вас ушибла? – говорила Люба, потирая свой лоб.
– Нет. Я вас ушиб.
– Вам больно! вы покраснели!
– О нет, мне больнее, когда вы забываете окружающих, любуясь бабочкой.
– Ах, где она? я ее уронила! – вскрикнула Люба и, опустившись на колени, начала ловить прыгавшую по траве бабочку.
– Вот она! – кинув фуражку на бабочку, сказал Павел Сергеич. Став на колени и тихо поднимая фуражку, он прибавил: – Дайте скорее булавку.
Люба подала булавку и занялась приглаживанием пелеринки, которая от ветра рвалась с ее плеч.
– Вот она; любуйтесь! теперь она не улетит, – сказал Павел Сергеич и подал Любе фуражку, к которой была приколота бабочка.
Люба с ужасом вскрикнула.
Павел Сергеич пугливо осмотрелся кругом, думая, что Люба завидела какого-нибудь зверя; но она хлопотала около бабочки; вынув из нее булавку, она с грустью глядела на ее страдания и попытки лететь и сквозь слезы сказала:
– Что вы сделали: она теперь уж не полетит!
– Вы меня испугали! Я думал, бог знает что вы увидели, – смеясь, отвечал Тавровский.
– И вам не жаль? посмотрите, сколько пыли уже слетело с ее крылышек!
– Не беспокойтесь: она сейчас полетит.
Люба с грустью продолжала глядеть на бабочку; но вдруг лицо ее озарилось улыбкой; закинув свою головку, она радостно следила за поднявшейся на воздух бабочкой.
Павел Сергеич, стоя почти на коленях, следил не за полетом бабочки, а за Любой, которая наконец совершенно закинула головку назад, щурилась и улыбалась, провожая глазами бабочку вверх.
– Ну, теперь вы не сердитесь на меня? – спросил он.
– Нет! – покойно отвечала Люба, закрывая глаза ладонью от солнца.
– Ну а если б она умерла?
Люба взглянула на Павла Сергеича и медленно отвечала:
– Я бы очень рассердилась на вас.
– За что же? она и так скоро бы умерла, как только настала бы осень: холод…
Люба задумалась, но потом поспешно сказала:
– Неужели вы не знаете, что к холоду бабочка превращается в куколку?
– Да я вообще ничего не знаю из естественной истории.
– Хотите, я вам подарю? у меня она есть, с картинками.
– Хорошо. Дайте вашу ручку поцеловать за это.
Люба быстро встала; Павел Сергеич последовал ее примеру.
– Если не хотите дать поцеловать вашей ручки, то хоть опирайтесь ею на мою.
И они пошли под руку.
– Знаете ли что: так как мы будем на том месте, где я вас видел в первый раз, то, чтоб живее его вспомнить, говорите со мной, как тогда говорили.
Люба не скоро поняла, чего хотел Тавровский, и никак не соглашалась говорить ему «ты». За спорами она не заметила, как они подошли к площадке, которая вдали вся пестрела роскошными цветами; ароматный запах их разносился по лесу.
– Что это как чудесно пахнет? – с недоумением спросила Люба, впивая в себя воздух.
– Цветы близко, – улыбаясь, отвечал Тавровский.
– Какие цветы – здесь, в лесу? – засмеявшись, сказала Люба, но вдруг, радостно вскрикнув, кинулась бежать к площадке.
Не скоро могла она прийти в себя от удивления и восторга, очутясь в роскошнейшем цветнике. Бегая и оглядываясь кругом, она твердила:
– Это то место, это оно!
Павел Сергеич наслаждался удивлением простодушной девушки. Подойдя к ней, он указал на небольшую беседку, сделанную из кустов роз, и сказал:
– Узнаете ли вы то место, где вы лежали? Я давно желал вас привести сюда одну, потому что оно для меня очень дорого.
Люба ничего не отвечала, так что нельзя было узнать, поняла ли она смысл слов Павла Сергеича. В каком-то упоении она стала бегать по цветнику, нюхать то один цветок, то другой, спрашивала Павла Сергеича о названии некоторых. Вдруг она остановилась и, смотря ему в глаза, спросила робко:
– Это всё для меня?
– Для кого же? – с упреком спросил он.
Люба задумалась и снова пустилась бегать по цветнику, срывала цветы и плела венок.
Павел Сергеич, сидя в беседке, любовался радостью девушки и мысленно сравнивал ее с другими женщинами, которых встречал в жизни. То расчет денежный, то самолюбие, казалось ему, двигали ими, и он решил, что единственно такая женщина, как Люба, способна сделать его счастливым. Он рассуждал так: «Я слишком много дурного видел в женщинах и потому не испытывал тех чувств, какие питаю к этой девушке. Это ребенок, которого, может быть, я не полюблю никогда страстной любовью». Вот о чем только думал Павел Сергеич; о будущности, тем более о чужой, он не имел привычки рассуждать.
В эту минуту Люба, с пылающими щеками и взглядом, полным восторга, вбежала в беседку и села возле Павла Сергеича. Счастье, казалось, мешало ей говорить; она глядела на Тавровского и тихо смеялась. Сняв с головы только что сделанный ею венок, она надела его на голову Павла Сергеича и любовалась им. Они несколько времени ничего не говорили, смотря друг другу в глаза.
– Ну что же, будете вы говорить со мной, как в первый день, когда я вас увидел здесь? – подавая Любе венок, спросил Тавровский.
Люба, улыбнувшись, кивнула головой.
Павел Сергеич, наклонясь близко, шепнул ей на ухо:
– Люба!
Люба, вздрогнув, схватилась за ухо рукой, до которой тотчас коснулись горячие губы Павла Сергеича.
Люба отняла руку от уха, у которого вновь почувствовала дыхание, и снова она содрогнулась от звука собственного имени, тихо произнесенного.
Люба как бы потерялась. Она хотела встать; но Тавровский удержал ее слегка, и Люба, сев опять, вдруг смело взглянула ему в лицо… и почти шепотом, дрожащим голосом сказала:
– Ты меня любишь?
Павел Сергеич, склонив голову к ее плечу, восторженным голосом отвечал:
– Люба, одну тебя люблю из всех женщин!
– Я давно уж люблю тебя; но боялась сказать, мне было стыдно.
– Люба, ты сведешь меня с ума! перестань! – воскликнул Павел Сергеич и, подняв голову, смотрел прямо в глаза Любы, которая доверчиво скрыла свое пылающее лицо к нему на грудь.
Таеровский бережно отвел голову Любы, встал и начал ходить по цветнику. Люба в свою очередь следила за ним из беседки, но ни о чем не думала. Мысли все перепутались у ней в голове; сердце билось с такой силой, что ей казалось, будто она слышит даже удары его. Руки ее машинально перебирали еще не успевшие завянуть цветы в венке. Но она пугливо пошла навстречу Павлу Сергеичу: лицо его так было непохоже на то, каким она привыкла его видеть.
– Вы хотите идти отсюда? – сухо спросил Павел Сергеич Любу.
Она робко отвечала:
– Да.
Павел Сергеич подал ей руку, и они молча вышли из цветника.
Головка Любы поминутно оборачивалась назад, и она бросала грустные взгляды то на Павла Сергеича, шедшего с потупленными глазами и нахмуренными бровями, то на удалявшиеся цветы.
Как вдруг Люба пугливо шепнула:
– Она здесь!
Тавровский вздрогнул и быстро повернул голову. Стеша шла вдали. На ее голове был тоже венок. Она, как бы не замечая их, скрылась за деревьями. Люба хотела остановить свою подругу, но Павел Сергеич не допустил ее, сказав:
– Не делайте этого: мне ужасно не нравится ее дерзость.
– Она шутит.
– Таких шуток не надо позволять ей, – строго заметил Павел Сергеич.
Молчаливые оба, они прибыли к скату горы. Стеша поджидала их, а ее брат стоял в лодке у берега с веслом в руке.
Люба очень сконфузилась; ей живо вспомнилось мрачное лицо цыгана при их недавней ссоре.
Стеша настойчиво сказала ей:
– Садись в лодку.
Люба хотела было идти; но Павел Сергеич остановил ее и сказал:
– Что вы делаете? к чему вы их так слушаетесь?
– Да он будет сердиться! – сквозь слезы отвечала Люба.
– Что же будет вам неприятнее: рассердить его или…
– Я приду завтра… – шепотом перебила его Люба.
– Одна?
– Да.
И Люба, кивая дружески головой Павлу Сергеичу, шла в лодку к цыгану, который быстро отчалил от берега и стал грести с необыкновенной силой.
Стеша, оставшись на берегу, насмешливо глядела на Павла Сергеича, который пошел в лес, когда уже лодка едва стала заметна на воде.
– Разве ты ее любишь? – обежав Павла Сергеича и заслоняя ему дорогу, спросила Стеша.
– А тебе что за дело? – сухо отвечал Павел Сергеич. – И кто тебе сказал это?
– Я сама знаю!
– Так ты очень глупа.
Стеша вздрогнула: кровавый румянец разлился еще сильнее по ее щекам, и она презрительно поглядела на Павла Сергеича и язвительно сказала, указывая в лес:
– Она уж больше не придет туда; там ей не из чего будет делать венки-то! – И Стеша побежала к берегу, села в лодку и, бросив платок к Павлу Сергеичу, крикнула:– Возьми еще платок, чтоб вытирать слезы, когда будешь ее поджидать.
Тавровский погрозил Стеше пальцем. Она отвечала ему принужденным смехом.
Павел Сергеич был очень поражен, заметив свой вензель на платке: он совершенно забыл, что в первый день знакомства с девушками обвязал этим платком ушибленную голову Стеши.
Лодка скрылась с озера; только венок, бывший на голове Стеши, одиноко и тихо качался на воде, как бы в раздумье, куда ему плыть.
Павел Сергеич страшно рассердился, возвратясь в цветник: все цветы в нем были помяты, беседка испорчена; он долго оставался в ней, то припоминая слова и взгляды Любы, то возмущаясь дерзостью Стеши…
С этого дня Люба более уже не ездила к скату горы. Стеша насказала Куратову, будто Люба, катаясь одна, чуть не утонула. Куратов принял строгие меры, чтоб дочь его не каталась одна по озеру. Эти препятствия не охладили Тавровского, а напротив, подстрекали его настойчивый характер. Он выдумывал разнообразные хитрости, чтоб хоть минуту побыть наедине с Любой. Один взгляд Любы, брошенный ему украдкой, или случайное прикосновение ее руки сильно действовали на него. Он столько раз был любим, что самонадеянность сделала его равнодушным к женщинам и в то же время недоверчивым: ему не раз случалось открывать расчет там, где он предполагал чувство. Как старику лестно внимание молодой женщины, так и Тавровскому льстила любовь невинной и почти дикой девушки, исполненной чистой и поэтической детской любви. Она не думала о будущем, мысль о замужестве не входила в расчеты; при ней не было ни расчетливой тетки, ни заботливой матери, которая научила бы ее, как действовать, чтоб не упустить выгодной партии.
Куратов по-прежнему не обращал внимания на свою дочь и решительно не подозревал настоящей цели знакомства с ним Тавровского.
Павел Сергеич задавал у себя в деревне пиры, на которые приглашал Куратова и Любу. Фейерверки, иллюминации и разные другие увеселения были новостью для девушки, жившей в лесу. Люба в первый раз видела общество. Она дичилась его; но внимание хозяина и ее красота делали ее первой везде. Любе стоило только победить свою робость, чтоб говорить со всеми и приводить всех в восторг. Она в несколько уроков, данных Павлом Сергеичем, грациозно вальсировала. И соседи, знавшие воспитание, какое давал Куратов своей дочери, не могли надивиться, где это она выучилась всему. Девушке, не испорченной никакими нанятыми наставницами, ни строгою заботливостью, чтоб она походила на жеманную куклу, ни обществом многочисленной свиты горничных, легко перенять слишком простые условия порядочного круга.
Приближался день рождения Любы. Павел Сергеич в этот день назначил у себя в деревне праздник и пригласил множество гостей, а в том числе Куратова и его дочь.
В доме его совершались страшные приготовления. Ломались стены в комнатах: прилаживали сцену и партер. Тавровский готовил Любе сюрприз, так как она еще не имела понятия ни о каких сценических представлениях.






