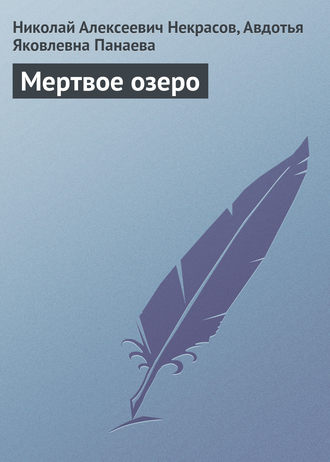
Николай Некрасов
Мертвое озеро
Глава LXVI
Визиты
Читатели потрудятся припомнить, что Любская и Остроухов были введены в приемную к Любе. Актриса вошла гордо, с презрительной улыбкой, а ее товарищ – робко, не смея поднять глаз. Он остался у дверей.
Любу очень сконфузили гордо-насмешливые взоры незнакомой дамы; но, увидя Остроухова, она вздрогнула и пугливо-вопросительно глядела на своих гостей.
Любская, казалось, наслаждалась замешательством девушки; в лице ее еще резче отразилось самодовольно-гордое выражение. Оглядывая Любу с ног до головы, она язвительно улыбалась.
Люба, то краснея, то бледнея, едва могла проговорить:
– Что вам угодно?
Любская вместо ответа засмеялась.
Слезы выступили на глазах Любы. Остроухов, как будто покоробленный смехом Любской, печально сказал:
– Говори скорее: мы можем наскучить.
– Вы, верно, догадываетесь, кто я? – с важностью спросила Любская.
Люба молчала.
– Я та самая, которой по всем правам следовало поселиться в этом доме. Но я была бедна, одинока, за меня некому было вступиться, – продолжала актриса.
– Это правда: она была брошена на все соблазны, – шептал Остроухов у двери.
– Что же вы хотите от меня? – едва внятно спросила Люба, страшно изменясь в лице.
– Позвольте, я еще не докончила своей истории! – перебила ее Любская и, приняв драматическую позу, продолжала, возвышая постепенно голос: – Мне, как и вам, обещались жениться. Но… – насмешливо прибавила она, – я, может быть, не так была опытна и более доверчива…
– Говори дело, и скорей! – перебил ее Остроухое.
Но Любская не обратила на его слова внимания и с большею ирониею продолжала:
– Может быть, ваша любовь дальновидна; но я, я любила просто, без расчетов… я…
– Господи!.. да говори порядочно! – умоляющим голосом опять перебил ее Остроухов.
На этот раз Любская резко ему отвечала:
– Прошу не перебивать! – и с горячностью обратилась к несчастной девушке, бледневшей от каждого ее слова всё более и более: – Любовь увлекла меня, или, лучше сказать, меня старались увлечь, чтоб моим падением воспользоваться и бросить безжалостно. Да, я была брошена, предана злословию, стыду, и всему этому, знаете ли, кто был причиной?
Остроухов кинулся к Любской, взял ее за руку и умоляющим голосом сказал:
– Довольно! посмотри, посмотри на нее, пожалей, она еще так молода!
В самом деле, Люба находилась в таком положении, что при взгляде на нее замирал дух. Она была бледна как полотно; полураскрытые губы усиливались говорить, но звуков не было. Глаза молили пощады, и она придерживалась за письменный стол, чтоб не упасть.
– Ах! оставь меня! – с сердцем вырвав свою руку, сказала Любская и язвительно спросила: – Кто, кто жалел меня? я тоже была молода! И ты это знаешь очень, очень хорошо!!
– Всё-таки это тебе не дает права мстить другим, – горячась, отвечал Остроухов.
– Разве я кому-нибудь мщу? нет, я пришла с добрым намерением…
Но вдруг она остановилась и так громко засмеялась, как будто была на огромной сцене, а не в комнате. Указывая трагическим жестом на портрет Тавровского, стоявший на письменном столе, она сказала язвительно:
– Как жаль, что я не вижу в эту минуту самого оригинала!
Потом она близко подошла к Любе и, сняв с себя медальон, открыла его и поднесла к глазам отчаянной девушки.
То был миниатюрный портрет Тавровского в самом цветущем его возрасте.
Люба пошатнулась и села на стул.
– Вы видите, у меня такой же. Он был подарен с клятвами, что оригинал будет вечно принадлежать мне; но в моих руках осталось одно его изображение. Видите, как смешно доверять чему-нибудь и кому бы то ни было.
– Пойдем, пойдем отсюда! дай ей успокоиться! – говорил в волнении Остроухов, с ужасом глядя на Любу и дергая за платье Любскую, которая продолжала:
– Я с вами буду говорить коротко и прямо: вы обмануты; если я не принуждаю его быть моим мужем, то не позволю ему быть и вашим! Да, я надеюсь, вы не захотите сами быть женой человека, который даже в то время, как был вашим женихом, не оставлял своих старых связей, имел тысячу новых интриг, даже не одну сделал несчастною.
– Перестань! разве я тебя затем привел, чтоб ты оскорбляла ее? – в негодовании сказал Остроухов, кинувшись между Любой и Любской.
Последняя, выходя из своей важной, гордой роли, сказала:
– Ты с ума сошел! разве я не могла без тебя прийти?.. да я еще дождусь его здесь!
Люба слабо вскрикнула и, закрыв лицо, припала к столу.
– Иди, иди сейчас же отсюда! – почти шепотом, но грозно сказал Остроухов и в отчаянии продолжал, хватая себя за голову: – Пусть будет проклят тот час, когда я вздумал вмешиваться в это дело! Но кто же мог ожидать, что из тебя вышло! Я думал, что ты всё та же! – Остроухов с отвращением отвернулся от Любской и, почти плача, продолжал, не смея поднять глаз на Любу: – Это не она! нет, это не та женщина, для которой я скакал дни и ночи, не ел, не пил. Я сам отказываюсь от нее! – И Остроухов заплакал, как ребенок, бормоча:– Федя! Федя! ты хорошо сделал, что умер!
Любская ходила скорыми шагами по комнате; ее руки судорожно сжимались; она то пожимала плечами, то злобно глядела на Любу и Остроухова, который вдруг выпрямился и, повелительно указав ей на дверь, сказал грозно:
– Сейчас же оставь ее!! Ты знаешь меня очень хорошо! и если не хочешь истории, беги скорее!
Любская стиснула зубы и, грозя Остроухову, в гневе отвечала:
– Ты у меня поплатишься за эту выходку! – и язвительно прибавила: – Вы, кажется, вздумали разыграть роль защитника, надеясь, может быть, что вам заплатят за нее… ха-ха-ха!
– А ты роль леди Макбет начинаешь осуществлять в жизни, и только недостает кровью запятнать руки, – отвечал Остроухов, прибегая в своем возражении к театральным воспоминаниям. – Сердце, кажется, у тебя давно запятнано.
Остроухов выходил из себя и был страшен.
– Хорошо!.. я уйду, – задыхаясь, отвечала Любская и, обращаясь к Любе, прибавила грозно:– Но знайте, избранная из всех смертных, чтоб быть подругой самого развратного и безжалостного человека, я решусь на страшные вещи, но не допущу его быть ничьим мужем!
С этими словами Любская быстро вышла из комнаты. Остроухов кинулся за ней и захлопнул дверь, а сам остался на пороге, повесив голову, как преступник, ожидающий наказания.
Люба, казалось, ничего не видала. С минуту она оставалась всё в той же позе; но вдруг рыдания ее наполнили комнату.
Остроухов тоже тихо всхлипывал, бормоча жалобно:
– Простите, простите… Я, я всему виноват!
Люба пугливо отерла слезы и отчаянным голосом сказала:
– Чем же? я благодарю вас: вы раскрыли мне жизнь человека…
– О, не верьте, не верьте озлобленной женщине… нет! это не женщина, а фурия какая-то… Господи! если бы вы ее видели несколько лет тому назад, о, вы приняли бы в ней участие!.. Ради бога, выходите скорее замуж. Вы его любите… и где вы найдете мужчину без каких-нибудь проступков?.. Простите, простите меня!
И Остроухов весь дрожал и, казалось, готовился упасть к ногам Любы, которая кротко сказала:
– Я на вас не сержусь: вы любили ее…
– Как дочь! – подхватил Остроухов.
– Значит, вы ни в чем не виноваты.
– О, вы добрая!.. да, вы женщина, вы еще не испорчены, как она! Я скажу вам откровенно, я ехал сюда, чтоб расстроить вашу свадьбу; а теперь, теперь! – И Остроухов тоскливо рванул себя за поношенный черный фрак и печально продолжал: – Я готов отдать свою жизнь, хотя трудно, чтоб она что-нибудь стоила, – прибавил он иронически, – лишь бы успокоить вас и всё уладить… Прощайте! не думайте обо мне того, что недавно сказала безумная, испорченная женщина, будто я вступался за вас из… Ну да кто ей станет верить!.. Нет, вся вина моя в том, что я не износил вместе с своей наружностью привязанности и горячности к людям, которых я люблю. Но… я ее более не увижу!! Прощайте и простите великодушно старому и из ума выжившему ярмарочному актеру…
И Остроухов, почтительно поклонясь, печально вышел из комнаты.
Собирая свои растерянные мысли, Люба походила на женщину, упавшую с большой высоты и едва очнувшуюся, голова которой не пришла в порядок от сильного сотрясения.
Почти в то же самое время и Тавровский имел визит; но разница в том, что он вовсе не был потрясен.
Когда он сидел у себя в кабинете, Зина тихо вошла к нему, с потупленными глазами, и, как бы сконфуженная своей смелостью, робко сказала:
– Я, может быть, вас беспокою?
– Очень приятно! не угодно ли? – отвечал Тавровский, подавая ей стул.
Зина села и как бы задумалась.
Тавровский, смотря на нее, шутливым тоном спросил (впрочем, он всегда этим тоном говорил с ней):
– Вы о чем-то мечтаете?
– Да! я думала о своем положении – как ужасно быть одной, не иметь никого, кто бы принял участие, защитил… – печально отвечала Зина.
– Помилуйте! да вы мне кажетесь окруженною двадцатью опытными маменьками, тетушками и прабабушками, которые наперерыв дают вам советы, как вести себя и обработывать ваши дела.
– Ах! – тяжело вздохнув, с грустью отвечала Зина. – Вот в сию минуту, когда я пришла к вам с открытым сердцем…
– Это должно быть очень любопытно – увидеть такое сердце! – перебил ее Тавровский.
– В нем, как и в других, есть очень много недостатков.
– Например?
– Излишняя привязанность…
– Немстительность, доброта, кротость… У! какое богатство!
– Зато я не имею денег!
– Да эти достоинства уравновешивают вас с первыми богачками на свете.
– Не все так думают, как вы; всего прежде требуют от девушки приданого.
– А вы собираетесь замуж? – быстро спросил Тавровский.
– Может быть! – лукаво отвечала Зина.
– Ну что же, очень умно сделаете: тетушка уже стара…
– И не так щедра, чтоб надеяться быть вознагражденною за все жертвы, – подсказала Зина.
– Да, она вас решительно не понимает!
– Вы всё шутите, Павел Сергеич, а я пришла очень серьезно поговорить с вами.
– За чем же дело стало? Я готов!
И Тавровский подвинул свой стул ближе к Зине, которая жалобно начала:
– Павел Сергеич, вы знаете, что я девушка бедная и…
– Знаю, очень знаю, что вы дочь дворецкого! – подхватил Тавровский.
Зина изменилась в лице, но подавила в себе злобу и, придав своему лицу вид угнетенный, продолжала:
– У меня нет никого, кто бы защитил меня, о моей участи некому позаботиться, я сама должна быть себе и матерью и защитником.
Тавровский, покачивая головой, произнес:
– Ну-с?
– Я пришла… к вам… с маленькой просьбой.
– С какой? – с удивлением воскликнул Тавровский.
– Вы не догадываетесь? – лукаво смотря на Тавровского, спросила Зина.
– Нет! – серьезно отвечал Павел Сергеич.
– Говорят, будет очень скоро ваша свадьба?
– Да, я постараюсь устроить ее как можно скорее.
И Тавровский вопросительно глядел на Зину, которая, приняв плаксивую мину и потупив глаза, спросила:
– А вы обо мне не подумали?
– Что же мне думать об вас?
– Павел Сергеич! я надеялась на вашу деликатность! – обиженно отвечала Зина.
– Нет ли у вас еще каких других надежд?
– Да! и на вашу щедрость, – незастенчиво и любезно улыбаясь, сказала Зина.
– На мою щедрость? Гм!.. нет! я стал скуп.
– С тех пор как женитесь на миллионерке.
– С чего же вы взяли, что она миллионерка? – смеясь, спросил Тавровский.
– Не притворяйтесь; я видела сама с вашей тетушкой документы в руках ее братца!
На последнем слове Зина сделала сильное ударение.
– Прибавьте: молочного! – резко заметил Тавровский.
– Да, молочного.
И Зина рассказала Тавровскому подробно о богатстве его невесты, что было совершенной новостью для Павла Сергеича и, разумеется, очень приятною. Зина продолжала:
– Вот видите, какой вы богач, и не хотите бедной девушке дать средства к существованию.
– А-а-а, так вот к чему всё клонилось! Зачем же вы столько лавировали? а? Я люблю прямоту.
– Извольте! я скажу вам прямо, что надеюсь получить от вас сумму денег, которая вас не стеснит, а мне будет очень кстати, – говорила шутливо Зина, как будто дело шло о самой ничтожной вещи.
– Позвольте узнать, какие вы имеете права просить у меня денег? – запальчиво спросил Тавровский, отбросив совершенно шутливый свой тон.
Зина как бы сконфузилась, потупила глаза и потом, быстро подняв их, – вероятно, чтоб более придать им эффекта, – устремила их печально на Павла Сергеича и тихо сказала:
– Спросите вашу совесть…
– Она мне говорит, что гроша не следует давать! – презрительно отвечал Тавровский.
Зина побледнела. Злоба, казалось, душила ее; но она победила ее и через минуту молчанья кротко, но твердо сказала:
– Если вы так бесчеловечны, что не хотите признать моих прав, я… я обращусь к другим: может быть, в бедной девушке и примут участие.
– К кому же вы намерены обратиться?
– Говорят очень много хорошего о вашей невесте… Она…
– Ну нет-с! вы ее должны оставить в покое. Слышите: не сметь!! – энергически произнес Тавровский.
Глаза его засверкали; он гордо глядел на Зину, которая с наивностью спросила:
– Почему?
– Я этого не хочу!!
– Что же мне делать! – в раздумье говорила Зина, как бы рассуждая сама с собой. – Я так низко стою во мнении вашей тетушки, да, верно, и вашей невесты, что кого могу я обидеть, если обращусь с просьбой о помощи мне, бедной девушке. Павел Сергеич, подумайте, мне нечего терять. Я привыкла ко всему и, бывши еще ребенком, часто слышала, что меня могут выгнать каждую минуту из вашего дома.
– И хорошо бы сделали! – проворчал Тавровский.
Зина вздрогнула и, изменив тон своего голоса, язвительно сказала:
– Значит, я ровно ничего не теряю. Моя неопытность…
– Говорите скорее! во сколько вы цените ее? – сердито сказал Тавровский, подвинув свой стул к письменному столу, у которого они сидели.
Зина, злобно улыбаясь, отвечала:
– Я полагаюсь на вас.
– Я думаю, цена будет очень дорогая, если вы согласитесь на пять тысяч? – серьезно спросил Тавровский.
Зина закусила губы и, задыхаясь, сказала:
– Вы знаете очень хорошо, что такую сумму можно было бы предложить вашим нянюшкам.
– Сколько же? – бросая перо, спросил Тавровский.
– Я желаю пятьдесят тысяч! – отвечала резко Зина.
Тавровский вскрикнул с ужасом:
– Пятьдесят тысяч?!.. Я, верно, ослышался!
– Павел Сергеич, прошу без шуток! – горячась тоже, воскликнула Зина.
– Какие шутки! до шуток ли? я не могу опомниться! пятьдесят тысяч!!.. Полноте! согласитесь наполовину!.. Да этак, я уверен, не запрашивают и на Щукином дворе!!
Зина вся задрожала и вскочила с своего места.
– Куда вы? – удерживая ее за руку, покойно спросил Тавровский.
– Оставьте меня! Я не могу более выносить подобные оскорбления.
– Садитесь.
И Тавровский усадил Зину на прежнее место и, взяв бумагу и перо, сказал:
– Вот вам пятьдесят тысяч, и надеюсь, что они с излишеством всё выкупят.
Тавровский стал писать. Зина сказала ему, встав и раскланиваясь:
– Не трудитесь: я теперь их не приму от вас…
Тавровский посмотрел на Зину, она на него; с минуту они любовались друг другом, и когда Зина насмешливо присела ему, Тавровский вскочил, запер дверь и, спокойно возвратись с Зиной к столу, посадил ее перед ним, подвинул к ней чернила и бумагу, дал ей перо, а сам, подойдя к звонку, сказал очень решительно:
– Зиновья Михайловна, извольте написать ко мне письмо, что вы просите у меня прощенья за ваше намерение наделать мне неприятностей и что цель ваша была денежный расчет. Я вам не советую ссориться со мною, – продолжал Тавровский, заметив, что Зина отбросила перо:– Я поступлю жестоко. Я попрошу сюда сейчас же Наталью Кирилловну, которая…
Зина поспешно стала писать, а Тавровский, смеясь, стоял за ее стулом, следил за ней и одобрительно говорил:
– Хорошо! вот так! ваше имя теперь…
И когда Зина встала со стула, Тавровский взял записку, спрятал в карман и сказал:
– Вы знаете, Зиновья Михайловна, я не люблю сцен…
– Бог и добрые люди не дадут в обиду бедную девушку! – торжественно произнесла Зина.
– Всё-таки советую вам беречься. Вот вам записка: явитесь к моему управляющему, и вы будете удовлетворены.
Зина взяла записку из рук Тавровского и поспешно пошла к двери, у которой остановилась и сказала:
– Отоприте же!.. Да, я и забыла вам сказать, – будто сейчас вспомнив, наивно прибавила она, – что к Любови Алексеевне пришли гости.
– Это кто?
– Да какая-то госпожа Любская с отцом, а может быть, и мужем… Отоприте же!
Тавровский не двигался с места.
Зина, смеясь, глядела на него и пугливо сказала:
– Ах, господи, отчего же вы не отворяете! что еще хотите меня заставить написать?
Нетвердой рукой Тавровский вложил ключ в замок и первый выбежал из кабинета, а Зина, припрыгивая за ним, поддразнивала его запиской и делала ему нос.
Тавровский застал еще следы слез и отчаяния на лице Любы. Она старалась скрыть их, но напрасно: в ее голосе и взгляде были рыдания, – и при виде своего жениха она хотела убежать. Но Тавровский таким умоляющим, отчаянным голосом и вместе с упреком произнес: «Люба, Люба!», что она остановилась. Он подошел к ней, взял ее за руку; глядя ей в лицо, которое было склонено на грудь, с потупленными глазами, он от волненья долго не мог говорить, наконец печально сказал:
– Я надеялся, что ты поверила наконец в искренность моих слов, что я тебя, одну тебя люблю. Разве я отпирался от своих прежних увлечений? Я жалел твою чистоту и только потому не признавался в них. Сама рассуди, мог ли я жениться на подобной женщине? Ты видела ее и, несмотря на свою неопытность, я уверен, поняла, что двигало эту женщину, когда она вздумала изъявлять свои смешные права. Только к тебе, как девушке, полной чистоты и не знающей жизни, она могла явиться так смело. Кто бы другой допустил ее говорить? Одно ее присутствие здесь было уже большое оскорбление!
– Что же мне было делать? Я так испугалась ее.
– Люба, она на это рассчитывала. Не ты первая из невест, которые слышат ужасы про своих женихов, и, верно, не последняя. Я не буду выставлять себя примером скромности. Но знай, Люба, что всё дурное во мне развито от воспитания и людей, окружавших меня. Каждый дурной поступок в моей жизни верно найдет оправдание. Расставшись с тобой, я для испытания себя и своей любви вновь вел прежнюю жизнь – и глубоко сознал, что она недостойна порядочного человека. Я всё оставлю: все свои привычки, – я уеду отсюда, только вырви меня из этой пустоты, которая погубит меня. Да, ты одна только можешь спасти меня!
Тавровский в подобные минуты имел столько энергии, говорил так убедительно и был так привлекателен, что не пламенно любящему сердцу Любы было устоять. Она колебалась. Павел Сергеич спешил воспользоваться этой минутой, и Люба невольно дала согласие ускорить свадьбу.
Тавровский поехал к Любской, желая как-нибудь запугать ее, задарить, уговорить – одним словом, как можно скорее покончить это дело. Он знал упрямство ее характера, но надеялся и на свою настойчивость. Однако ж, увидев Любскую и вспомнив ее дерзость, Тавровский забыл свое благоразумие; злоба душила его. Любская явилась перед ним расстроенная, вся в слезах, чем он был немного удивлен.
– Я думал найти вас торжествующей, – сказал он иронически, – и льстил себя надеждою уничтожить ваше торжество.
– Да вон тот дурак, помешанный, наделал мне таких сцен, что я как дура расплакалась, – говорила Любская, вытирая слезы и как бы стыдясь их.
– Ваш свирепый защитник? Это что-то худой знак. От вас все отступаются, как…
– Прошу вас умерить выражения! – перебила Любская.
– Это почему? Вы, кажется, не умеряли их, да еще в моем доме, в присутствии особы, на которую вам с благоговением следовало бы смотреть. Знаете ли, вы еще не взвесили вашего неблагоразумного поступка. Ну, если бы я вас встретил первый, то…
– Что бы вы сделали?
– Я?.. я сначала переломал бы ребра швейцару, потом вашему защитнику, а…
– Замолчите! вы забываете, что вы говорите! – в ужасе воскликнула Любская.
– Да! я нахожусь в таком состоянии, что не могу ручаться за свои слова; даже…
Лицо Тавровского было страшно, так что Любская пугливо сказала:
– Успокойтесь; я потом буду говорить с вами.
Тавровский долго ходил по комнате, как бы желая успокоиться, и потом, сев возле Любской на диван, серьезно, но уже покойно сказал:
– Я надеюсь, что между нами всё и давно было кончено?
– Я надеялась, что года, моя терпеливость тронут вас и вы исполните то, что несколько лет тому назад обещали.
– Это забавно, это мило!! ха-ха-ха! Вы просто шута из меня хотели сделать! – сказал Тавровский.
– Не говорите так со мной! вы знаете мой характер: за оскорбление я плачу тем же! – в негодовании отвечала Любская.
– Извольте! будем говорить иначе. Например: что вы надеялись приобрести вашим визитом? Вы подвергали себя страшной опасности. Ну что, если бы вы встретили не кроткую и робкую девушку, а опытную и знающую людей? вы были бы жалки и ваше положение было бы унизительно. И когда вы вздумали утолять ваше самолюбие? после таких огромных промежутков времени, разделявших нас! Я женюсь… что же такого ужасного для вас? Вы разве можете упасть во мнении ваших собраток и собратьев? напротив, новая квартира, мебель, экипаж – и вы стали выше в их мнении. Я хорошо знаю вас, и я надеялся на ваше образование, опытность, знание жизни. Сознайтесь, что наши отношения друг к другу вовсе не были такого рода, чтоб вы имели право являться ко мне в дом и делать сцены?
– Я глупо сделала! я сама себе удивляюсь! – искренно отвечала Любская, покраснев при воспоминании о своей ошибке.
– Вот теперь я вас узнаю! И к чему вам было выходить из вашей роли?.. Я рад, что вы сознались в своем проступке, и вы должны его исправить.
– Это как? и чего вы от меня требуете?
– Очень простой вещи: явиться опять ко мне в дом и сознаться той, которой вы наговорили глупостей, что всё вами сказанное -чистейший вздор…
– Ваше требование выходит из границ. Нет! я никогда не унижусь! придумайте другое средство, – гордо сказала Любская.
– Другого нет! советую согласиться, если вы не хотите нажить себе самого страшного врага! – таким угрожающим голосом сказал Тавровский, что Любская с досадой отвечала ему:
– Я не ребенок: не стращайте меня!
Но вдруг ее лицо озарилось радостью; она засмеялась и весело сказала:
– Извольте, я на всё согласна, – только на одном условии.
– Какое? – с любопытством и поспешно спросил Тавровский.
– Вы должны ужинать у меня накануне вашей свадьбы! – сказала актриса.
Павел Сергеич нахмурил брови, потом усмехнулся и сказал:
– Это только вам могут прийти в голову такие условия.
– Согласны? – кокетливо спросила Любская.
Тавровский подумал и сказал:
– Я готов! Мне ужасно надоели ссоры, объяснения. Я согласен!
– Вашу руку, – поспешно сказала Любская.
– Вот она.
– Я сейчас же еду.
– И умно сделаете!
Они расстались так дружно, как будто между ними и тени не было неприятностей.
Люба еще находилась под влиянием страшного визита, как ей доложили опять о желании Любской видеть ее. Люба в испуге не велела принимать; но Любская стояла уже в дверях и бросала умоляющие взгляды. Ее голос, взгляд, манеры, походка – всё выказывало женщину под тяжким бременем раскаяния. Она была бледна, глаза красны и впалы. Если бы не вечер и не сильное волнение Любы, может быть, она заметила бы, что всё это было искусственно.
– Я пришла у вас просить прощенья… – тихим голосом сказала актриса.
– Не у меня, а у него вы должны просить прощенья, если любите его, – нетвердым голосом отвечала Люба, верно припомнив слова Тавровского, что иначе надо было бы говорить с Любской.
– Слова, сказанные раздраженной женщиной, не есть оскорбление мужчине. Нет! я у вас должна просить прощения. Я обдумала свой поступок и ужаснулась его! Меня увлекла любовь; но я актриса и не имею тех прав, как другие женщины.
– Почему?
– Условия нашей жизни выходят из ряда; свобода, которою мы пользуемся в некоторых случаях, есть в то же время страшная преграда для нас. Я сама чувствую смешную сторону моих надежд и спешу уверить вас, что счастье ваше с ним будет прочно. Он один из благороднейших людей, и я готова дать клятву, что он не сделал ни одного поступка в своей жизни, за который вам как жене его можно краснеть.
– Как же вы говорили утром? – воскликнула удивленная Люба.
– Повторяю вам, я говорила в бреду.
Люба свободно вздохнула.
– Простите раскаивающейся женщине… Вы можете заметить по моему лицу, что должна я была перечувствовать с той минуты, как оставила вас.
Люба испугалась бледности и страдальческого вида Любской, которая продолжала почти шепотом:
– Позвольте мне уйти: я… чувствую, что силы меня оставляют…
И она пошатнулась, идя к двери.
– Сядьте: вы упадете! – сказала Люба, подбежав к актрисе, которая зашаталась и облокотилась на ее плечо. Но она скоро очнулась; как бы удивленная, вспоминала, казалось, где она, глядела на Любу, осматривалась и наконец, заплакав, сказала:
– Как вы добры! вы простили меня, вы не испугались поддержать женщину, оскорбившую вас. О, возьмите, возьмите его! он вам одним должен принадлежать!
И актриса, сорвав медальон с своей груди, поцеловала его и, оставив в руках растроганной Любы, поспешно вышла. Лишь только она захлопнула дверь за собой, как поднесла платок к губам, заглушая свой смех.






