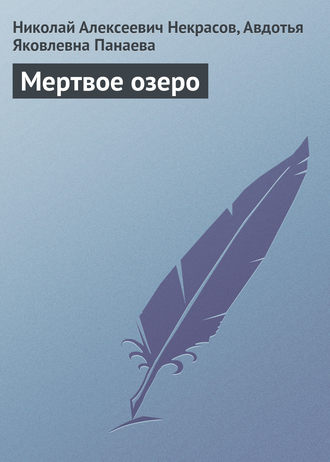
Николай Некрасов
Мертвое озеро
Настя собрала последние силы и твердо вынесла сцену осмотра и описи их небольшого имущества, назначенного к продаже с аукциона. Старик во всё продолжение тяжелой сцены был нем как могила. Но когда объявлено было, что Иван Софроныч должен идти в долговое отделение тюрьмы, несчастная девушка не выдержала: рыдая, бросилась она к ногам Переваленко-Зацепы и страшными, раздирающими воплями умоляла его пощадить отца.
– Настя, Настя! – голосом, полным кроткого упрека, говорил Иван Софроныч, и по угрюмому лицу его вдруг обильно потекли слезы. – Господи! – воскликнул он торжественно, воздев руки кверху. – Слабы силы мои пред испытанием, посланным тобою! Не мне, о господи, вынести его! Верю в неисчерпаемую благость твою и ныне взываю к ней: господи! разреши клятву, сковывающую руки и ноги, – и да будет воля твоя!
Он замолк на минуту и, подняв дочь свою, рыдавшую у ног Переваленко, сказал голосом грустного убеждения:
– Настя, не плачь! я не пойду, я остаюсь с тобой!
И он быстро вышел в другую комнату.
Настя в отчаянии снова упала к ногам Переваленки.
– Что сделал вам отец мой? – говорила она. – За что вы его преследуете? Он ни в чем не виноват!
– Если он не виноват, пусть жалуется, – возражал Переваленко с обычным своим красноречием и плавностию. – Его будут судить, и, если окажется…
– Меня будет судить бог! – воскликнул Иван Софроныч, появляясь в дверях. – Вот деньги, которые вы требуете: возьмите их и оставьте нас!
И он подал Переваленке ломбардный билет. Все были поражены, как громом. Любопытные со всего дома, столпившиеся в дверях квартиры, испустили крик радости.
– Позвольте, – недоверчиво сказал Переваленко, принимая билет. – Надо еще посмотреть.
Он снял свои серебряные очки, протер их клетчатым платком, надел снова и начал рассматривать билет. Билет был очень старый: лет двадцать пять или больше была положена неизвестным небольшая сумма, которая теперь с накопившимися процентами составляла ровно сумму, взыскиваемую с Ивана Софроныча.
Удостоверившись в подлинности билета, Переваленко сделал недовольную гримасу. Он знал неудовольствие, вследствие которого Тавровский расстался с своим управляющим, и единственная цель, с которою он начал процесс, состояла в том, чтоб в одно прекрасное утро доложить Тавровскому, между прочим, что прежний управляющий его содержится в тюрьме: хитрый малоросс думал угодить тем своему господину.
Но делать было нечего; он принял билет, расписался в получении и ушел с своими товарищами.
Настя бросилась в объятия отца. Зрители разошлись, довольные развязкой драмы. Только один молодой человек, бывший в числе их, заметил другому:
– Какой, однако ж, жадный старик! до последней минуты не хотел расстаться с деньгами. А я знал, что деньги у него есть.
– Да откуда? – спросил другой.
– Он выиграл триста пятьдесят тысяч, – отвечал первый, – я сам слышал, как он говорил дочери!
– Неужели? Слышите, слышите! – воскликнул второй, обращаясь к расходившейся компании. – Да у него, говорят, есть триста пятьдесят тысяч!
– Как? что такое? откуда? Не может быть! Триста пятьдесят тысяч!
И через несколько минут весь дом толковал об Иване Софроныче, называя его страшным богачом и отчаянным скрягой.
Глава LVII
Свидание
Часу во втором утра по Невскому проспекту ехала прекрасная коляска, обратившая общее внимание идущих и едущих странною противоположностию двух лиц, сидевших в ней. Рядом с молодым человеком, щегольски одетым, сидела худая сгорбленная старушонка в белом чепце с фалбалой и в черном ветхом салопе. Наружность старухи тоже нисколько не гармонировала с тонкими и привлекательными чертами молодого человека. Пока любопытные прохожие старались разгадать причину такого странного товарищества, в коляске происходил следующий разговор:
– Где же ваша квартира?
– Ох, батюшка, кормилец мой, далеко. Куда вам забиваться в такую глушь. Я и так доплетусь.
– Ничего. Вы мне скажите, куда вас везти.
– В Измайловский полк, касатик.
– А улица?
– В Девятую роту, батюшка, в Девятую; дом Ерофеева… О-о-ох!
Старуха жалобно простонала.
– Что, болит? – спросил молодой человек.
– Ох, болит, батюшка! И как же болит. Чтоб ему, окаянному, ни дна ни покрышки! – прибавила старуха с негодованием.
– Негодяй! – сказал молодой человек. – Жаль, что его не поймали!
– Ускакал, ускакал проклятый! – с соболезнованием, качая головой, говорила старуха.
Между тем коляска быстро проехала людные улицы в поворотила в бедную часть города; домики здесь были низенькие и малые, казавшиеся еще менее, при невероятной ширине улиц, которые не были вымощены; посреди их протекали лужи, в которых плескались утки. Колесо вязло в грязи по ступицу.
– Вот и Девятая рота. Стой, стой, голубчик! – крикнула старуха кучеру. – О-о-ох! да как же я выйду, горемычная! – прибавила она, когда коляска остановилась у ворот деревянного дома.
– Я вам пособлю.
– Ни-ни-ни, батюшка! и так, чай, надоело возиться со старухой!
– Ничего.
Молодой человек осторожно высадил ее и спросил:
– Ну, куда же?
– А вон, батюшка, видишь?
И она указала ему небольшой флигель в глубине двора, вросший, казалось, в землю; ибо никак нельзя было предполагать, чтоб его строили таким низеньким. Окна в нем были маленькие, уставленные еранью.
Молодой человек подвел к нему старуху, которая сильно хромала:
– Вы одни живете?
– Нет, батюшка, куда одной такую квартиру нанимать! – отвечала старуха. – Ольга Михайловна! – крикнула она, увидав в окне женскую фигуру.
Показалась полная и довольно красивая женщина лет сорока в распашном белом капоте.
– Ахти, господи! Маремьяна Степановна! да вы, никак, хромаете? – воскликнула она с испугом.
– А захромаешь, как переедут! – отвечала старуха. – Моли бога, что еще жива осталась! Стала я переходить Невский, и наскочи озорник какой-то – повалил! а сам и был таков – ускакал! Да вот спасибо еще доброму барину.
– Я поднял ее без чувств, – сказал молодой человек. – Помогите мне ввести ее в комнату; ей надобно подать помощь.
Они вошли в небольшую комнату, бедную и неопрятную, в которой помещалось несколько женщин и детей. Вид нищеты неприятно поразил молодого человека.
Девочка лет одиннадцати кинулась с испугом к старухе.
– Вот моя дочка! – сказала старуха молодому человеку.
– Положите ее, а я пришлю доктора, – сказал он. – Вот на лекарство.
Он подал старухе довольно крупную ассигнацию; старуха не верила своим глазам.
– Кормилец мой! чем я заслужила? – воскликнула она и хотела повалиться ему в ноги.
Дверь соседней комнаты тихо скрыпнула, и оттуда выглянула курчавая голова.
– Ничего, старуха. Я богат. Приходи, когда выздоровеешь: получишь еще. Ты очень бедна?
– Бедна, батюшка, ахти как бедна! Только и есть, что добрые господа пожалуют: тем и кормимся с дочерью. Да вот у нас жилец.
Дверь соседней комнаты поспешно затворилась, и курчавая голова исчезла.
– Так приходи ко мне: я прикажу выдавать тебе пенсион – десять рублей серебром в месяц.
Все бывшие в комнате ахнули!
Дверь снова скрыпнула, и голова показалась.
– Батюшка! кормилец! благодетель! – воскликнула старуха. – Целуй ручку! целуй ручку! – шептала она в то же время дочери, толкая ее к щедрому посетителю.
– Вот подлинно: не знаешь, где найдешь, где потеряешь! – шепнула одна из бывших тут попрошаек той, которую звали Ольгой Михайловной.
– Счастье, подлинно счастье! – отвечала последняя.
– Вот уж другой пример на моем веку, – продолжала попрошайка. – Третьего года на моих глазах Терентьич под карету попал… Шли вместе; что бы мне угодить? так нет! Терентьич как тут был, и через то на всю жизнь счастлив стал: пенсион положили. А мне вот нет и нет счастья!
Попрошайка глубоко вздохнула.
До слуха посетителя достигли частию слова попрошайки, и сердце его болезненно сжалось. Он спешил уйти, повторив хромой старухе:
– Приходите же ко мне.
– Да как же найти тебя кормилец? – спросила старуха.
– Ах, в самом деле! мне надо оставить вам мой адрес. Нет ли карандаша или пера?
Женщины закопошились. Стали шарить. Ни того, пи другого не оказалось.
– Да вот у жильца, – сказала Ольга Михайловна. – Пожалуйте!
– Лучше вынесите сюда. Я его обеспокою…
– Ничего, – возразила она и отворила дверь в комнату жильца. – Пожалуйте!
Посетитель вошел. Первый предмет, поразивший его глаза, был молодой человек, которого лицо показалось ему знакомым.
– Гриша! – воскликнул он, стараясь рассмотреть лицо молодого человека, который поспешно отвернулся. – Гриша!
Видя, что нет возможности скрыться, молодой человек повернулся к посетителю и сказал:
– Павел Сергеич!
Затем с минуту они ничего не говорили. Тавровский рассматривал с любопытством комнату Гриши: она была бедна; мебели в ней было только: кровать, стол и стул. На окне стоял чайник, крышка которого была опрокинута; в ней лежало немного чаю; подле, на синей бумаге, несколько кусков сахару; тут же табачная зола и сапожная щетка. Один палец Гриши был весь в чернилах, и неподалеку лежал сапог, от которого висела к полу белая нитка с иголкой; только глаз, приученный к картинам бедности, мог разгадать соотношение пальца, вымаранного в чернилах, с этим сапогом. Гриша за минуту зашивал свой сапог и закрашивал белые швы чернилами. Покуда Тавровский делал быстрый обзор комнаты, Гриша стоял в смущении, с поникшей головой.
Тавровский быстро затворил дверь и обратился к Грише:
– Скажи, пожалуйста, какие причины заставляют тебя жить так, когда у тебя есть тетка, издерживающая десятки тысяч на содержание людей, совершенно ей посторонних? Когда, наконец, у тебя есть родственники, которые, ты знаешь…
– Слишком долго рассказывать, – перебил его Гриша, – да и бесполезно.
– Я понимаю, – продолжал Тавровский, – что у тебя могли быть неприятности с тетушкой; с ней мудрено ужиться; но что же я сделал против тебя? Гриша! – прибавил он с чувством. – Неужели ты не веришь, что я готов сделать для тебя всё, что я тебя люблю, что помочь тебе будет для меня счастием…
– Я никогда не сомневался в этом, – сказал Гриша.
– Ты говоришь: не сомневался, а между тем даже не побывал у меня; с той самой поры, как я воротился из деревни, я даже не знал, где ты находишься. И тебе не хотелось увидеть меня? Или ты не любишь меня, Гриша, и ни во что считаешь мою дружбу…
– Я очень верю, – сказал Гриша и остановился: его затрудняла фамильярность Тавровского, тогда как он сам чувствовал непобедимую неловкость отвечать ему прежним тоном товарищества. – Я очень верю тебе и твоей дружбе, – наконец сказал он с усилием. – Но наши дороги слишком различны в жизни, и лучше будет оставить всё, как оно есть…
– Но отчего же? – возразил Тавровский. – А наконец, если ты горд, так горд, что считаешь обидным пользоваться помощию даже своего друга и родственника, то всё же нет надобности терпеть такую нужду, какую ты терпишь: у тебя есть собственный капитал…
В лице Гриши выразилось болезненное чувство. Заметив его, Тавровский сказал:
– Если тебе тяжело самому говорить с тетушкой, поручи мне: я вытребую…
Гриша махнул рукой.
– Лучше оставить всему идти своим чередом! – сказал он с отчаянием.
– Да что с тобой, Гриша? Какие ты вещи говоришь? Что за охлаждение к жизни в двадцать лет? Что за отчаяние? Ты болен, ты в хандре, у тебя кровь застоялась. Тебе нужны балы, карты, музыка, освещение; пей, повесничай… попробуй взять приз на скачках, влюбись в актрису… Или ты всё еще влюблен в свою Настю? – спросил вдруг Тавровский, нечаянно вспомнив старую страсть своего родственника.
При имени Насти лицо Гриши слегка изменилось; но он ничего не отвечал.
– А если и так, то чего же зевать? Сидя здесь, в четырех стенах, в таком соседстве, ровно ничего не высидишь. Они могут, – прибавил Тавровский, вспомнив сальные карты, которые видел у старух, – пожалуй, предсказать и богатство, и счастье, и успех у червонной дамы или у какой угодно, а действительный успех всё-таки не так добывается. Я согласен, Настя стоит, чтоб по ней с ума сойти… по-моему, впрочем, не более как на неделю, – оговорился он. – Я сам недавно ее видел и признаюсь…
– Ты ее видел недавно? – с живостью спросил Гриша лицо которого вдруг вспыхнуло. – Разве она здесь?
– Здесь, – отвечал Тавровский.
– Одна? с отцом? отец жив? – быстро спрашивал Гриша.
– Жив.
– Что они, как живут? старик здоров?
– Здоров; я их видел, признаться, мельком, – неохотно отвечал Тавровский и переменил разговор.
Он доказывал Грише, что такой образ жизни никуда не годится, и вызывался помочь ему в чем угодно и сколько угодно. Гриша не слушал его, занятый мыслию о Насте, и машинально дал ему слово быть у него, которого Тавровский непременно требовал.
Оставшись один, Гриша принялся скорыми шагами ходить по комнате.
Гриша был человек с необыкновенной энергией и замечательным характером. Услышав роковое решение Понизовкина, что дочь его никогда не будет принадлежать родственнику Натальи Кирилловны, Гриша составил следующий план. «Старика оскорбил не я, – думал он, – его оскорбила тетушка подозрением в умысле поймать в свои сети зятя, которому она оставит состояние. Это единственная причина, почему он объявил, что дочь его никогда не будет моею женою. Лично же против меня он не может иметь ничего и не имеет. Потом он горячо любит Настю, а Настя любит меня. Стало быть, если я сам проложу себе дорогу в жизни, приобрету положение в свете, средства к существованию без помощи протекции и денег тетушки, с которою даже прерву всякие сношения, то старик уже не будет иметь причины противиться нашему счастию». На основании такого рассуждения Гриша даже был рад, когда тетушка выгнала его из дому и он очутился лицом к лицу с бедностию и неизбежной перспективой труда и лишений; он так был тверд в своем намерении, что даже не хотел пользоваться помощью и других своих родственников; таким образом случилось, что Гриша не побывал ни разу даже у Тавровского. Скоро, однако ж, он увидел, что проложить дорогу в жизни собственными усилиями не так легко, как думалось ему прежде. Но он твердо шел к своей цели.
Гриша помнил свое обещание, данное старику, не искать случаев видеться с его дочерью и с юношеской верой в неизменность своей любезной решился держать слово, пока не будет вправе нарушить его, – но, узнав, что Настя в Петербурге, он не мог устоять против желания увидеть ее. В тот же день вечером отправился он в квартиру Тавровского, вызвал потихоньку Петра и узнал адрес Насти.
С того вечера начались его беспрестанные прогулки мимо дома, в котором жил Понизовкин. Но он делал их так осторожно, что даже Настя долго не замечала его, хотя ему не раз удавалось видеть ее в окне. Случая поговорить с Настей, однако ж, не представлялось. Гриша не мог и думать о дерзком покушении войти к Насте в отсутствие Ивана Софроныча. Настя же никогда не выходила со двора одна. Гриша замечал, что Иван Софроныч постоянно печален, что походка его всегда озабоченна и лицо бледно; он также видел, что Настя частенько подносила платок к глазам; нетерпение узнать причину их горя мучило юношу. Счастлив был тот день в его жизни, в который Настя наконец заметила его. Это было под вечер. Иван Софроныч, как всегда грустный, вышел со двора. Настя открыла окно и печальным взором провожала отца. Уже готовая закрыть окно, она случайно взглянула на противоположную сторону улицы. Как изменилось в одну минуту лицо Насти! как испугалась и вместе обрадовалась она! Гриша понял, что дело его еще не проиграно: в первом движении, в первом, еще безотчетном, взгляде Насти увидел он столько любви, столько радости! Они обменялись долгим взглядом; потом Настя быстро захлопнула окно, сделав отрицательное движение рукой, и Гриша в тот вечер уже не дождался ее вторичного появления. На другой день Гриша приготовил письмо, описал в нем свои планы и то, каким образом надеется переменить решение Ивана Софроныча, уверял ее в своей любви и умолял доставить ему случай говорить с ней хоть одну минуту. «Мне теперь нужно много твердости, и одно твое слово, что ты любишь меня, что ты будешь ждать и надеяться, – придаст мне силы», – так заключил Гриша свое послание, приложив к нему адрес свой, хоть и не смел надеяться ответа. Не скоро представился случай вручить его по адресу. Наконец однажды, когда Иван Софроныч ушел со двора, а Настя сидела у окна, Гриша собрался с духом; он перешел улицу; поравнявшись с окном, бросил Насте записку и быстро прошел мимо.
Настя прочла письмо и, закрывая окно, сказала одно слово, которое поразило бедного Гришу в самое сердце:
– Невозможно!
Прошло несколько дней. Гриша уже терял всякую надежду говорить с Настей; каждый день решался он прекратить свои прогулки и каждый день в последний раз приходил к знакомому дому. Однажды вечером, продежурив около него несколько часов, он уже хотел идти домой, как вдруг Настя, в своем черном бурнусе и соломенной шляпке, показалась в воротах.
Сильно забилось сердце Гриши, когда он уверился, что Настя одна. Не заметив его, девушка быстро пошла по тротуару. Она была видимо озабочена.
– Настя! – тихо сказал Гриша, следуя за ней. Настя не оглянулась, но сделала такое движение, что Гриша убедился, что она узнала его голос.
Через минуту Гриша повторил свое восклицание. Настя опять не оглянулась и не отвечала.
– Вы узнали меня? Вы сердитесь? Скажите одно слово! Вы прикажете мне уйти? – такими вопросами осыпал Гриша Настю.
Она молчала.
– Скажите мне ответ. Я вам писал…
– Скажу, – произнесла Настя, не останавливаясь, – если вы обещаете тотчас уйти, ничего не говорить и больше не приходить к нашим окнам.
– Обещаю, всё обещаю! – воскликнул Гриша.
– Тише!
Настя переждала нескольких пешеходов, шедших им навстречу, и потом с большими паузами сказала, не оборачиваясь и продолжая быстро идти:
– Я вас люблю – я никого больше не буду любить – буду всегда вас любить – вы хорошо придумали обойтись без тетушки – не пишите больше. Идите!
Едва Настя произнесла последнее слово, как Гриша уже бежал в противную сторону с такою быстротою, как будто услышал смертный свой приговор, которого мог избегнуть только с помощью быстроты своих ног. И только прибежав домой, он пожалел, что так строго послушался приказания девушки. «Если она меня любит, она, верно, не рассердилась бы», – думал он. Ничего не может быть послушнее человека влюбленного, если он молод, любит в первый раз и любовь его искренна…
Глава LVIII
Коломенский крез
Может быть, в другое время Настя не так была бы довольна покорностию своего любезного; но в тот вечер Ивана Софроныча колотил озноб; Настя торопилась в аптеку купить малины, чтоб поскорей напоить старика и уложить. Она боялась, чтоб он не расхворался. К счастию, меры, принятые ею, удались: старик спал хорошо и проснулся здоровехонек, – так по крайней мере он уверял свою дочь.
В последнее время – именно со дня известной катастрофы – Иван Софроныч много изменился: тайная и тягостная забота видимо подавляла его ум и отражалась в его лице, постоянно грустном и болезненном. Остатки волос его, казалось, еще более поседели; глаза ввалились; голос лишился прежней силы и уверенности, в которой так много было достоинства. Казалось, в несколько дней он постарел десятью годами. Он сделался молчалив, редко шутил с Настей и еще реже говорил с ней о своих планах спокойной жизни, которые они прежде вместе строили. Настя заметила также, что старик сделался необыкновенно скуп, чего прежде за ним вовсе не замечала; он считал каждую копейку и поговаривал о перемене квартиры: теперешняя казалась ему дорога.
Часу в двенадцатом утра, когда Иван Софроныч читал, а Настя работала, у двери их вдруг раздался звонок. Вошел молодой человек и робким голосом попросил у Ивана Софроныча позволения поговорить с ним полчаса. Настя вышла в другую комнату.
Молодой человек имел довольно приятную наружность и находился очевидно в сильном волнении. Когда они остались одни и Иван Софроныч спросил его, что ему угодно, молодой человек сильно смутился и несколько минут молчал.
– Мой поступок безрассуден, – наконец сказал он нетвердым голосом. – Но я слышал, что вы добры. Вы сами были молоды; может быть, с вами тоже случались несчастия, и вы по крайней мере не перетолкуете моей просьбы в дурную сторону.
– Просьбы? – спросил Иван Софроныч. – Но чем же я могу вам услужить?
– О, можете! – перебил с уверенностию молодой человек. – Можете, но только захотите ли?
– Если будет возможно, – сказал старик, которому понравилось лицо молодого человека. – Но потрудитесь сесть; вы, кажется, очень встревожены.
– Да, я не спал с неделю, и если б вы знали, как я провел ее! Не дай бог никому испытать такого несчастья!
В глазах молодого человека показались слезы.
– Но что же такое случилось с вами? – спросил старик.
– Я вам расскажу всё, – отвечал молодой человек, – потому что на вас моя единственная надежда. Если вы не войдете в мое положение, если мне не помогут, не дадут средства спасти мое честное имя, мою будущность и будущность существа, которое мне дороже жизни… о, я не знаю, что с собой сделаю!
И он в отчаянии обхватил свою голову руками и несколько минут молчал.
– Вам странно, – наконец сказал он, собираясь с силами, – вам смешно, может быть, что к вам, человеку совершенно незнакомому, пришел я изливать свое горе, просить помощи. Но я сирота; я никогда не знал отца, я лишился матери, когда еще едва начинал ходить… о, я самое несчастное существо в свете!
Понизовкин почувствовал глубокое сожаление к бедному молодому человеку. В то же время любопытство его было сильно возбуждено, и он спросил:
– Но какое же несчастие случилось с вами? кто вы? чем занимаетесь?
– Меня призрел из сострадания человек посторонний, который заменил мне отца. Трудом, бережливостию, покорностью старался я отплатить ему за его благодеяние; наконец я приобрел его доверенность; он вверился мне, как родному сыну… И я обманул его ожидания! Видит бог, я ни в чем не виноват, – продолжал молодой человек после минутного молчания. – Но поверит ли он? И не всё ли равно? Он сам обременен семейством; всё, что имеет он, нажито неусыпным трудом, бережливостью, многими пожертвованиями… И вдруг такая потеря! Нет, нет! я не могу отплатить ему такою черною неблагодарностию!
– Но кто же был причиною вашего несчастия?
– Кто? – сказал молодой человек. – Кто? я сам не знаю!
– Странно! – заметил Понизовкин, которого недоумение возрастало с каждым словом молодого человека. – Но в чем же состоит ваше несчастие?
– После многих лет труда, лишений, терпения и совершенной безнадежности в будущем мне вдруг улыбнулось счастье, – отвечал молодой человек. – Благодетель мой дал мне важное поручение: оно должно было быть пробой моего усердия, моей преданности к нему, моих способностей. Исполнив его хорошо, я мог надеяться получить у него хорошее место, хорошее жалованье, упрочить свое положение и улучшить судьбу бедной девушки, которая еще несчастнее меня и которую я люблю!
– Но что же помешало вам?
– Деньги, которые я должен был передать одному купцу, по поручению моего благодетеля, – с отчаяньем отвечал молодой человек, – эти деньги…
– Вы проиграли их?
– Нет, их у меня украли!
Он замолчал и закрыл руками свое лицо. Несколько минут продолжалось молчание.
– Очень, очень жалею вас, – сказал наконец Иван Софроныч, – но кроме дружеского участия и сожаления… что же еще могу я сделать для вас?
– О, можете! – воскликнул молодой человек. – Но захотите ли?
Иван Софроныч был так тронут его горестию, что обещал сделать всё, что будет в состоянии. И обещание его было искренно.
– И вы не шутите?
– Я никогда не шучу такими вещами, молодой человек, – строго отвечал старик.
Лицо молодого человека просияло.
– Но ведь сумма довольно большая, – сказал он. – Сорок тысяч!
– У вас украли сорок тысяч? Очень, очень жаль, – сказал старик, качая головой.
– О, если вы дадите мне средство возвратить их моему благодетелю, моя карьера, моя честь будут спасены!
В лице Ивана Софроныча выразилось величайшее удивление.
– Так вы их просите у меня? – спросил он.
– Да, и клянусь вам, возвращу в несколько лет! – с жаром отвечал молодой человек. – А благодарность моя…
Иван Софроныч невольно посторонился: ему пришла мысль, что перед ним стоит сумасшедший. Он молчал.
– Так вы согласны?
– Да помилуйте! – сказал старик. – Если б я и хотел, то каким же образом я могу дать вам сорок тысяч, когда у самого нет…
– У вас их нет? – недоверчиво спросил молодой человек.
– Нет.
Лицо молодого человека снова помрачилось.
– Последняя надежда пропала! – сказал он плачущим голосом. – И вы не хотите помочь несчастному? Но вы сами дали слово…
– Я дал слово сделать, что могу; но денег у меня нет.
– Нет? – повторил молодой человек иронически. – Полноте! Или вы боитесь потерять их? клянусь вам, они не пропадут. Я беден, но я могу и умею трудиться. Я вам дам документы…
Иван Софроныч уже решительно убедился, что имеет дело с помешанным, и думал только о том, как бы поскорее выпроводить своего гостя.
– Охота вам, почтеннейший, – сказал он, переменив тон, – тратить время, прося денег у человека, который сам едва перебивается, тогда как есть столько богачей, которые, может быть, и сжалились бы…
– Вы еще смеетесь надо мною? – возразил молодой человек таким болезненно-грустным голосом, что сердце сжалось в груди доброго старика. Он усомнился в своем предположении. – Я не имею никакого права на ваши деньги, – продолжал молодой человек, – к чему же напрасная ложь? Вы уже стары, и не лучше ли прямо и решительно сказать, что не хотите помочь…
– Уверяю вас, – отвечал Иван Софроныч, – вы внушили мне такое сострадание, что я, может быть, и дал бы вам эту сумму, если б имел; но я не имею.
– У вас есть больше, – возразил молодой человек с полным убеждением. – Я знаю наверное.
– Но откуда же вы знаете? кто вам сказал такую нелепость?
– Нелепость! – иронически повторил гость. – Если хотите, я вам скажу, как я узнал: рядом с вами живет мой приятель, такой же бедняк, как и я; он однажды не спал ночь, занимаясь перепиской, и слышал собственными ушами, как вы, возвратясь домой, сказали своей дочери, что выиграли триста пятьдесят тысяч!
– А, так вот что! – произнес Иван Софроныч.
– И не один Гарелин, – продолжал гость, – весь ваш дом, вся Коломна говорит теперь, что у вас огромный капитал. Болтуны, разумеется, преувеличивают: утверждают, что вы миллионер; но Гарелин знает истину…
– Боже мой! Боже мой! – повторял Иван Софроныч, качая головой. – Какое заблуждение!
Теперь только он начал понимать, почему с некоторого времени и дворник, и хозяйка, и жильцы оказывали к нему глубочайшее почтение, низко кланялись при встрече, умильно глядели и предлагали свои услуги.
– У меня нет никого ближе Гарелина, – продолжал гость. – Когда случилось со мной несчастие, я приехал прямо к нему и рассказал всё. Оставалось еще десять дней, которые я мог не являться к своему хозяину, не опасаясь возбудить подозрения, и мы решились употребить их на то, чтоб приискать деньги. Три дня мы бегали и хлопотали, наконец потеряли всякую надежду; тогда Гарелин рассказал, что рядом с ним живет человек, который имеет огромный капитал, и мне пришла глупая мысль попросить у вас… Но теперь я вижу, как она была безумна…
– Понимаю, всё понимаю! – сказал печально старик. – Да, я точно выиграл триста пятьдесят тысяч. Но, уверяю вас, молодой человек, выиграл другому…
Читатель знает, что Понизовкин говорил правду; но молодой человек не верил. Он всё еще не желал расстаться с надеждою получить деньги и продолжал умолять.
– О, помогите, помогите мне! – говорил он в отчаянии, упав к ногам Ивана Софроныча. – Куда бережете вы свои деньги? Вам достались они так легко, вам послало их счастье, – и вы не хотите отделить ничтожной суммы, чтоб спасти погибающего человека! О, помогите! Спасите мою честь, мою карьеру, мою будущность, спасите девушку, которую я люблю! О, если б я мог представить вам надежные доказательства, что деньги будут возвращены, – знаю, вы тогда не отказали бы! Но я не имею никаких драгоценностей, я не имею ничего, кроме маленького портфеля, который… – молодой человек достал с груди своей небольшой портфель и с жаром поцеловал его, – который для меня дороже всех драгоценностей, потому что в нем хранятся волосы и медальон моей матери, письма отца… Но какую цену он может иметь в ваших глазах?.. О, клянусь вам – этими единственными памятниками, оставшимися после моих родителей, – я возвращу деньги! клянусь вам моей матушкой, памятью моего отца, честного воина…
– Ваш отец был военный? – перебил его Иван Софроныч, которого участие к молодому человеку при этом известии удвоилось.
– Я никогда не знал его, даже не видал; мать говорила, что он умер, когда я родился. Может быть, он даже никогда не назвал бы меня своим сыном, потому что мать моя не была обвенчана… Но я помню, как мать учила меня молиться и поминать отца: «Помяни, господи, храброго воина, на войне погибшего, раба божия Александра…»
– Александра? – повторил Иван Софроныч, невольно вздрогнув. – А ваше имя?
– Генрих.
– Фамилия?
– Кнаббе.
Иван Софроныч подумал с минуту и спросил:
– Известна ли вам фамилия человека, которого вы почитаете своим отцом?
– Мать никогда не говорила мне ее; когда она умерла, я нашел в бумагах письма его к ней, но под ними подпись была так неразборчива, что я никак не мог догадаться.
– Можете ли вы, – сказал с особенной важностью Иван Софроныч, – можете ли вы, молодой человек, показать мне эти письма?
– Но для чего? – возразил молодой человек, которому видимо не понравилось желание старика. – В них нет ничего интересного для вас. Я храню их как святыню и думаю, что их не должно оскорблять посторонним прикосновением. В них самые задушевные, дружеские излияния чувства, которое связывало их. И притом они писаны по-немецки, – прибавил молодой человек, как бы в извинение своего отказа.
– Так ваша мать была немка? – снова и заметнее прежнего вздрогнув, спросил Иван Софроныч.
– Да, она была немка.
– Ее звали Каролиной? – сказал он.
– А вы как знаете? – с удивлением спросил Генрих.
Понизовкин погрузился в глубокое размышление, которое продолжалось несколько минут.
– Именем бога, молодой человек, – наконец воскликнул он умоляющим голосом, – именем бога, я прошу вас показать мне их!
Молодой человек не решался.
– Дайте их, дайте! – нетерпеливо повторял старик. – Я узнаю в одну минуту!
– Но что вы можете узнать?
– Бог, которого пути неисповедимы, часто выбирает самые ничтожные случаи орудием к открытию тайны, которой не могли разъяснить никакие человеческие усилия! – сказал торжественно Иван Софроныч. – Не противьтесь же его воле! Дайте письма…
Голос старика был так повелителен, что молодой человек невольно повиновался. Он раскрыл портфель и стал выбирать письма.






