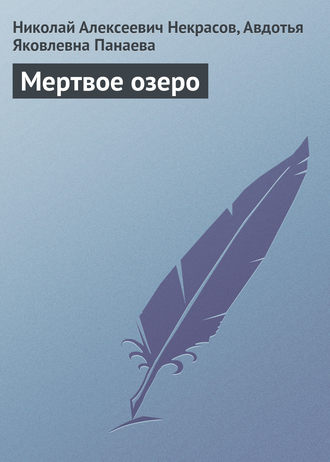
Николай Некрасов
Мертвое озеро
И он замолчал, сделав снова дочери знак, чтоб она не говорила и не шевелилась.
Сам же он с той самой минуты, как она пришла, стоял всё в одном положении – неподвижно. Правая нога его стояла на полу, левая, несколько выдвинутая вперед, – на ковре, лежавшем у постели; он был в подержанном вицмундире своего полка, без эполет, застегнутом наглухо; бледное лицо его, вставленное в рамку седых всклокоченных бакенбард, выражало чуткое, сосредоточенное внимание; глаза были постоянно устремлены на больного. Настя стояла подле него, несколько сзади, и тоже внимательно и грустно смотрела на больного.
Прошло еще несколько времени тихого ожидания. Из соседней комнаты снова послышалось громкое храпенье Савелья. В лице Ивана Софроныча мелькнуло выражение досады и упрека. Он, однако ж, не пошевелился.
– Слышите, как храпит Савелий, – тихо сказала Настя.
– Тс!.. слышу! Эх, Савелий, Савелий! не ожидал я от него этого! – прошептал Иван Софроныч.
И опять оба они хранили глубокое молчание, которое можно было сравнить только с спокойствием и неподвижностью больного, лежавшего всё в том же положении.
Настя с трепетом прислушивалась к жужжанью мухи, которая билась об стекло с какой-то безумной суетливостью; смотрела на свечу и на черное пятно, окруженное светом, отражавшимся на низком потолке, и поминутно мелькавшее. Тоскливость овладевала ею более и более.
– Долго ли мы будем так ждать? – спросила она, чувствуя смертельную ломоту во всем теле.
– А вот когда очнутся его высокоблагородие да спросят, – отвечал Иван Софроныч, – тогда и перестанем.
– Да спросят ли они? – простодушно возразила Настя.
Смущение, гнев, ужас выразились в лице Ивана Софроныча. Он с таким негодованием посмотрел на свою дочь, что Настя вся задрожала и, будто уличенная в преступлении, пугливо прошептала:
– Папенька! я так только сказала.
– Так! – возразил Иван Софроныч с каким-то судорожным беспокойством. – И так не надо говорить пустяков. И кто тебя просит говорить! – продолжал он с гневом. – Молода еще, глупа еще, чтоб соваться не в свое дело…
– Тише, папенька! он, кажется, шевелится, – сказала Настя, которой в самом деле показалось, что больной пошевелился.
– Шевелится! Ну, видишь – пошевелился! – с живостью подхватил Иван Софроныч, и глаза его впились в больного.
Больной, однако ж, лежал по-прежнему неподвижно, и как ни всматривался Иван Софроныч в лицо и во всю фигуру его, не мог открыть признака движения.
– Ты точно слышала, как он пошевелился? – спросил Иван Софроныч Настю.
– Кажется, – отвечала Настя.
Иван Софроныч рассердился.
– Дура! – прошептал он. – Ведь слышала, что пошевелился? слышала?..
Он ждал ответа. Настя кивнула головой.
– Так чего ж тут: кажется! нечего и говорить: кажется!
Он стал снова всматриваться в больного, и новое, сейчас только сделанное открытие поразило его: как он ни прислушивался, он не мог услышать дыхания больного. Это открытие вызвало на лице Ивана Софроныча выражение минутного ужаса, которое потом сменилось выражением досады, вероятно относившейся к Савелию, которого храпенье постепенно усиливалось.
– Слышишь, как он дышит? – спросил Ивая Софроныч дочь свою.
– Слышу, – отвечала запуганная Настя.
Иван Софроныч вздохнул свободнее.
Между тем другие мысли теснились в голове девушки, которая вся трепетала, проникнутая смутным ужасом. Полумрак комнаты, неподвижное, бледное лицо больного, глубокая тишина, нарушаемая только досадным храпеньем Савелья, – всё пугало ее и настраивало к унылым мыслям. Всматриваясь в лицо больного, она постепенно поражалась более и более его неподвижностью, безжизненной бледностью и тем строгим, пугающим выражением, которое сообщается лицу смертью. Чем более она всматривалась в лицо больного, тем более находила она в нем сходство с холодным, суровым, неподвижным лицом своей бабушки – единственного существа, которого смерть случилось ей видеть. И чем более думала она о своей бабушке, припоминая ее лежащую в гробу и потом отпеваемую в церкви, тем страшнее и страшнее становилось ей и тем неотвязнее преследовала ее мысль, что Алексей Алексеич также уж умер и даже холоден, как и бабушка. И воображению Насти он уже представлялся в тех самых положениях, в каких она видела свою покойную бабушку в последние дни, до той минуты, как положили ее в могилу и стали засыпать землей. Настя дрожала, и когда наконец страшная мысль совершенно овладела ребенком, она не могла долее противиться ужасу и, невольно оборотившись к отцу без прежней осторожности, громко произнесла:
– Папенька! да ведь он умер.
Невозможно описать ощущения, отразившегося в лице Ивана Софроныча при восклицании дочери, ни того судорожного негодования, с которым он обернулся к Насте. Казалось, он готов был ударить ее, и только страх нарушить покой благодетеля остановил его руку.
– Молчать! – прошептал он голосом, полным подавляющего негодования. – Да ты что, доктор, что ли? У матери выучилась вздор молоть. Молода еще, глупа еще! Вот нашлась умница! стариков учить вздумала! и что ты понимаешь? и кто тебе сказал? и где ты могла выучиться?
– Я видела мертвую бабушку. Она была точно…
– Бабушка! шутка ли, велика птица твоя бабушка! Тс!..
Слова дочери проникли в сердце Ивана Софроныча, как ни мало он, казалось, верил им. Ужас сделался постоянным выражением его лица, и в глазах его, устремленных на Алексея Алексеича, отражалось глубокое недоумение, – страшный вопрос, разрешения которого боялся сам Иван Софроныч.
Он и дочь, бледная и трепещущая, стояли в прежнем положении, храня глубокое молчание, когда в соседней комнате послышались тихие шаги. По шарканью башмаков можно было догадаться, что они принадлежали женщине. Тихо обернувшись к двери, Иван Софроныч увидел свою жену.
Соскучась по муже и дочери и удивленная долгим их отсутствием, она вздумала сама проведать, что они делают, и явилась, приодевшись предварительно и убрав свою голову. К чести ее должно заметить, что она никогда не показывалась в люди, как сидела дома, но всегда принарядившись, даже с излишней щепетильностью.
– Тсс!.. – сказал ей Иван Софроныч, положив палец на губы.
Она тихо подошла к нему и спросила:
– Что у вас тут такое? спит, что ли?
– Тс!.. спит! – отвечал Иван Софроныч. – Его высокоблагородие всё были в жару, а вот успокоились. Теперь, я думаю, скоро очнутся. Надо подождать.
Федосья Васильевна присоединилась к ним и стала всматриваться в больного.
– Софроныч! – сказала она. – Да ты никак с ума сошел? Ведь он просто умер… уж, чай, и похолодел!
Иван Софроныч помертвел.
– И ты туда же? – грозно прошептал он. – Эх, язык, бабий язык! – Он силился улыбнуться, а между тем холодный пот выступил у него на лбу. – Недаром говорится: волос долог, да ум короток… Ха-ха! И кто тебя просил сюда!
Пока он говорил, Федосья Васильевна продолжала всматриваться в больного, наконец подошла к нему, пощупала рукой и воскликнула:
– Ну так и есть: холоднехонек! Ах ты, батюшка, благодетель наш!
И она зарыдала.
– Прочь! не беспокоить его высокоблагородие! – страшным голосом закричал Иван Софроныч, бросаясь к постели, чтоб оттащить жену.
– Батюшка! – закричала Настя, бросаясь тоже к постели. – Умер! умер!
Федосья Васильевна, поймав руку мужа, приложила ее к лицу покойника: оно было холодно как лед.
Иван Софроныч мучительно вскрикнул.
В комнате настала прежняя тишина.
Не вдруг, однако ж, поверил Иван Софроныч страшной истине: очнувшись через минуту, он стал всматриваться в покойника, ощупывал его, прислушивался к дыханию, – принес зеркало, приложил его ко рту больного – дыхания не было.
Когда наконец не было сомнения в ужасной истине, Иван Софроныч разразился таким воплем, такими рыданиями, что невольно вздрогнули все присутствующие. Долго рыдал Иван Софроныч над своим другом, благодетелем, командиром и однокашником (так называл он покойника, целуя и обливая слезами его холодное лицо). Наконец он очнулся, привстал с постели, и первый предмет, попавшийся ему в глаза, была Настя: потрясенная страшным событием и рыданиями отца, Настя, бледная и дрожащая, стояла на коленях перед образом, где тускло теплилась лампада, и молилась, клала земные поклоны, горько рыдая.
– Молись, – сказал Иван Софроныч, – молись, сиротка! умер такой человек, какого и не будет, сколько ни простоит свет. Царство небесное праведнику!
И сам он упал на колени подле дочери и стал молиться, горькими рыданиями сопровождая земные поклоны.
Все присутствующие тоже молились рыдая.
Даже Федосья Васильевна прослезилась непритворными слезами. Притворные – было у ней дело обыкновенное.
Глава XXXII
Завещание
История молодости Ивана Софроныча относится к давнопрошедшему времени.
«Родился я в селе ***, С – ‹й› губернии, того же уезда. До осьмнадцати лет жил в отцовском доме, пахал землю, помогал отцу в работах. По девятнадцатому году взяли меня в барский двор: парень был я видный и к тому ж грамотный, меня хотели приставить камердинером к старому барину, пообтесавши да пообразовавши. Ну и приставили. Да не прошло полугода, как со стариком приключился паралич, – умер и всех нас, дворовых, по завещанию, пустил на волю, да еще – царство ему небесное! – с награждением. Дали мне, парню молодому, триста рублей денег да всю одежду мою и пустили на все четыре стороны. Дело было глупое, неопытное; я и позамотайся, праздность полюбил, бражничать стал, хмелем зашибаться.
Хмель до добра не доводит: однажды, под веселую руку, я сошелся с волостным головой – и, слово за слово, продался в солдаты за волость. Брало меня потом раздумье, да голова не давал мне никогда одуматься: пей сколько душе угодно; пиво, мед, водка с утра до вечера! Я жил в селе словно гость, – красная рубаха, синий армяк, шляпа поярковая; к кому из мужиков не придешь, всякий рад, как родному, особливо, понимаете, у которых сыновья молодые дюжие парни. На руках носить рады! Девки тож знатные: не то чтобы в сарафанах да босиком, – нет! село богатейшее, городу не уступит; по праздникам все разоденутся по-немецки, платья ситцевые, с перехватцем, понимаете, оно и красиво, и смотреть хорошо. Просто словно не деревенские. Бывал я в Питере, и сами изволили бывать, в рассуждении вечера на Невском проспекте – ничего подобного! А как станут в круг да как запоют – что твоя малина: так по сердцу огонь и заходит… И все ко мне так и ластятся: „Иван Софроныч! без тебя нам и песни-то не поются; стань, кавалер, побалагурь, спой с нами!“ Да возьмут меня, да одна к себе, другая к себе, клянусь честью! Заложим, бывало, саней пар десять, с колокольчиками, с бубенчиками, – едем, песни поем!.. Веселое было житье, да прошло – наступили слезовые времена: голова съездил в город да и привез недобрую весточку – прием начался… Словно обухом в голову треснуло: ни веселье-то на разум нейдет, ни вино-то не пьется, даже на красавиц взглянуть не хочется… Заплакал я да и проревел целый день; мужики было меня поить: „Полно, батюшка Иван Софроныч, такой-сякой! что те приключилося?“ Куда! я с руками и ногами: „Не хочу вина! не надо вина – погубило оно буйную голову!“ Да и опять в слезы: крепко не захотелось из такого житья да на службу. Пришел голова, я бух ему в ноги: „Батюшка, отец родной; не надо мне твоей тысячи; пять лет тебе сам прослужу; только откупи“. – „Полно, Иван Софроныч, что на тебя пришло? Уж и бумаги ведь ты подписал, и начальство про тебя знает: дело вкруте, – где нам за тебя некрута другого найти? не глумися!“ Так говорил голова, а меня так злость и брала… Смолчал я, выпил вина, прикинулся, будто и ничего, а сам и думаю, как бы дождаться вечера. Пришел вечер – легли спать; я слез с печи, схватил топор да и драла из избы. „Была не была! отрублю палец, – думал себе. – Не станут долго думать – крикнут: затылок! – и баста!.. Только как отрубить? больно, чай, будет, страшно…“ Руки чуть шевелятся, словно деревянные, ноги подгибаются; то опущу топор ближе к пальцу, то отдерну опять, а сам так и дрожу, будто сверху льют на меня холодную воду ушатами. Прошло, чай, больше часу, а я всё стоял да маялся: в правой руке топор, левая на полене… Вдруг слышу шум в воротах: видно, дядя Степан домой идет, – как бы не увидал. Я спрятался, а потом вошел в избу, положил на место топор и лег: не спится! В голове так и стучит, сердце бьется. Думал, думал да и надумал. Старуха у нас в околотке жила – колдуньей ее звали; пошел я к ней: „Вот тебе десять рублей, пособи горю!“ Дала порошку какого-то: велела сделать порез на пальце, вот тут, на сгибе, и каждый день посыпать тем порошком. Палец скрючило в три дуги, любо поглядеть: не разгибается! день-два не присыплю – опять здоров, а как присыплю – словно деревянный, а уж как занывает, хоть плачь. Вот и пришел оный день, – явился я в прием; посмотрели, пообсудили да и прокричали: „Затылок!“ Я так обрадовался, что ног под собой не слышу… да, видно, уж господу богу было угодно, чтоб не даром я век свой загубил, чтоб государю да отечеству пользу принес! Его святое соизволение! Обрадовался я, а доктор подошел, так через четверть часа, да и говорит: „Ты, плут, не растравил ли чем рану, признайся: теперь уж всё равно в солдаты не годен, а не скажешь, так рука пропадет. Говори, пока помочь можно, присыпал чем-нибудь?“ – „Виноват, ваше высокоблагородие! – отвечал я спроста. – Был грех: немножко!..“ Доктор как закричит: „Лоб!“ Тут я спохватился, что плохо сделал, да было уже поздно… да оно и лучше вышло; и я теперь тому доктору, словно отцу родному, благодарен. Ну куда бы годился я, кабы не попал в службу, – так бы и зашатался, замаялся! Уж как кончилось всё, так стало гораздо мне веселее. Парень я был не то чтоб совсем погибший, а только блажной, и голова была на плечах – не корчага. Смекал дело. Начал я помышлять, как бы жить получше, да постепеннее, да внимание начальства приобрести… был я молодец бравый с виду, повел себя трезво, исправно, – так через год и попал в число солдат, выбранных в гвардию. Осьмнадцать лет служил я, сперва рядовым, потом ундером, видел всего – худого и доброго, был в сражениях, ранен не один раз, да, наконец, и сделал такое дело, что, как вспомню, душа радуется, что храбрости, да разуму, да удали хватило. Представили к офицерскому чину да и прикомандировали к вашему высокоблагородию…»
Так рассказывал и пересказывал сам Иван Софроныч свою историю благодетелю и командиру своему, Алексею Алексеичу, когда они подружились и мирно проживали в Овинищах. История остальной жизни Ивана Софроныча тесно связана с жизнью самого Кирсанова.
Главнейшим событием в ней была женитьба.
Иван Софроныч однажды ходил за грибами; в лесу встретил он несколько горничных девушек и неподалеку от них какую-то особу с палевым зонтиком, за которою бежали четыре черные моськи, до такой степени жирные, что, принимая в соображение стоявшие тогда жары, Иван Софроныч тотчас сделал заключение, что которая-нибудь из них непременно сбесится. Особа с черными моськами и палевым зонтиком показалась Ивану Софронычу весьма красивою, – правда, не первой молодости; но ведь и ему самому было уже за сорок! Кроме того, он счел ее весьма важною дамою, – вероятно, потому, что она корзинку свою наполняла мухоморами и другими грибами, негодными к употреблению, и притом с такою охотою, как будто ей за каждого мухомора обещано было по такой же кучке червонцев. Завидев Ивана Софроныча, черные моськи принялись страшно лаять. Особа с палевым зонтиком поспешила на выручку, разогнала их с большим жаром и, кивая головой и зонтиком Ивану Софронычу, несколько раз повторила: «Извините, извините!» Иван Софроныч был тронут такою любезностию и, чтобы чем-нибудь выразить свою признательность, набрал целую горсть мухоморов и поднес их особе с палевым зонтиком, говоря:
– Вот еще, сударыня, если смею помочь…
– Благодарю! – сказала дама, с восторгом принимая грибы в свою огромную корзину. – Я съем их за ваше здоровье!
– Не стоит благодарности! – отвечал Иван Софроныч, несколько удивленный намерением дамы.
Моськи снова с лаем окружили его, и дама с прежнею заботливостью начала удерживать и разгонять их.
– Проклятые собачонки! – сказала она. – Просто невозможно сладить с ними, точно бешеные!
– Бешеные? – повторил Иван Софроныч. – Вы думаете, сударыня, что они бешеные?
– О нет! – отвечала дама. – А вы разве заметили что-нибудь?
Иван Софроныч сознался в своих подозрениях.
– Вы меня пугаете! – сказала дама.
– Помилуйте! – произнес Иван Софроныч и замолчал.
Красноречие его совершенно истощилось; оставалось уйти, но уйти ему не хотелось: дама с палевым зонтиком сильно нравилась Ивану Софронычу. Наконец Иван Софроныч собрался с мыслями и сказал, что знает верное средство лечить бешенство, причем кстати рассказал, как третьего года вылечил бешеного быка, который целую версту преследовал мальчика в красной рубашке…
Но тут дама так вскрикнула, что Иван Софроныч замолчал и снова начал ломать свою голову, досадуя, что не находит в ней материалов к поддержанию разговора. Правда, предмет, которого они коснулись, далеко еще не был исчерпан. Случаи бешенства в то время повторялись в их стороне беспрестанно. Но после первого опыта о бешеном быке, имевшего такие плачевные последствия, Иван Софроныч не решался рассказать ничего подобного. Наконец счастливая мысль озарила его.
Не мастер был Иван Софроныч любезничать с дамами! Как образчик его любезности приводится здесь небольшой анекдот, который он обыкновенно рассказывал в таких случаях.
– А слыхали ли вы, сударыня, – сказал он, когда уже ничего не оставалось более, как уйти или немедленно начать говорить, – слыхали ли вы, сударыня, какое происшествие случилось в Ратневом лесу?
– Нет.
– Четыре крестьянские девки пошли, сударыня, сбирать грибы; вдруг им попадается медведь.
– Медведь!
– Не бойтесь! – поспешно сказал Иван Софроныч. – Случай забавный, но не страшный… Три девицы разбежались, а четвертую медведь как ударит своей лапой.
– Ай! – воскликнула дама и поднесла к носу флакон.
Моськи полаяли, она их усмирила.
– То есть не ударил, а только дотронулся до нее лапой, – продолжал Иван Софроныч, стараясь всячески смягчить свой рассказ, – А она, натурально, перепугалась и упала без чувств. Медведь взял ее и осторожно перенес в свою берлогу.
Дама ужаснулась.
– Не бойтесь, сударыня: право, не будет ничего страшного…
– А! понимаю, видно, не медведь, – с улыбкой сказала дама.
– Нет, сударыня, медведь и был настоящий медведь, только медведь необыкновенный. Как очнулась девушка, его в берлоге не было; вдруг слышит она, приходит он, подошел и протягивает к ней…
– Когти? – вздрогнув, воскликнула дама.
– …протягивает к ней лапу, а в лапе дубовые листья, а в листьях брусника…
– Брусника?!
– Да, сударыня, брусника, настоящая брусника, крупная, спелая, ягодка к ягодке. Он попотчевал ее брусникой, и когда она взяла и стала есть, вдруг пришли охотники, – продолжал Иван Софроныч, думая совершенно успокоить свою слушательницу, – ворвались в берлогу и убили…
– Убили! – воскликнула дама с ужасом. – Убили такого прекрасного медведя!
– Да, сударыня! – отвечал Иван Софроныч, совершенно спутанный испугом дамы, которая с таким жаром нюхала свой спирт, что глаза у ней покрылись слезами и ноздри начало подергивать кверху. – Убили его и освободили девушку.
– Но за что же они его убили? – с горестию воскликнула дама. – Может быть, он совсем был не медведь, а так, переодетый мужчина!
– Переодетый мужчина! – возразил удивленный Иван Софроныч. – В нашей стороне, сударыня, и не слыхано, чтоб люди переодевались медведями, даже о святках.
– Ах, вы не знаете, до чего может довести любовь!
– Справедливо, сударыня. Но только тот медведь был настоящий медведь: я сам ел его мясо…
– И вы не стыдитесь признаться в такой бесчеловечности! – воскликнула дама, пятясь и оглядывая его с таким ужасом, как будто он мог съесть и ее.
Иван Софроныч ясно увидел, что ему, с анекдотами своими, всего лучше скорей убраться домой, и осмелился только заметить в свое оправдание, что копченая медвежина чрезвычайно вкусна.
– Вы сами, сударыня, то же скажете, если попробуете.
– Я! – оскорбленным голосом воскликнула дама, отскакивая еще далее. – Я?… С чего вы взяли!
Иван Софроныч махнул рукой, как человек, убедившийся, что хуже и страшнее его невозможно срезаться, и молча стал раскланиваться.
К его счастию или несчастию, в то время подошли горничные с своими корзинами.
– Много набрали? – спросила их дама с палевым зонтиком.
Они показали ей свои корзины.
– Ну, немного, – сказала она. – Я одна набрала больше вашего, и какие славные грибы: большие, и все такие красные!
И она показала им своих мухоморов.
Горничные покатились со смеху.
– Ах, барышня, барышня! вот и видно, что вы не деревенского воспитания! да ведь вы набрали мухоморов… их не едят, да и есть ужасти как вредно…
Дама перепугалась и поспешно начала нюхать свой спирт. Толкнув корзинку так, что мухоморы рассыпались у ног Ивана Софроныча, и обратив к нему недовольное лицо, она презрительно сказала:
– На что же вы мне их дали?..
– Я полагал, сударыня… – начал Иван Софроныч, но собачонки в то время так к нему приступили, что он не договорил, отбиваясь руками и ногами.
Дама уже не защищала его. Иван Софроныч увидал, что всё потеряно для него, и удалился, внутренно проклиная свои анекдоты и свою недогадливость.
Собачонки долго провожали его свирепым лаем.
Весь этот день Иван Софроныч ходил не в духе и наконец к вечеру сознался во всем Алексею Алексеичу.
Наведены были справки: оказалось, что особа, встреченная Иваном Софронычем, была приживалка, состоявшая при богатой помещице, прибывшей провести лето в свои имения. И тут в первый раз пришла Алексею Алексеичу мысль, которую он не замедлил передать Ивану Соф-ронычу, заметив со вздохом, что много даром гниет разных женских нарядов, купленных ими в разное время. Эти наряды, можно сказать, главным образом решили участь Ивана Софроныча. Дело обработалось через деревенскую сваху, вхожую в дом богатой помещицы. Федосье Васильевне было уже за тридцать, и склонить ее к супружеству не стоило большого труда. Сама помещица приняла участие в устройстве своей воспитанницы; она была посаженой матерью, Алексей Алексеич – посаженым отцом. Свадьба была веселая и оживила несколько однообразную жизнь обитателей Овинищ. В первые дни как Иван Софроныч, так и Алексей Алексеич были довольны Федосьей Васильевной и, оставаясь одни, частенько повторяли с самодовольствием:
– Задели!
– Задели!
Что и значило: «приобрели славную хозяйку, которой нам недоставало». Но скоро сварливый, раздражительный и в высшей степени тяжелый характер Федосьи Васильевны начал обнаруживаться.
Детство и молодость свою провела она в Петербурге, подле богатой барыни, где богатство, роскошь, балы, поклонники – всё, что беспрестанно видела она и чего не суждено было ей испытать, – развили в ней огромные претензии, страшную требовательность, наклонность к нарядам, на которых она была помешана; деревенская жизнь казалась ей тюрьмой.
Приятели, однако ж, долго не сознавались друг другу, что дело плохо; наконец поговорили откровенно, произнесли оба, но уже не тем тоном:
– Задели!
– Задели!
И решились очистить отдельное строение под фирмою: «Остановись и Подкрепись», куда и была переведена Федосья Васильевна с новорожденной дочерью. Федосья Васильевна с того дня сделалась еще раздражительнее, хотя вывеска нового жилища и советовала ей «остановиться». И с той поры время шло в постоянной борьбе: Федосья Васильевна требовала, чтоб Иван Софроныч чаще находился при ней, даже не раз объявляла решительное намерение увезти его в Петербург, а приятели наши устраивали так, что Иван Софроныч почти с утра до вечера находился при Алексее Алексеиче: о поездке же в Петербург они и не думали. Так шли дела до самой смерти Кирсанова, которая повергла бедного Ивана Софроныча в глубокое отчаяние…
Печальны были, похороны Алексея Алексеича; не один Иван Софроныч рыдал, отдавая последний долг покойнику: плакала вся дворня и вся вотчина, любившая доброго барина, как родного отца. Похоронив своего благодетеля, Иван Софроныч слег: силы старика, истощенные душевными страданиями и многочисленными хлопотами, не выдержали; у него сделалась изнурительная лихорадка. Во всё время болезни Настя не отходила от постели своего отца, который частенько говорил ей, что ему не встать, да и вставать нет надобности, вследствие чего он даже отказывался принимать лекарство.
– Батюшка! батюшка! – рыдая, говорила Настя. – А я с кем останусь?
Слова эти тронули сердце Ивана Софроныча. В первый раз серьезно подумал он о будущности дочери, о страшном положении девушки, ничего не имеющей, лишенной даже средств к образованию. Настя была существо доброе и нежное, бесконечно любившее своего отца, – может быть, потому, что с детства она была свидетельницей частых семейных сцен, которые обыкновенно обрушивались на голову невинного Ивана Софроныча. Настя привыкла сожалеть о нем, внутренно всегда принимала его сторону, и скоро его доброта и терпение привязали к нему сердце дочери. Иван Софроныч также любил свою дочь; но он как-то мало думал о ней; чувство его разделено было между ею и другим существом, которому исключительно была посвящена заботливость Ивана Софроныча, поглощавшая всю его деятельность, всё время. Теперь это существо не нуждалось уже ни в чьей заботливости, и Настя одна, во всей беззащитности своей молодости, неопытности и бедности, стояла перед ним грустная, заплаканная и молила пожалеть о ней.
Иван Софроныч стал аккуратно принимать лекарство, не упоминал более о желании своем умереть и очень строго приказывал Насте беречься и не проводить ночи без сна у его изголовья. Наконец силы старика начали понемногу поправляться; но тут встретила его новая буря, которую он, а в особенности дочь его с ужасом предвидели. Как только начал он похаживать по комнате, на него накинулась с огромным запасом давно копившейся желчи Федосья Васильевна. Упреки посыпались градом и заключались обыкновенно тем, что более ничего не остается, как ехать в Петербург и пасть к ногам прежней ее благодетельницы. «Потому что твой-то благодетель (язвительно замечала Федосья Васильевна) как жил, так и умер: жил – ничего не давал, да и умер – ничего не оставил!..»
– Жил, так я сам не хотел брать, а умер, так уж не его воля, – кротко возражал Иван Софроныч. – Есть наследники… да и чего нам еще…
– Наследники! – подхватывала жена. – А вот жди, того и гляди, вон погонят наследники… Вишь, их наехало!
Действительно, наследников наехало довольно. Близких родственников у Алексея Алексеича не было, но тем более оказалось дальних, которых покойник и в глаза не видал. Почти все они явились налицо, несмотря на то что имение покойника было весьма незначительно; тихий домик Алексея Алексеича оживился странной деятельностью. Некоторые из наследников прибыли с детьми и женами своими, которые хотели непременно принять личное участие в дележе. Неизвестно почему, между наследниками распространился слух, будто после покойного остался значительный капитал, и Иван Софроныч был предметом всеобщего ужаса.
* * *
Мы пропускаем описание наследников, так как они входят в наш рассказ мимоходом, и передадим всю последующую сцену как можно короче.
* * *
В день вскрытия духовной все наследники, их жены и дети, а также и прислуга покойного, собрались в большой зале, наполненной сундуками, распространявшими удушливый затхлый запах, штуками толстого холста, образовавшими курганы; шубы и всякого рода платье, сбруя, инструменты, даже порожние бутыли и лекарственные склянки – всё было тут. Дома нельзя было узнать. Всюду торчали кровати разных величин; пыль не стиралась, полов не мели; дом походил на вдову, оплакивающую своего супруга и немытую, нечесаную со дня его кончины. Дворня суетилась, таскала сундуки и всякую рухлядь, немилосердно колотила стекло.
Наконец настал роковой час. Дрожа всеми членами, наследники уселись вокруг большого стола и вопросительно переглядывались, как бы желая прочесть в глазах друг друга свою участь.
Супруги наследников, окруженные детьми, сидели тут же.
Прислуга комнатная стояла около стены, также принимая живое участие в духовной. Окна, двери унизаны были головами остальной дворни. Все были в напряженном состоянии, все хранили молчание; дыхание, казалось, прекратилось. Но величественная тишина, воцарившаяся в комнате, далека была спокойствия: она походила на ту тишину в природе, которая предвещает бурю.
Душеприказчиками были два чиновника из уездного города. Когда они сорвали печать, трепет пробежал по зале; все превратились в слух. Вдруг музыка заиграла в кармане главного наследника. Все с ужасом обратились к неподвижному обладателю часов; пробило одиннадцать часов утра. Все снова устремили свои взоры на душеприказчиков, державших духовную в руках.
Началось чтение с аккомпанементом часов, которые как бы каждое слово подтверждали своим мерным боем.
Родовое имение, обремененное долгами, покойник оставлял законным наследникам, предоставляя им делиться по усмотрению; им же предоставлял он и всё свое движимое, кроме…
Движение общего испуга прервало чтение душеприказчика.
– Кроме, – продолжал он, переждав, – кроме ниже поименованного…
* * *
Всё волновалось и шумело; один Иван Софроныч, с больным и печальным лицом, безмолвно стоял в стороне, поддерживаемый Настей, одетой в черное платье. Федосья Васильевна, также вся в черном, сидела особо от всех и не совсем приветливо посматривала на волновавшихся дам.
Когда наконец волнение поутихло, душеприказчик продолжал чтение:
«Завещаю и прошу наследников моих свято исполнить нижеследующую волю мою, отдав по принадлежности всё нижеписанное:
1) Тарантас, заново отделанный, прочный и поместительный. При нем: запасных осей – две, зимний ход, на случай, если б пришлось ехать зимой; фартух кожаный новый; сундук под сиденьем, сундук в ногах, сундук наружный (должно привинтить сзади, для чего при сундуке имеются петли и пригнаны винты) – все три сундука новые кожаные; при них имеются замки; карманов внутри тарантаса – восемь; ‹кобур› около козел – продолговатых три; у крыльев – две (застегиваются пряжечками). Примечание: во внутренние карманы можно класть мелкие вещи, наиболее нужные в дороге; в кобурах у крыльев – бутылки; в длинных карманах – всякие мелочи и съестное.
2) Дорожный ящик, в нем же и погребец со всеми принадлежностями; складных ножей и вилок на трех, ложек три; чайник, чашки, ложечки; при них фунт чаю; тут же бритвенный прибор: бритвенница серебряная 84-й пробы, две пары бритв правленых. Примечание. Мыла не положено; мыла душистого греческого три куска спросить у кучера Вавилы и класть особо, чтобы чай не пропах.






