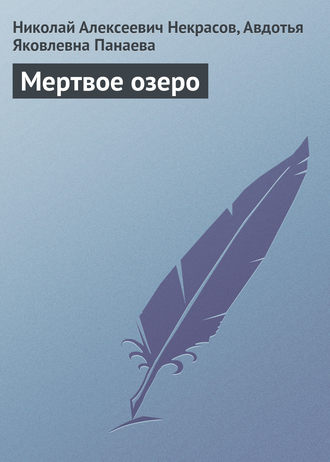
Николай Некрасов
Мертвое озеро
– Братец моей тетеньки! – крикнула она наконец и робко отскочила от дивана.
Спящий зашевелился и, промычав что-то, повернулся на другой бок. Потом он открыл глаза и, оглядывая комнату, остановил их на дочери, тревожно ожидавшей, что скажет ей братец тетеньки.
– А, это ты… шалунья?.. – заговорил он охриплым голосом. – Ишь какая!.. Ну, поди, поди сюда.
Саша подбежала и, припав к нему, положила свои руки на его плечи. Родитель, лежа, чмокнул ее в лоб, и девочка слабо вскрикнула, почувствовав, может быть, нежность первого поцелуя отца, а может быть, и щетины его небритой бороды.
– Здравствуй, здравствуй! – продолжал отец, привстав и отводя ее рукой от себя. – Так вот ты какая… ну хорошо. Ступай же к тете, а мне дай одеться.
Девочка вышла, потирая себе лоб, а приезжий начал раскладывать свою поклажу. Саша между тем наблюдала за ним из-за двери, посматривая на соблазнительную корзинку с мнимыми гостинцами. Бедняжка обманулась. В корзинке была фляжка с ромом, из которой приезжий тотчас же и употребил несколько глотков, потом были остатки поросенка, кусок сайки; но гостинцев не было. В чемодане оказались одна перемена платья и белья, несколько колод карт, трое карманных часов, четыре серебряные ложки; были и другие вещи, более или менее нужные и ценные, но не имевшие в глазах ребенка никакой цены. А гостинцев не было.
Небрежность отца к своей дочери происходила, впрочем, не от недостатка любви к ней, но от излишней заботливости упрочить свое и ее благосостояние; в постоянном стремлении к этой цели ему было не до гостинцев. За чаем он с участием спрашивал свою сестру о последних минутах жены, умершей шесть лет тому назад, что не мешало ему, однако ж, беспрестанно подливать себе рому в чай из дорожной фляжки. Делая вопросы, он в то же время вовсе не расположен был слушать ответы. Только что сестра, рассказывая о покойнице, коснулась какого-то проигрыша и продажи всего имущества покойницы, он тотчас остановил ее.
– Ну, полно же! – возразил он, бросив в досаде чайную ложку в стакан. – Сказал: отыграюсь – и отыграюсь! – и назвал сестру глупой женщиной, отчего та замолчала, приняв раболепный вид. – Ишь, дался вам мой проигрыш! – продолжал он, глотнув из стакана и откашливаясь. – А дело просто: умерла, как умирают, вот в всё! А то, вишь, проигрыш убил! Отчего ж он меня не убил? а я, ты думаешь, так и забыл всё. Нет, не было еще такого дня!
И, выпив залпом из стакана всё, что заключалось в нем, приезжий встал из-за стола и заходил по тесной комнате, задевая ногами за стулья.
– Поглядим, чем это кончится! – бормотал он про себя, сверкая красными, злыми глазами.
Наконец приезжий, успокоившись понемногу, выразил свою заботливость о дочери и бросил сестре на стол несколько ассигнаций. Заходила даже речь о будущей судьбе дочери, о ее воспитании, и хоть в эту минуту он не мог дать для этого денег, но изъявил надежду на будущее, сказал, что он в Петербург попал мимоходом, что он теперь на пути к одному выгодному месту на золотых приисках. Не прошло недели, как заботливый отец снова возился около чемодана, укладываясь в дальнюю дорогу, причем обнаружил к этой возке большой навык.
С тех пор Саша не видала своего отца, а тетеньке ее он писал сначала раз или два в год и высылал деньги на содержание дочери, не упоминая, впрочем, ни слова о роде своих занятий, а потом вовсе прекратил и переписку и высылку денег. Тетенька терялась в догадках и то мечтала что братец ее страшно разбогател на своем выгодном месте и по возвращении немедленно выстроит ей свой уголок, то вдруг ей представлялось, что он давно уже не существует на свете, – и тогда она принималась жалобно выть о своей судьбе и грызть свою племянницу, попрекая ее хлебом. Наконец она стала постоянно держаться той мысли, что братец ее или спился, или умер, и озлобленность ее распространялась даже на жильцов, которым она старалась наворчать при всякой услуге, следовавшей от нее по условию. Это было именно около того времени, когда произошла описанная нами встреча Генриха с Сашей у забора.
Генрих во весь тот день придумывал, как бы пособить скорее горю девочки. У Августа Иваныча, правда, число членов семейства доходило в то время до десяти, и швея была бы не лишняя в его доме, но скуповатость Августа Иваныча не давала надежды на успех. Притом же Генрих не был спокоен насчет обещанных мерок или выкроек. Но судьба помогла Генриху. Дня через два в газетах явилась публикация, в которой предлагалась девица, знающая шить и кроить по мерке, без всяких условий насчет платы. Август Иваныч, читая эту публикацию в кабинете, повторил вслух: без всяких условий насчет платы – и, обратись к Генриху, продиктовал ему адрес этой девицы и велел послать за нею. Обрадованный Генрих признался, что публикация была сделана им самим, и рассказал историю Саши и свою встречу с нею. Август Иваныч остался очень доволен своим добрым воспитанником, и через несколько дней Саша явилась в доме богатого фабриканта в новеньком ситцевом платьице и, как записная швея, с маленькою шкатулкою в руках, хорошо известною Генриху, который накануне подарил ее Саше, предсказав при этом случае, что будущая швея вместо игольников, наперстков и ножниц в самом непродолжительном времени наполнит ее деньгами. Впрочем, Генрих и сам плохо верил своему предсказанию, а говорил это только для того, чтобы скорее заставить тетеньку согласиться отпустить на место Сашу, которая заменяла ей во многих случаях работницу. С этой же целью Генрих, угадав слабую сторону тетеньки, проговорился даже, что Саша поступит в богатое и очень, очень щедрое семейство, – ложь, которую да простит ему читатель, уважив ее благонамеренность.
Прошло два года, но в шкатулке швеи не прибавилось ничего, а пустое место занималось, как и в день поступления Саши к Августу Иванычу, маленьким кипарисовым образом – благословением матери, клочком серебряных волос бабушки, завернутых в черный флер, и поминаньем в бархатном переплете. В поминанье прибавилось одно имя – имя тетеньки, которой не суждено было дождаться от братца своего уголка. В поминальные дни Саша, встав утром и помолясь богу в своей крошечной треугольной комнатке, садилась к шкатулке, целовала образок матери, прикладывала к губам седой локон бабушки, потом брала поминанье и, отпросившись у Шарлотты Христофоровны, шла в ближайшую церковь служить панихиду. Только в день именин отца она всегда затруднялась и не знала, что служить по нем: панихиду или молебен, – однако ж, служила молебен.
Что касается до Генриха, денежные обстоятельства его, с того дня, в который Август Иваныч сказал ему, что он «имеет жалованье», сделались едва ли не хуже. Жалованье только открыло ему кое-где кредит, которым он и пользовался, рассчитывая уже не на жалованье, а на вероятную прибавку. Короче, если при любви должен быть расчет, и расчет с обеих сторон, то Генрих и Саша, обладавшие равными средствами, казалось, были вполне достойны друг друга. Наружность и характеры их были в таком же равновесии. Лицо Саши, правда, не было особенно привлекательно и выразительно, посторонний нашел бы даже, что оно выражало доброе здоровье и больше ничего; зато лицо худощавого и бледноватого Генриха выражало всё, кроме доброго здоровья; и наружности их, таким образом, квитались недостатками и уравнивались достоинствами. Характером Саша в доброте и признательности тоже не уступала Генриху, к которому всегда была внимательна и ласкова. В туалетной шкатулке Генриха хранилось немало вещиц, подаренных Сашей в его именины…
Между тем Генрих приближался к узкому и кривому переулку, в котором жил приятель его Гарелин, бывший приказчик, а ныне живописец, как говорила и вывеска его, мелькавшая издали над воротами дома. Генрих сильно размахивал руками и широко шагал на своих жиденьких ногах, сгибая коленки, из чего ясно видно было, что воображение его работало не меньше рук и ног. Поручение Августа Иваныча возбудило в нем много надежд, которые волновали его более и более, по мере того как он живее и живее представлял себе все обольстительные подробности своего возвращения из деловой поездки, совершенное удовольствие Августа Иваныча, Шарлотты Христофоровны и всего дома фабриканта; за удовольствием Августа Иваныча следовало хорошее жалованье, за жалованьем… Но вот он наконец приблизился к дому с вывеской: «Живописец».
Глава LIII
Загородная прогулка
Весело вошел Генрих в комнату живописца. Здесь кроме Гарелина находилось еще трое молодых людей, отчасти знакомых и Генриху, а именно: ученик Гарелина, «вывескной живописец», обещавший сделаться со временем портретным живописцем, гравер и не избравший еще рода занятий сын ложного мастера (мастера, который делает и приделывает ложи к ружьям. Читатель найдет, может быть, не совсем правильным прилагательное ложный от ложи, но мы берем его прямо с вывески, изготовленной упомянутым вывескным живописцем). Компания стояла посреди комнаты с надетыми фуражками, а вывескной живописец в шинели, несмотря на жаркий день; сын ложного мастера держал на плече ружье.
– Вот кстати! – сказал Гарелин вошедшему Генриху. – Мы собрались на Расплёс (так называется место, где начинается взморье). Едем вместе!
Генрих рассказал о предстоявшей ему поездке из Петербурга по делу Августа Иваныча, прибавив, что пришел посоветоваться.
– Ну что ж! всё это не уйдет, а сегодня проведешь время с нами на воздухе. Дорогой поговорим и о деле. Едем!
– Я отправляюсь, господа, вперед по-прежнему, – сказал вывескной живописец и вышел.
Не нужно было много уговаривать Генриха, которому всегда нравились поездки с Гарелиным на острова. Он согласился, и компания вышла из комнаты.
– Браво, Генрих! – говорил Гарелин. – Смотри-ка, вернешься с хорошим жалованьем. Поручение важное!
– Важное поручение! – повторил гравер.
– На сорок тысяч – не шутка! – заметил сын ложного мастера.
Продолжая, таким образом, разговор, приятели дошли до моста и сошли по спуску на плот, где вывескной живописец укладывал уже в гичке закупленную дорогой провизию. Плотовщик, под надзором которого хранилась гичка, принес весла; приятели уселись по местам, и легкая гичка понеслась по направлению к Неве.
Через полчаса они подъезжали к Круглому острову, густо покрытому высоким кустарником. На острове этом собиралось, особенно в субботу на воскресенье, много бедняков, которые имели тут даровую дачу, а иные проводили в шалашах по нескольку дней сряду, – ловили рыбу, варили уху и привозили домой рыбы на целую семью, а на возвратном пути ловили щепки, дрова и всё, что плыло им навстречу из пригодного в хозяйстве. Остров с одной стороны огибала Бабья речка, куда съезжались женщины с окрестных дач купаться, отчего она и получила свое название; с другой – широко расстилалось взморье. В воздухе было тепло и тихо, издали доносился вечерний звон. По берегу мелькали местами огни; по временам кое-где слышалась песня или раздавался выстрел в кустах. На Бабьей речке раздавались крики нескольких женских голосов, вероятно встревоженных открытием нескромного наблюдателя из-за кустов.
Приятели наши, вытащив гичку на берег, расположились на небольшой площадке, окруженной кустарником. Сын ложного мастера, едва дошел до привала, немедленно растянулся навзничь и запел какую-то песню из всех сил, так что вывескной живописец, человек серьезный и спокойного характера, заметил:
– Эк его!
Генрих с вывескным живописцем стали раскладывать огонь; гравер вынимал из корзинки посуду и расстанавливал ее на доске, которая в гичке служила скамейкой, а теперь заменила стол. Гарелин между тем взял ружье сына ложного мастера и скрылся в кустах, где тотчас же раздался выстрел.
– Ишь, обрадовался! – заметил гравер, кивая на сына ложного мастера, который продолжал голосить. – Что выбрался из города, так и кричать надо!
– А может быть, и надо, – отвечал вывескной живописец. – Знавал я в детстве одного медведя; медведь был вскормлен в городе и смирный как теленок, а как пришлось вожатому вести его лесом, так заревел благим матом и стал порываться в лес: натура-то медвежья заговорила!
Но шутка не достигла до слуха ложного мастера, который не унимался и кричал, наконец, уже каким-то нечеловеческим голосом.
В кустах между тем раздавался выстрел за выстрелом, хотя стрелять было решительно не в кого, особенно в эту пору дня. Но Гарелину, очевидно, нравились одни выстрелы, без всякой определенной цели. Неизвестно после которого выстрела перед ним вдруг показалась из-за кустов сгорбленная фигурка с красным носом и красными глазами, в черном замасленном сюртуке и клеенчатой фуражке с трещинами.
– Милостивый государь! – заговорил незнакомец охриплым голосом и показывая пальцем на свой нос. – Вы попали мне в лицо!
Опухшее лицо незнакомца, и особенно нос, в самом деле были усеяны черными точками; но неизвестно, что они означали: угри или порошины, попавшие от выстрела, а потому Гарелин молча всматривался в лицо незнакомца, который повторил, горячась:
– Вы попали мне в лицо, говорю я! – И, сделав шаг вперед, он прибавил решительно: – Пожалуйте ваше ружье!
Гарелин прицелился ему в лоб. Ружье, впрочем, было не заряжено.
– Как! – возопил незнакомец, уклоняясь от дула. – Вы стрелять в меня! Покушение на жизнь! Хорошо, вы ответите, милостивый государь, прошу следовать за мной или отдайте ваше ружье!
– Прошу оставить меня и убираться прочь! – сказал Гарелин, опуская ружье.
– Нет, не пойду!
– А вот посмотрим! – возразил решительно Гарелин и снова прицелился в незнакомца.
Караул! – крикнул тот и юркнул в кусты, за которыми раздался хохот приятелей Гарелина, сидевших в кружок около шипевшей яичницы. – А вы что, господа! – обратился к ним незнакомец. – Человека убить хотят, а вы ни с места, да еще хохочете; он, видно, вашей шайки, а?
– Ваше здоровье! – отвечал ему гравер, который держал в эту минуту рюмку водки и выпил.
– Покорно благодарю! – вдруг сказал незнакомец, внезапно переменив обиженный тон на дружественный.
Хохот повторился.
– Вот это по-нашему, – продолжал он, потирая руки и посматривая умильно на штоф с водкой, – это по-братски! Вижу, что славные ребята. С места не встать, если я знал, что он из ваших! ей-ей не знал! А теперь вот выпью за его здоровье, право, выпью!
И фигурка засуетилась около штофа, повторяя:
– Налейте-ка, братцы, налейте!
– А ружье-то славное! – заметил сын ложного мастера. – Лепажевское!
– Опалил, злодей, ей-богу, пыжом опалил! Ну да – мир! кто старое помянет…
И, не договорив фразы, он с жадностью выпил залпом рюмку водки, которую подал ему гравер.
– Кто старое помянет, тому глаз вон! – прохрипел потом незнакомец, откашливаясь и махая дружески рукой Гарелину, который в то время присоединился к компании.
– Да уж если не удалось, так что ж делать: надо помириться! – сказал сын ложного мастера. – А ружье-то славное!
– Не за каждым кустом попадется такое! – прибавил гравер.
– Не смейтесь, дети, над стариком! – жалобно произнес незнакомец и попросил налить ему еще рюмочку, сняв фуражку, причем голова его представила несколько лысин, как будто они образовались вследствие потасовки, а не от влияния времени; в одной из лысин, повыше лба, виден был шрам.
Гарелин пристально начал всматриваться в незнакомца и, казалось, что-то припоминал, между тем как тот упрашивал:
– Еще рюмочку, братцы!
– Нет, ты скажи прежде, случалось ли тебе нападать здесь на такие ружья? – сказал сын ложного мастера, взяв ружье, из которого стрелял Гарелин.
– Да где же нападать, братцы, я ведь совсем не того… И в Петербурге-то недавно, да и опять уеду скоро, в ВВ уеду, откуда и приехал… Только поджидаю вот одного человека…
– Не его ли? – перебил сын ложного мастера, указывая на Генриха. – Он тоже едет в ВВ, да еще сорок тысяч везет… Вот тебе и попутчик! – прибавил он, обратись к Генриху.
При словах «сорок тысяч» глаза незнакомца быстро окинули Генриха.
– Именно! – заметил гравер. – Чем ждать, пока явится попутчик по газетам.
– Не смейтесь, дети! – снова проговорил жалобно незнакомец. – Езжал и я с добрыми людьми!
– Видим, видим, что человек бывалый, – отвечал сын ложного мастера, – рассказывай же, где бывал.
– Да где я не бывал!
– И в Сибири небось был.
– Был, ей-богу, и в Сибири был, дети! То есть не думайте, как был: на золотых приисках, и место было хорошее… да вот года два как воротился…
– Для того чтоб подсовываться здесь под выстрелы и обирать ружья! – перебил сын ложного мастера.
– Да перестань ты попрекать его ружьем! – вступился вывескной живописец. – Ружье да ружье! а старик, может, и не думал промышлять ружьями… ведь не думал? – спросил он у него.
– Истинно и не думал! – отвечал тот, приложив руку к груди.
– А! ну так ты думал, что по тебе здесь соскучились, – заметил иронически сын ложного мастера.
– Что ж, может быть, и было кому соскучиться, – произнес незнакомец, качая головой в раздумье. – Эх, братцы, горько вспоминать! – вдруг заговорил он с чувством, ударив себя в грудь. – Ведь у меня дочь здесь была… ехал я к ней с деньгами, да не довез… и ее не отыскал; да и ладно, что не отыскал (он махнул рукой)… а всё-таки взглянул бы теперь на нее хоть издали!.. Налейте, родные, еще рюмочку.
– Ты бы поискал ее хорошенько, – сказал сын ложного мастера, – да не здесь, не в кустах, а в городе.
Но ответа на это не последовало от незнакомца, который, проглотив еще рюмку, с наслаждением обсасывал губы и, казалось, не чувствовал уже ничего, кроме приятного ощущения, произведенного действием третьей рюмки, выпитой натощак.
Генрих хотел было спросить незнакомца, как звали его дочь, вспомнив историю детства Саши, но удержался, как бы боясь открыть в нем ее отца.
Затем налили себе по рюмке вывескной живописец и сын ложного мастера, который воскликнул:
– Да здравствует фабрикант Штукенберг и его сигары! Генрих! желаю всяких благ от его щедрот!
– Желаю успеха в поездке! – прибавил вывескной живописец.
И, осушив рюмки, приятели принялись за яичницу, забыв о незнакомце, который, сверкая красными глазами, старался не проронить ни одного слова из разговора приятелей.
Гарелин продолжал всматриваться в лицо незнакомца и наконец спросил его:
– А сколько лет тому как ты ехал на прииски?
– Десять, ровно десять, благодетель мой! – отвечал он скороговоркой, видимо обрадовавшись возможности продолжать разговор. – Много воды утекло! – прибавил он, настроиваясь на печальный тон.
– И много водки выпито! – перебил сын ложного мастера. – Оставь его, Гарелин: яичница простынет!
Но Гарелин продолжал:
– А этот шрам, что у тебя на голове, – ушибся, что ли?
– Нет, родной, не ушибся…
И незнакомец начал рассказывать о жестоком поступке с ним какого-то буйного молодого человека, с которым он встретился в трактире, на пути к золотым приискам, между тем как сын ложного мастера поминутно прерывал рассказчика обращениями к Гарелину:
– Охота же тебе слушать! наскажет он, пожалуй, с три короба! Ему, вишь, еще рюмочку хочется!
Несмотря на это, эффект трогательного рассказа, казалось, был несомненный: внимание Гарелина увеличивалось с каждым словом; голос рассказчика, размоченный водкой, уже не хрипел, а только дрожал приличным рассказу образом, как у опытного актера в роли благородного отца. Но вдруг, в самую чувствительную минуту, когда рассказчик указал пальцем на свой шрам, Гарелин яростно вскрикнул, стиснув зубы:
– Пррочь! пошел прочь!
И оп искал глазами, чем бы швырнуть в рассказчика, который что-то бормотал, озадаченный таким странным действием своей истории на слушателя. Наконец Гарелин схватил стакан, и незнакомец скрылся в кустах.
Приятели не узнали своего всегда спокойного товарища, который в эту минуту был страшно зол и бледен.
– Что с тобой, Гарелин? – спросили они в один голос.
– Что он тебе сделал? – с упреком сказал Генрих, которому стало жаль старика.
– Ничего не сделал! Он надоел мне – вот и всё.
– Ты бы хоть попробовал яичницы-то! – приглашал его сын ложного мастера.
Но Гарелин просил оставить его и пролежал всё время, не трогаясь с места.
На возвратном пути, однако ж, он первый заговорил о незнакомце.
– Тебе странно, – сказал он Генриху, – что я обошелся так с человеком, без того убитым, как видно по всему. Знаю, что глупо; но ты, может быть, сделал бы то же на моем месте. Слушай, что было со мной лет десять тому назад. Я ехал в Петербург, чтобы учиться здесь живописи. Нужно заметить, что страсть к рисованию была у меня, еще когда я начал ходить в школу; часто во время классов я уходил на гору, за мельницу, и оттуда снимал виды; но почти всякий раз отец, рано или поздно, узнавал о каждом таком случае, и никогда это мне не проходило даром: отец готовил меня в сидельцы для своей лавки (он торговал красным товаром), а не в живописцы. Потом, сделавшись сидельцем, я продолжал чертить на каждом клочке бумаги, в каждую свободную минуту, и слушал беспрестанные упреки отца за мое бездельничество: так называл он мою наклонность к рисованию. Положение мое было тяжкое, и когда отец умер, мне хоть и жаль было его, – я его любил, – однако в то же время я рад был, что сделался свободен… может быть, за эту радость бог и наказал меня. Мне было тогда двадцать три года; но я надеялся наквитать упущенное время. Похоронив отца, – я тотчас же продал всё, что осталось после него, с тем чтобы на вырученные деньги закабалить себя в мастерской одного из лучших художников до тех пор, пока сам не сделаюсь художником. С этой надеждой я ехал в Петербург. На половине пути я остановился в трактире, прозябнув под дождем, который лил целый день. В трактире этом была не занята всего одна комната, похожая на каморку, и в той продувал сквозной ветер невесть откуда. Только что я снял шинель и велел затопить печку, дверь соседней комнаты отворилась и красивый господин с усами, немногим постарее меня, очень любезно предложил мне поместиться вместе с ним. Я принял предложение с благодарностью. В комнате у него было тепло, чисто и просторно. На одном столе стоял погребец и была собрана закуска, на другом шипел самовар, стояла бутылка с ромом и два недопитые стакана, – словом, картина была самая приятная после дня, проведенного в дороге под дождем. Господин с усами отрекомендовался мне Винтушевичем, золотопромышленником, едущим в Сибирь. После я узнал, что это был просто плут. «А вот мой товарищ!» – сказал он и указал в угол, позади меня, где сидел на диване сегодняшний бродяга; он называл его по фамилии, да я забыл… кажется, Отрывкин, что ли…
– Отрыгин, может быть? – перебил Генрих.
– Может быть. А что? – спросил его Гарелин.
– Нет, я так!.. – смешавшись, отвечал Генрих, который убедился окончательно, что бродяга был отец Саши, но не желал открывать этого никому.
Гарелин продолжал:
– Мы стали закусывать и пить чай. За закуской товарищ Винтушевича упрашивал меня выпить вина, а за чаем – подлить рому, но я отговаривался, что ничего не пью. Наконец Винтушевич велел подать бутылку шампанского, от которого отказываться мне было совестно, хотя до тех пор, при строгости покойного отца, я вовсе не имел понятия ни о каком вине. После двух-трех бокалов я сделался весел до того, что не знал ничего в мире добрее и любезнее моих милых собеседников. Они рассказывали мне о Петербурге; я с жадностью расспрашивал о художниках и рассказал всё, зачем и с чем еду в Петербург. Потом мы стали играть в карты для препровождения времени, которого было еще много до ночи. Не стану рассказывать весь ход игры; всё это до сих пор мне самому непонятно, и я приписываю именно наказанию божию. Не более как в час я проиграл почти половину тех денег, которые вез с собой. Досада, раскаяние меня мучили страшно. Я отказался продолжать игру.
– Жаль! – сказал Винтушевич. – Мне вовсе не хотелось бы быть в выигрыше. Право, совестно, что завлек вас.
Я сказал, что никто в этом не виноват, кроме меня.
– Сыграйте еще! – заметил его товарищ. – Нельзя же быть постоянному несчастию: отыграетесь!
«В самом деле!» – подумал я, поставил еще какой-то порядочный куш и еще раз проиграл. Я весь дрожал от злости и досады. Почему-то мне даже представилось, что успехи мои в живописи будут также несчастливы. К этому проклятый бродяга назвал еще меня пачкуном, когда я решительно отказался играть и отошел от стола. В бешенстве я схватил стакан и пустил в него. Он застонал и повалился со стула; кровь лила из его головы. Меня связали, как исступленного. Явился доктор и нашел, что рана опасна. Кончилось тем, что я тут же расплатился за рану и остался с деньгами, которых едва хватило доехать до Петербурга. Далее нечего рассказывать. Я поступил в приказчики к Штукенбергу, и ты видел, Генрих, как я скряжничал, чтоб скопить что-нибудь и успокоить свою совесть.
– Ну что ж, зато ведь всё же ты живописец теперь! – сказал в утешение Генрих, который о Гарелине как о живописце был самого высокого мнения.
– Да, то есть маляр! или пачкун, как назвал меня сегодняшний бродяга лет десять тому назад, – отвечал Гарелин грустно, но спокойно, как человек, давно уже привыкший к этой мысли.
Приятели молча доехали до плота у моста и разошлись всякий своей дорогой.
На другой день, рано утром, знакомая фигура в черном засаленном сюртуке и в клеенчатой фуражке с трещинами вертелась у ворот гостиницы для приезжающих, посматривая в нетерпении на тарантас, стоявший на дворе. Увидев мальчишку, который бежал с сухарями к парадной лестнице, старик спросил:
– Кто приехал в тарантасе?
– А кто его знает! – отвечал мальчишка. – Вчера приехал. Кажись, Биту… Винту…
– Винтушевич, Винтушевич! – радостно прохрипел спрашивавший. – Встал он?
– А тебе на что? – спросил мальчик, оглядывая подозрительную фигуру.
– Дело есть! самонужнейшее дело!..
– Ну так подождешь! еще не вставал! – отвечал мальчик и скрылся в дверях.







