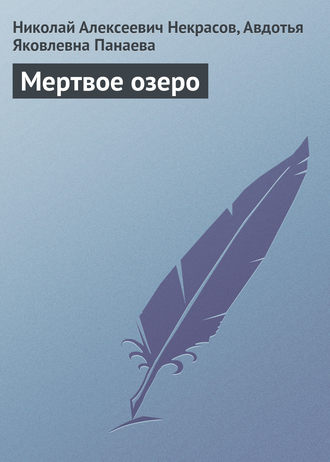
Николай Некрасов
Мертвое озеро
Глава XLVI
Разлука
Дня три еще все гости оставались в имении Тавровского; волтижированье, фейерверки, танцы и спектакли продолжались. Посреди этих развлечений Люба не обратила внимания, что Стеши более не видать. Когда же стала она собираться домой, Стеши нигде не нашли. Люба надеялась найти ее дома и очень удивилась, узнав, что и там ее не было. Рассказав всё брату бежавшей, который тотчас отправился искать сестру, Люба была уверена, что он приведет ее домой. Но цыган возвратился один и необыкновенно печальный. На все вопросы Любы он отвечал: «Ты ее больше никогда не увидишь». Но где она и как и чем она будет жить, цыган не говорил. Люба предлагала свои ценные вещи и деньги, какие у ней были, чтоб он отдал своей сестре. «Ей и так хорошо!» – отказавшись, говорил цыган. Бегство Стеши произвело на Любу неприятное впечатление. Хоть и мало были ей знакомы нужда, люди и свет, но всё-таки ее пугала мысль, как Стеша будет жить без родных, без денег, не зная никакой работы. Люба боялась, не она ли причиной. Исключая ее и брата бежавшей, все думали, что Стеша погибла в озере.
Через несколько дней после бегства Стеши Люба с испугом заметила незнакомое лицо, глядевшее на нее через решетку сада. Что-то страдальческое было во всей фигуре старика, стоявшего у решетки. Черный старомодный, изношенный фрак, коротенькие брюки, явно не на него сшитые, запыленные сапоги, белый галстук, круглая старая шляпа – весь туалет старика изобличал человека нуждающегося. Усталое лицо, всклокоченные волоса и давно небритая борода заставили Любу предположить, что он желает какой-нибудь помощи. Люба подошла к решетке и, просунув руку свою, сказала ласково:
– Возьмите, пожалуйста.
– Что это? – попятясь назад, пробормотал старик, глядя с удивлением на деньги в руке Любы, которая очень сконфузилась и сказала:
– Что же вам угодно? вы ищете кого-нибудь?
– Не беспокойтесь; я скоро уйду; я вот только отдохну.
И старик, кряхтя, хотел сесть на карниз решетки.
– Войдите, войдите сюда! – сказала Люба, обежав сад, выглядывая в калитку и маня старика.
Старик подошел к ней и, поклонясь, сказал:
– Благодарю-с; я, знаете, пришел узнать, то есть я желал бы…
И старик остановился. Он видимо был смущен; припухшие его веки то приподнимались, то опускались; он смотрел как-то странно на Любу, которая хотела идти; он остановил ее вопросом:
– Вы знаете вашего соседа Тавровского?
Люба вся вспыхнула и, ответив, что знает, ожидала продолжения; но старик молчал. Наконец, покачивая головой и глядя прямо на Любу, он пробормотал тихо:
– Жаль, жаль и ее!
И вдруг он быстро спросил:
– Я могу видеть вашего батюшку?
– Вы разве его знаете?
– Мне нужно ему сказать два слова.
Люба позвала цыгана и передала ему желание незнакомого старика. Цыган повел его к Куратову, который только что встал. Со сна лицо Куратова не было привлекательно, так что вошедший старик не очень смело произнес, кланяясь:
– Честь имею рекомендоваться: я-с актер, фамилия моя Остроухов.
– Ну, что же ты можешь важное сказать мне? Я ведь до комедиантов не охотник, – перебил его Куратов не очень приветливым голосом.
– Я актер! – с комическим достоинством заметил Остроухов.
– Да слышал! Что же такое, говори?
– У вас есть дочь, – сказал нерешительно Остроухов.
– Э-э-э, брат!! я не желаю видеть у себя в деревне вашей комедии, – опять перебил его Куратов.
– Я совсем не затем пришел! – с досадою отвечал Остроухов.
– Что же тебе надо? – нахмурив брови, спросил Куратов.
– Ваш сосед женится.
– Кто? Тавровский?
– Да-с!
– Ну так мне-то что? – спокойно спросил Куратов.
Остроухов смутился и молчал. Куратов подозрительно разглядывал его. Остроухов, тяжело вздохнув, сказал:
– Да я потому говорю, что ведь он женится на вашей дочери.
Куратов вздрогнул, с минуту глядел странно на Остроухова и поспешно спросил:
– Да ты кто? от кого?
– Я из труппы Петровского, бывал на театрах…
– Кто тебя прислал ко мне? – сердясь, крикнул Куратов.
– Да я… сам пришел.
– Зачем же пришел?? а? и кто тебе сказал, что Тавровский женится на моей…
И Куратов, не договорив фразы, вопросительно смотрел на Остроухова, который, как бы в оправдание себе, отвечал:
– Да все соседи говорят! даже…
– Если и так, что же тебе за дело? и зачем ты пришел сюда?
– Я пришел сказать… что… есть женщина, которую…
Куратов грозно осмотрел с ног до головы Остроухова и с презрением сказал:
– Верно, какая-нибудь комедиантка? небось дочь твоя!
– Нет, она мне не дочь, – актриса, точно; но всё-таки, если вы любите свою дочь, так подумайте, что человек, бросивший одну…
– Пошел вон! – крикнул Куратов так, что собака, лежавшая у ног его, вскочила и заворчала. Остроухов пугливо кинулся к двери, но, оправясь, остановился и дрожащим голосом сказал:
– Я пожалел сказать всё вашей дочери: она еще так молода…
– Ты, кажется, помешан!.. уходи скорее! а не то я велю тебя выпроводить из околицы так, что другой раз не придет тебе охота вмешиваться в дела, в которых тебя не спрашивают!
– Я думал, что вы как отец…
– Иди, иди, меня не надуешь! верно, думал выманить что-нибудь! – грозя пальцем Остроухову, говорил Куратов.
Остроухов хотел было что-то возразить, но махнул рукой, проворчав:
– В самом деле, я помешанный! ну кто меня станет слушать?
Эти слова были произнесены с такою грустью, что Куратов спросил мягче:
– Что ты там бормочешь?
– Прощайте-с; желаю, чтоб дочь ваша была счастлива, – сказал Остроухов и вышел из двери.
Куратов вспылил и, указывая лежавшей собаке на Остроухова, произнес:
– Пиль его!
Собака с лаем кинулась за дверь. Послышался крик Остроухова и лай собаки.
Куратов усмехался и ласково звал собаку, ворча:
– Поделом, в другой раз не надувай! вишь, с чем пришел!
Через несколько времени Остроухов шел с цыганом из околицы. Его черный фрак и панталоны в нескольких местах были разорваны, рука обернута платком, а другою Остроухов размахивал, что-то говоря с жаром.
Куратов был поражен словами Остроухова. Он никак не ожидал, что его дочери предстоит такая блестящая партия. Он стал следить за Тавровским и убедился, что дочь точно нравится ему. Это обстоятельство очень подействовало на равнодушие отца: он приказал своей дочери занять лучшие комнаты в доме, дал денег для выписки из столицы нарядов. Праздник за праздником задавал Куратов; но напрасно: сосед его не просил руки Любы. Тавровскому мысль о женитьбе не приходила и в голову.
Раз Люба, ее отец и Тавровский сидели за чаем; зашла речь о свадьбе их общего соседа. Люба вдруг спросила Тавровского:
– А когда же наша свадьба? – и ужасно сконфузилась, увидев лицо отца, который мрачно глядел на смущенного Тавровского. Однако последний скоро оправился и, обратись к Любе, сказал, указывая на Куратова:
– Вот от кого будет зависеть всё.
Куратов молчал.
Павел Сергеич продолжал:
– Ваша дочь еще так молода, что я боюсь, не каприз ли это только, и потому до сих пор умалчивал о своем намерении.
Куратов посмотрел на дочь, сидевшую с потупленными глазами, и сказал:
– Ей уже минуло семнадцать лет. Я скажу вам откровенно, что ваше внимание ей должно быть очень лестно. Но у вас есть родственники…
– Да, я должен вас предупредить, что свадьба не может быть скоро, потому что мне необходимо ехать в Петербург: моя тетка больна и требует моего присутствия.
Люба, за минуту обрадованная согласием отца, зарыдала и выбежала из комнаты.
Куратов с грустью смотрел вслед дочери и, обратись потом к Тавровскому, нерешительным голосом сказал:
– А знаете ли вы тайну ее рождения? Я не буду вас обманывать, я всё открою вам, и тогда от вас будет зависеть сдержать слово. Впрочем, вы уже не так молоды, чтоб заранее не обдумывать своих поступков.
Куратов очень ошибался в будущем своем зяте. Он именно был таков, что никогда не давал себе труда думать как о серьезных вещах, так и о пустяках. Предложение его было вынуждено наивностью Любы; да притом Тавровского не пугали никакие обстоятельства. Он имел характер очень решительный.
– Я не желаю знать ничего. Я полюбил вашу дочь и надеюсь, что моя любовь не сделает ее несчастною, – сказал Тавровский.
– Всё, что я имею движимого и недвижимого, принадлежит ей, – перебил его Куратов.
– О деньгах, вы знаете, я не хлопочу; одно беспокоит меня: это ее слишком наивное воспитание.
– Я понимаю, всё понимаю: я увезу ее в Москву, и она в год или два…
– Ее детские понятия и поступки могут удивить людей с предрассудками.
– О, будьте покойны: я тогда вам отдам свою дочь, когда она сумеет носить как следует вашу фамилию.
Будущий тесть и зять расстались дружелюбно: Куратов – полный гордости, что приобрел такого блестящего зятя, а Тавровский – удивленный своим неожиданным сватовством.
Но не прошло двух дней, как он уже уговаривал Куратова поспешить свадьбой, и если бы не пост, то Люба сделалась бы его женой.
Около того времени Наталья Кирилловна письмо за письмом присылала к своему племяннику, требуя его к себе немедленно. Зина тоже заклинала его ехать в Петербург, описывая яркими красками неожиданную болезнь его тетки, которая будто была уже на краю гроба.
Может быть, Тавровский остался бы глух ко всему: так он был занят Любой. Но Люба вдруг и очень круто совершенно изменила свое обращение с ним и объявила ему, что выйти замуж за него скоро не может.
Это обстоятельство так поразило Павла Сергеича, слишком уверенного в беспредельной любви своей невесты, что он в первый раз в жизни потерялся и страшно огорчился. Все подозрения его пали на цыгана, тем более что он узнал о знакомстве его с Остроуховым и о свидании последнего с Куратовым.
Тавровский в первую минуту негодования придумал множество планов, как наказать дерзкого цыгана, но ограничился только тем, что предложил цыгану ехать с ним в Петербург.
Цыган отказался.
– Что же ты думаешь делать с собой? Роль твоя здесь незавидна и еще будет неприятнее, когда Любовь Алексеевна выйдет замуж и уедет в столицу, – говорил Тавровский, подавляя свой гнев.
– Я поеду за ней.
– Да знаешь ли, на каких условиях она возьмет тебя? Она теперь не дитя: ей можно будет держать тебя не иначе как лакеем.
Цыган вздрогнул и, подумав, отвечал со вздохом:
– Ну так что ж? если она захочет, я буду лакеем у ней.
– Да не у ней только, – а у всех.
– У всех – никогда! – гордо отвечал цыган.
Долго доказывал Тавровский цыгану невыгоды его положения в доме Куратова и выгоды поездки с ним в Петербург, где Тавровский обещал пристроить его в какую-нибудь купеческую контору.
Цыган стоял на своем, что ни за какие блага не оставит питомицу своей матери.
– Ты упрям! – с сердцем сказал Тавровский и, грозя ему, прибавил:– Со мной не хитри: я тотчас всё разгадал; одно мое слово ее отцу – и тебя не будет при ней.
Цыган так смутился, что не мог говорить; на его лице выражались то мольба, то злоба.
Тавровский наслаждался, казалось, этим и насмешливо глядел на цыгана, который наконец с упреком сказал:
– Что я вам сделал? за что вы хотите и меня выгнать от нее? Сестра моя через вас бежала.
– Твоя сестра, как и ты, слишком дерзкие вещи забрали себе в голову, и если б это узнал твой барин…
– У меня нет барина, – перебил цыган.
– Однако ты ешь его хлеб, и он только по доброте держит тебя без работы.
– Я не даром ем его хлеб: я работаю в его конторе.
– Ну, значит, он барин твой, – язвительно улыбаясь, отвечал Тавровский.
– Ну что же? идите, наговорите ему на меня; я знаю, что вы будете в его глазах всегда правы, а я – виноват.
– Зачем же ты сам делаешь то, что находишь дурным в других? Ты видел этого старика, выжившего из ума от вина, и всё, что он наболтал тебе, ты передал ей?
Цыган кивнул головой.
– Зачем же ты это сделал?
– Я люблю ее.
– Да это я и без тебя знаю.
– Я не хочу, чтоб она узнала, когда будет поздно…
– А ты думаешь, ей легче понять? ты своими глупостями сделал то, что она стала бояться меня.
– Она перестанет бояться вас, если узнает, что всё это неправда.
– Послушай: ты меня выводишь из терпения. Неужели ты думаешь, я стану заботиться о подобных тебе людях? Мне не хочется ‹огорчить› ее. А то я легко бы справился с тобой и навсегда отучил бы тебя от охоты сравнивать себя с людьми, не равными тебе.
И Тавровский выразительно раза два махнул в воздухе хлыстом, который он держал в руке.
Цыган побледнел как полотно и, помолчав с минуту, глухим голосом отвечал:
– Делайте мне какие угодно угрозы: я ничего не боюсь. Если неправда, что вы обещались жениться уже на другой, то я…
– Ты! ты! да как ты смеешь вмешиваться в мои дела? – разгорячась, крикнул Тавровский, махая хлыстом по воздуху. – Пошел в переднюю: вот где твое место!
– Зачем же было звать меня и так долго говорить со мной! – отвечал цыган и быстро вышел из комнаты.
Тавровский кинулся за ним с поднятым хлыстом, но остановился, проговорив:
– Нет, надо с ним иначе действовать!
Тавровский был взбешен, что такое ничтожное лицо оскорбило так сильно его самолюбие. Он решился упросить Любу, чтоб она удалила цыгана.
В день своего отъезда он простился официально с невестой своей в доме Куратова; последний подал ему кольцо, очень дорогое, как знак обручения с Любой, которая поехала одна к скату горы по просьбе своего жениха. Люба не могла скрыть своих слез, встретив Павла Сергеича на том месте, где так часто она сидела, полная тихих и сладких ощущений. Наконец она отерла слезы и сказала:
– Я больше не буду плакать.
– Плачь, если только эти слезы могут возвратить мне твою доверчивость. Да, Люба, я очень дорожил ею: она для меня была высоким доказательством, что я порядочный человек. Скажи, употребил ли я ее во зло?.. Рассказать тебе прошлую жизнь мою я давно собирался; но я боялся, что ты многое не в силах понять: зачем же мне было понапрасну возмущать твое спокойствие?
– Так правда, что ты уже обещался жениться на другой и…
– Вот видишь, друг мой, как это было. Я был очень молод, не имел еще права располагать собой. Я встретил актрису, очень умную женщину; но не мог же я жениться на ней?
– Отчего, если ты ее любил?
– Мои родные не допустили…
– Значит, твои родные не захотят, чтоб ты женился и на мне, потому что я дочь цыганки.
– Будь покойна: они не узнают тайны вашего дома.
– А если?..
– Я теперь не мальчик и имею право делать что мне вздумается.
– Если так, то я выйду за тебя замуж, но не прежде, как узнаю, что та, на которой ты обещал жениться, не хочет за тебя замуж.
– Люба, ты приводишь меня в отчаяние своими детскими понятиями о вещах. Ну какая женщина, не только актриса, не захочет выйти замуж за человека с моим богатством и именем?
– Если бы я тебя не любила, я не пошла бы за тебя замуж.
– Ты! но таких, как ты, нет, может быть, нигде. Да, Люба, я первую тебя полюбил – всё прежнее были одни капризы праздной жизни. Я сначала думал, что любовь моя есть что-то вроде братского чувства к тебе; но теперь я вижу, что любовь моя гораздо сильнее и что страсть мою мне много стоило труда сдерживать; потушить ее я не могу ничем.
Тавровский говорил с таким увлечением, что голос его, и без того необыкновенно мягкий, так был гармоничен, что Люба слушала его, как пение. Обвив талию своей невесты и приложив ее голову к своему плечу, он продолжал вкрадчивым голосом:
– Если ты любишь меня, то я попрошу одного доказательства.
– Я всё готова сделать для тебя! – отвечала Люба таким голосом, что Павел Сергеич с жаром поцеловал ее.
– Тебе одной, кажется, суждено сделать из меня порядочного человека, – сказал он. – Да, одно твое слово, сказанное таким голосом, выше самых пылких уверений других женщин. Я уеду спокойно, что никто другой не отымет тебя у меня.
– Ты всегда знал, что я никого больше не полюблю. Скажи, чего же ты хочешь – какого доказательства?
– Люба! – странным голосом сказал Тавровский, так, что она вздрогнула. Он продолжал: – Ты слишком добра и наивна, ты не видишь того, что другая на твоем месте давно бы отгадала.
– Что такое? Я тебя не понимаю! – с удивлением спросила Люба.
– Впрочем, распространяться я не хочу: боюсь тебя обидеть.
– Как это обидеть меня?
– Да, есть вещи, которые должны всякую порядочную женщину возмутить. Я умолчу обо всем и попрошу только одного как доказательства твоей любви, – именно: удалить от себя как можно скорее молочного твоего брата.
Люба побледнела и, вырвавшись из рук Павла Сергеича, смотрела на него с ужасом.
– Ты испугалась, кажется, моей просьбы; но другая бы давно сама его выгнала, – обидчиво заметил Павел Сергеич.
– Как! выгнать его? за что? Я уж и так много обидела его, выгнав его сестру, – с упреком сказала Люба.
– Всё равно: если бы ты не сделала этого, я бы не позволил ей быть при тебе! – запальчиво сказал Павел Сергеич и продолжал горячась: – Да знаешь ли, как дерзка она была?..
Он замялся: ему не хотелось раскрывать Любе глаза на многие вещи, – может быть, из страха, чтоб она не разгадала его характера. И с большею кротостию Тавровский продолжал:
– Я должен сказать тебе теперь, чтоб успокоить твою совесть. Она… она просто влюбилась и страшно ревновала…
– В кого? – перебила Люба.
– В меня… и ревновала тебя! – отвечал Павел Сергеич и прибавил: – Значит, ты тут ни в чем не виновата.
– Она любила… – как бы рассуждая сама с собой, говорила Люба и с грустью прибавила, взглянув в глаза Тавровскому: – Бедная Стеша!
– Так ты еще жалеешь ее? – с заметною досадою спросил Тавровский.
– А ты? разве тебе не жаль ее? ты говоришь, она тебя любила? – как бы с ужасом спросила Люба.
– Друг мой! ты слишком наивна. Дерзкая любовь какой-нибудь цыганки…
Люба глядела такими глазами на Павла Сергеича, что он сконфузился и, не окончив фразы, начал другую:
– Впрочем, оставим ее в покое; она далеко от тебя. Я прошу тебя удалить и ее брата.
– За что же… и его? – холодно спросила Люба.
– Положись на мою опытность и любовь к тебе: если я прошу этого, значит, так надо.
– Нет, я этого не сделаю, – подумав, отвечала решительно Люба.
Павел Сергеич в негодовании вскочил с своего места и, как бы не помня сам себя, смеялся, пожимал плечами, повторяя с гневом:
– Это просто забавно! это уж ни на что не похоже! – И, быстро обретясь к удивленной Любе, он с сердцем сказал:– Ты не согласна на мою просьбу; а знаешь ли, что этот мальчишка, твой лакей…
– Он мне брат! – с упреком заметила Люба.
– Всё же он лакей для других! Да этот дикарь забил себе в голову… разве ты не видишь, что он любит тебя не…
– Да, я знаю, он очень любит меня! – с уверенностью перебила его Люба.
Тавровский пожал плечами и, смотря на Любу как бы с сожалением, сказал:
– Ты для меня загадка! такая наивность, мне кажется, уже слишком странна в девушке. Знаешь ли, что я потому требую его удаления…
– Почему? – быстро спросила Люба.
– Он… влюблен в тебя, – с отвращением произнес Павел Сергеич.
Люба смутилась страшно, но потом тотчас же засмеялась.
– Так ты мне не веришь? – обидчиво спросил Тавровский.
– Мы с ним играли вместе: вот как он меня любит.
Павел Сергеич так был увлечен досадою, что долго и подробно раскрывал перед Любой все мелочи ревнующей любви. С трудом и не скоро он мог убедить наивную девушку в необходимости удаления цыгана и в таких красках описал последствия, если он останется, что Люба дрожала вся. Она дала слово своему жениху, что цыган будет удален к его приезду.
Для Любы столько новых чувств раскрылось, что прощание с женихом совершилось скоро и не было ей тягостно, – она спешила остаться одна.
Проводив своего жениха до леса, Люба воротилась и села на то же место, где они сидели вместе. Устремив глаза, влажные от слез, на гладкую поверхность озера, она долго оставалась в этом положении. Глазам ее беспрерывно являлись три лица: Стеша в слезах и лохмотьях, ее брат с угрожающим лицом и Павел Сергеич – с какой-то красивой женщиной. Эти лица как бы выходили из озера и снова исчезали в нем. Люба припомнила всё до малейшей подробности: свою встречу с Павлом Сергеичем, их знакомство, последний разговор, даже взгляд, брошенный на нее Тавровским, когда они простились. Она так была погружена в раздумье, что не заметила курчавой головы, выглядывавшей из высокой травы невдалеке от нее, и не слышала едва заметного шелеста, как будто кто полз в траве.
Когда стало садиться солнце, Люба, позлащенная им, отвела усталые глаза от озера, устремила их на солнце и снова впала в прежнюю задумчивость. Грусть разлита была в каждой черте ее лица, и слезы струились по бледным щекам.
Шорох в лесу заставил Любу вскочить на ноги; радость вдруг озарила ее лицо, даже жилы забились на ее висках: она глядела в лес, в котором показалась фигура цыгана.
Тяжело вздохнув, Люба молча пошла к лодке; цыган последовал за ней. Лодка отчалила. Цыган греб; Люба смотрела пристально на него.
– Илья! – строго сказала Люба.
Цыган вздрогнул. Каждое слово, тихо сказанное, резко раздавалось на воде и вторилось эхом.
– Ты любишь меня? – продолжала Люба.
– Ты знаешь.
– Ты скажешь мне всю правду?
– Я никогда не лгал тебе!
– Ты желаешь ли, чтоб я вышла замуж за него?
– Если он любит тебя, то я очень желаю.
Люба задумалась и сказала:
– Если я выйду замуж, что ты будешь делать с собой?
– Не знаю.
– Хочешь, я пошлю тебя учиться?
– А, так он успел тебя упросить! – с ужасом воскликнул цыган.
И руки его судорожно сжали весла; он сделал ими такой взмах, что они сломались пополам; отбросив их от себя, он ухватился за голову и уткнул ее в колени.
Люба вскочила с своего места и, бледная, с гордо поднятой головой, стояла неподвижно. Лодка несколько минут плыла еще быстрее, потом всё тише и тише.
– Илья! – повелительно произнесла Люба.
Цыган поднял голову и рыдающим голосом сказал:
– Ты и меня выгоняешь?
– Зачем бросил весла?
Цыган с удивлением осмотрелся кругом и, увидя плывущие разломанные весла, пугливо взглянул на Любу, которая с упреком сказала ему:
– Как мы теперь попадем домой? нас прибьет к берегу далеко от дому; а там все перепугаются, куда мы пропали.
– Люба, Люба! не отсылай меня от себя! – отчаянным голосом произнес цыган.
– Дай мне слово, что ты даже не будешь иметь ни одной дурной мысли против него?
– Разве я что-нибудь сделал ему дурного? Я рассказал тебе то, что ты должна была знать.
Люба, помолчав и тяжело вздохнув, сказала:
– Илья, ты знаешь, как я люблю его, и ничто меня не заставит забыть его. Но я даю слово, что сама не пойду за него, если узнаю, что он обманул кого-нибудь.
Радость озарила лицо цыгана; зато Люба стала грустна. Они плыли тихо. Цыган не спускал глаз с Любы и вдруг сказал:
– Если ты желаешь, чтоб я оставил тебя, я это сделаю!
Люба посмотрела на него и отвечала:
– Нет! ты мне уж дал слово, и я ничего не боюсь.
Не скоро они прибыли домой, где все были в тревоге, потому что Куратов никогда не был покоен, если узнавал, что его дочь поехала по озеру.






