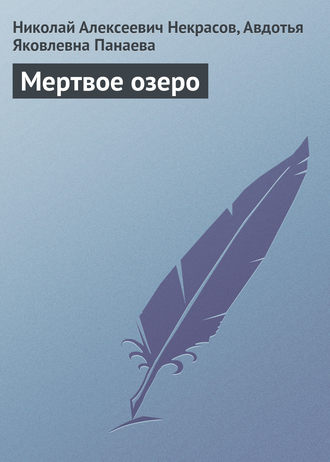
Николай Некрасов
Мертвое озеро
Глава XVI
Провинциальный театрал
В одиннадцать часов утра, в комнате, довольно пышно убранной, сидел за туалетом господин важной осанки, очень пожилых лет. Камердинер страшно суетился около своего барина, который, вымывшись десятью сортами мыл, вылил банку жидкости на свое лицо, отчего желтизна исчезла, а вслед за тем выступил на щеках нежный румянец. Брови были слегка подкрашены, остатки седых волос густо были смазаны черным фиксатуаром и все торчали кверху, с целью скрыть лысину, которая едва виднелась, как пруд, заросший травою. Обвислый подбородок подтянулся черным высоким атласным галстухом, а воротнички рубашки врезались в его щеки и тем скрыли не одну морщину. Корсет придал пышности его изумительно выпрямленной талии. И когда туалет был окончен, камердинер мог с гордостью сказать, что труды его увенчались полным успехом, потому что господину с важной осанкой смело можно было убавить несколько лет. При вступлении в кабинет первым делом господина с важной осанкой было посмотреться во все зеркала, которых было тут девять, и потом уже усесться на диван за круглый стол, на котором был сервирован кофе. Кабинет своей меблировкой очень походил на самого владельца. Хотя всё уже было подержанное, но с первого взгляда казалось роскошно и эффектно: везде позолота, бархат; но всё это, начиная с цвета лица господина до серебряного сервиза, из которого он кушал кофе, всё было фальшивое, исключая только попугая, заключенного в клетке, да огромной черной собаки, лежащей на бархатной подушке у топившегося камина. Слегка высохшие цветы на окнах, картины в позолоченных и закопченных рамах, статуэтки, почерневшие от времени, – всё вместе было как-то уныло, так что становилось не только жаль самого владельца этого кабинета, но даже собаки и попугая его.
Впрочем, письменный стол один имел отпечаток жизни: на нем стояло до десяти женских портретов в характерных костюмах с эффектными позами. По столу валялись башмачки танцовщиц, браслеты, сухие цветы, перчатки, а под стеклянным колпаком на бархатной красной подушке лежала женская ножка из гипсу. Тут же стояла коллекция бабочек. Он уверял, что сам ее составил.
Пока господин с важной осанкой пил кофе, у него перебывало множество просителей, в том числе и кредиторы. Надо было изумляться любезности и ловкости, с какою обходился он со всеми, так что почти все без исключения оставались им довольны; кредиторы, обезоруженные и как бы пристыженные его любезностью, сами же просили извинения, что беспокоили его.
В числе просительниц была и знакомая нам прачка с дочерью. Катя понравилась важному господину, и он обещал пристроить ее куда-нибудь.
Потом явилось несколько молодых людей, из разговора которых можно было сейчас догадаться, что они принадлежат к числу самых страстных театралов. Все сплетни кулис и даже партера – всё было передаваемо наперерыв друг другу. Когда коснулись Любской и Мечиславского, господин с важной осанкой оправил важно галстух, может быть, чтоб скрыть некоторое волнение, и равнодушно сказал:
– Господа, я нахожу, что вы уж слишком черните ее, хоть я и не из числа ее поклонников.
Гости выразительно переглянулись между собою, потому что, как им были известны тайны кулис, столько же тайны театралов были доступны каждому, кто желал их знать. Весь театр, даже почти весь город, знал, как господин с важной осанкой ухаживал за Любской, но не достиг ничего. Сначала он подсылал своего камердинера и его приятелей в театр, когда играла Любская, чтоб аплодировать ей и вызывать до пяти раз, потом сажал их, чтоб шикать. Всем были известны многочисленные меры, перепробованные им, и его равнодушию мало верили.
– Я вас уверяю, что это правда, – с жаром подхватил молодой человек в необыкновенно узком платье и с лицом, усеянным угрями.
– Фи, фи! какое злословие, господа! в наше время мы заглушали такие слухи, а вы их распускаете.
– Дашкевич хочет его вызвать на дуэль, – проговорил молодой человек с угрями.
При этом имени лицо господина с важной осанкой заметно искривилось; но он сладким голосом сказал:
– Я его считаю за порядочного человека: если б даже слухи были справедливы, он не стал бы драться со всяким. Он уже доказал свое благородство в истории с нашей милой пери.
На последние слова было сделано ударение довольно сильное, так что некоторые улыбнулись, взглянув на молодого человека с угрями, который, запев себе под нос, замолчал.
В третьем часу господин с важной осанкой, надев шляпу и натянув перчатки на свои руки, унизанные кольцами, обошел дозором все зеркала и у каждого нашел что-нибудь поправить в своем безукоризненном туалете. Собака, попугай и камердинер следили за каждым движением своего хозяина, и когда он вышел из кабинета, попугай пронзительно вскрикнул, как бы обрадовавшись, и стал качаться на кольце; собака вытянулась и улеглась на полу. Вернувшись в кабинет, камердинер с важностию занял у стола место своего барина и стал допивать холодный кофе.
Господин с важной осанкой был из числа любителей театра, хотя, кроме советов, он уже ничем не мог помогать содержателю его, потому что имение его было в долгу и он сам едва мог поддерживать свои разорительные привычки. Но он имел голос между любителями театра, вследствие чего актеры и актрисы дорожили его покровительством.
Калинский – так звали господина с важной осанкой – некогда был богат, когда-то хорош собой; но всё это было в прошедшем. Один Калинский еще воображал себя молодым человеком, красивым и богатым, хотя воображать последнее было довольно трудно, потому что кредиторы часто напоминали ему противное. Но всё-таки с помощью ловкого камердинера Калинский обделывал свои дела и жил роскошно, судя по наружности.
Калинский молодость свою провел не столько с пользою, сколько с удовольствием; он ухаживал тогда за актрисами, ставил на карту большие куши, услаждался дорогими винами и решительно не заметил, как прошла не только его молодость, но даже как с годами прибавилось долгов на его большом, но уже заложенном имении. Продав часть своего имения, он не мог оставаться жить в столице, где страдало его самолюбие, где начинали уже говорить о красоте и победах других молодых людей, хвалили ценный подарок, сделанный актрисе не им, а каким-нибудь купцом. В провинции Калинский ожил вновь, сделался предметом разговора всех, и где недоставало ему денег, он употреблял хитрости, интриги, так что в ту минуту, когда мы познакомили его с нашими читателями, Калинский смело шел, не останавливаясь, к достижению своей прихоти или удовлетворению своего самолюбия и не задумывался ни перед какими средствами, лишь бы иметь успех. Любская имела в лице Калинского самого злейшего врага; он был главною пружиною неприятностей между Любской и Ноготковой; равно и в публике он устроивал всегда так, что если Любская играла вместе с Ноготковой, то последнюю непременно лишний раз вызывали, а Любской даже шикали, хотя шиканьем он только сердил публику, которая с досады принималась рукоплескать Любской. Он также научил содержателя театра, раболепствовавшего перед всеми любителями театра, потому что они делали ему большие вспомоществования, не давать пьес, в которых Любская имела успех. Ноготковой шили для новых ролей новые костюмы, а Любской перешивали старые. Трудно передать все мелочи, которые самого агнца в состоянии рассердить, а не только женщину раздражительную и самолюбивую…
Через неделю после визита своего к Калинскому прачка решилась идти просить Любскую о ходатайстве: так как Калинский много расспрашивал Катю о Любской, то прачка надеялась, что он для Любской похлопочет о Кате.
– Здравствуйте, Олена Петровна! – низко кланяясь, сказала прачка, войдя в одиннадцать часов утра в кухню к Любской.
– Ну, здравствуй! – отвечала небрежно женщина лет тридцати, с лицом, бровями, ресницами, губами, глазами и волосами пепельного цвета. Роста она была очень высокого и неимоверно сухощавого сложения, грудь впалая, пуки длинные, плечи сутуловатые, которыми она поминутно передергивала. К довершению прелестей, одна щека у ней припухла, что придавало ее лицу какое-то постоянно гордое, саркастическое выражение.
Она была горничная Любской и в эту минуту распивала кофе.
– Олена Петровна, матушка, будь моей Кате второй матерью.
– Ну, что нужно? – грубо перебила горничная прачку.
– Замолви словечко: скажи, что, мол, сударыня, пришла прачка.
– Что учишь-то! разве не умею говорить, что ли? Чего ты хочешь?
– Попросить вашу барыню, чтоб она замолвила словечко об Кате.
И прачка умильно глядела на горничную, которая презрительно отвечала:
– А! небось теперь: «Олена Петровна, мать вторая!» – а то, не спросясь никого, полетела… туда же – хочет, чтоб дочка актрисой была!
– Матушка Олена Петровна, посуди сама: ну что я, бедная, ну куда я ее пристрою?
– А отчего она не может быть прачкой аль горничной? чем мы хуже ее? Не в свои сани садишься!
Прачка тяжело вздохнула и с покорностью отвечала:
– Олена Петровна, ведь я ей мать. Ну как не пожелать своему детищу счастья?
– Великое счастье – кривляться! – с презрением воскликнула горничная и вслед за тем грубо прибавила постучавшемуся в дверь: – Ну, кого еще несет?
Дверь раскрылась: показалось лоснящееся лицо небольшого мужчины средних лет, опрятно одетого.
– Ах, Семен Семеныч! – передернув плечами, закатив под лоб свои пепельного цвета глаза и заморгав быстро ресницами такого же цвета, нежно воскликнула горничная.
Семен Семеныч был камердинер Калинского. Он с утонченного учтивостью расшаркался с горничной и с прачкой, у которой осведомился о здоровье мужа, на что получил ответ:
– А что ему, батюшка, делается! лежит себе да возится с негодными котами.
– Ваша барыня спит? – спросил, улыбаясь, Семен Семеныч.
– Хороша барыня! – насмешливо отвечала горничная и с любопытством спросила: – А вам на что, Семен Семеныч?
– Вот-с!
И Семен Семеныч показал письмо, лукаво улыбаясь.
– Ну уж… право… вы ведь знаете, как она мне грозила, если я буду с вами знакома.
– Ничего-с! тут вот-с насчет ихней Катеньки сказано-с!
– Ах, боже ты мой, родной, ну как его милость… – завопила прачка.
– Ну что горланишь! – сказала горничная и, закатив глаза, обратилась к Семену Семенычу: – Вы уверены, что из этого письма ничего не выйдет?
– Не извольте сумлеваться: я лукавствовать с вами не стал бы, – отвечал Семен Семеныч и подал горничной небольшой из серой бумаги мешок, сказав нежно: – Не угодно ли полакомиться, Елена Петровна?
– Ах-с, я и так бы… зачем? – жеманясь, проговорила горничная.
Семен Семеныч, вскрыв его, поднес горничной, лукаво глядя на нее, и сказал:
– Отведайте: по вкусу ли?
– Что это, ах… как это можно… какой вы, право! – радостно восклицала горничная, схватив мешок. И, вынув из изюма кольцо с бирюзой, она надела на свой костлявый длинный палец.
– Золото-с, с настоящей бирюзой-с! – проговорил Семен Семеныч.
Дверь в сени с шумом раскрылась: ввалился чрезвычайно высокий мужчина в фризовой шинели и басом прокричал:
– Завтра репетиция «Дочери-преступницы», в одиннадцать ровно!
– Ну что вопишь, словно режут!
– Да ведь надо же, так требуется, Олена-матушка.
– Ну, мужлан!
– Дай водочки!
– Как же! здесь не кабак.
– Ишь, злая!
И подразнив горничную, высокая фигура с шумом скрылась. Затем явился краснощекий молодой человек с приятной улыбкой, одетый очень чисто, с узлом под мышкой. Вежливо раскланявшись с горничной и со всеми в кухне, он скоро пробормотал:
– Насчет-с герцовских платьев!
– Спят, – отвечала горничная.
– Я подожду-с: нужно примерить-с.
– Поздно легла.
– Так позвольте оставить; я зайду через час.
– Хорошо.
Не прошло минуты, как ввалился кучер и медленно произнес:
– Карета приехала, сидят.
– Какая карета! не знаешь, что ли, что наша по утрам не ездит теперь в ваших корзинках? Да покажи записку! – крикнула горничная.
Кучер подал лоскуток бумаги, на котором было написано с десяток фамилий актеров и актрис, которых следовало ему забрать и привезти в театр на пробу.
– Потрудитесь, Семен Семеныч, – передергивая плечами, сказала горничная, подавая камердинеру бумажку.
Семен Семеныч прочел и объявил, что даже фамилия Любской не написана.
– Да я ведь почем знаю? Дали записку сегодня: поезжай! я был вчера здесь, ну и думал, что и сегодня надо.
– То-то вы, простота! а кабы я разбудила!
Раздался колокольчик из комнат, и горничная, распростившись с гостем и взяв от него письмо, пошла на зов. Прачка затянула свою песню: «Устрой мою Катю: я за тебя век буду бога молить» и так далее.
Глава XVII
Заклисная сплетня. – Прачка устроивает судьбу своей дочери
Письмо Калинского было содержания очень обыкновенного между провинциальными актрисами. Под видом преданности к Любской он извещал ее, что один господин, прикидывающийся преданным ей, в день именин поднес Ноготковой ‹браслет›, да еще с надписью, хотя взятой с известного памятника, но всё-таки оскорбительной для нее, если она считает его в числе своих друзей. Надпись следующая:
Завистниц имела,
Соперниц не знала.
Любская в волнении едва могла дочитать письмо. В ее голове быстро пронеслись слова и взгляды актрис за кулисами, которых она не брала на себя труда объяснить. А поспешность, с которою Дашкевич оставил ее вчера утром, не дав положительного ответа, куда он так торопится, подтверждала слова Калинского. В глазах потемнело у Любской, и она, как статуя, оставалась в неподвижности. Ничего не может быть ужаснее в жизни женщины, как узнать о торжестве своей соперницы, сознать его, и, к довершению всех мучений, перед множеством людей, которые, как докучливые комары в летний жаркий день, кусают вас со всех сторон своими ядовитыми насмешками, и нет средств укрыться от них: они найдут место пропустить свое жало.
Недоумение Любской недолго продолжалось. Она поспешно оделась и явилась на репетицию. Это присутствие духа и смелость явиться в такую минуту за кулисы доказывали, каким характером обладала Любская. Она знала обычай Ноготковой на другой день именин являться на репетицию, даже если она не участвовала в ней, во всем, что было подарено ей, а в случае и куплено самою, но выдано за подарки. И не ошиблась: она застала Ноготкову разряженную как куклу; толпа актрис и актеров разглядывала ее наряд и хором хвалила всё. Несмотря на быстрый переход от утреннего света к темноте сцены, Любская тотчас же заметила массивный браслет на руке своей соперницы, которая с убийственною улыбкою поправила его.
Как ни считала себя Любская выше мира, в котором находилась, однако колени у ней задрожали, когда она увидела браслет, переходящий из рук в руки актеров и актрис. Последние восклицали:
– Да, счастливая!.. Да, весело!.. Да, девицы!..
– Не правда ли, хорошенькая вещица? – спросил ее актер с бесчисленными бородавками на лице.
Любская выхватила у него браслет и готова была бросить его в темный оркестр; но восклицания присутствующих образумили ее; дрожа всем телом и силясь улыбнуться, она осталась с поднятой рукой, как бы любуясь браслетом издали, и потом молча вручила его актеру с бесчисленными бородавками, который спросил:
– Ну что, хорош?
Любская молча кивнула ему головой.
– Надпись есть.
И актер с бесчисленными бородавками громко и торжественно прочел:
Завистниц имела,
Соперниц не знала.
А. Д.
Любская почувствовала в эту минуту прикосновение чьей-то руки: то был Остроухов, приближения которого она не заметила. Остроухов тихо шепнул ей:
– Иди отсюда: ты не вынесешь этой пытки.
Любская кинулась в темную кулису и, прислонясь к ней, тихо зарыдала.
– Тише, ради бога, тише: ты им подашь еще более поводу тешиться над собою.
Любская пугливо огляделась и дрожащим от гнева голосом спросила:
– Все знают?
– К несчастью, ты узнала последняя.
– Как?! – с ужасом и негодованием воскликнула Любская. – Неужели всё было ложь?
– Как видишь, – грустно отвечал Остроухов.
– Вы знали прежде?
– Да.
– Зачем же мне ничего не говорили?
– Ты так гордо держишь себя с нами, то есть с Федей.
– Он здесь? Боже, где он? – пугливо воскликнула Любская.
– Его здесь нет: он что-то болен.
Любская свободно вздохнула.
Парусинные кулисы, где говорила Любская с Остроуховым, заколыхались слегка. Остроухов приложил палец к губам, переменил разговор и тихо шепнул Любской:
– Смейся!
Любская засмеялась.
– Громче! – шепнул Остроухов и стал болтать равный вздор.
Смех Любской привлек многих актрис и актеров к кулисе. Любская с Остроуховым смеялись на всю сцепу, так что режиссер закричал:
– Говорю вам: штраф! тише! тише!
Уходя с пробы, Остроухов пожал Любской руку и с гордостью сказал:
– Если ты будешь так продолжать, вспомни меня – ты сделаешься замечательной актрисой.
Эта похвала вызвала слезы, которые изобильно текли по щекам Любской; выражение ее лица и всей фигуры было так убито, что Остроухов, сажая ее в карету, строго сказал:
– Неужели ты не имеешь гордости и приходишь в отчаяние от таких вещей, на которые должно отвечать смехом, как ты и сделала. Знаешь ли, что веселость твоя лучшее и самое верное мщение?.. Будь весела, поезжай куда-нибудь, где бы тебя могли видеть веселой, – одним словом, сделайся актрисой сегодня не за кулисами, не на сцене, освещенной лампами, а при дневном свете.
– Мне скучно! мне тяжело! – проговорила Любская, закрывая лицо руками.
– Вздор! ты должна быть сегодня веселой!
И, захлопнув дверцы, Остроухов велел кучеру ехать в модный магазин на главной улице города, сказав Любской:
– Ради бога, купи к завтраму себе какую-нибудь обновку. Проба в двенадцать часов.
Любская, поплакав в карете, скоро перестала, как бы вспомнив советы Остроухова. Она купила себе новую шляпку и возвратилась домой.
Но на лестнице она была испугана прачкой, которая, упав ей в ноги, загородила дорогу и завыла.
– Что такое? что? – пугливо спросила Любская.
– Сделайте милость, матушка! заставьте богу…
– Да скажи, что тебе? – нетерпеливо воскликнула Любская.
– Съезди ты, мать родная, благодетельница, к его милости!
– К кому?
– К Лиодору Алексеичу Калинскому; его милость намеднись пообещал определить мою Катю, а сегодня понесла ему белье: я, говорит, не могу; госпожа Ноготкова сама изволила заезжать ко мне и просить о своей какой-то родственнице. Ведь она человек богатый; а я, я-то где возьму деньги учить мою Катю?
И прачка завыла.
Слезы действовали неприятно на Любскую; она с жаром просила прачку перестать.
– Сами знаете, девочка умная: за что пропадет! А где мне взять? шутка ли – сколько корзин должна перегладить, перестирать! ну где мне и прожить-то долго…
Прачка готовилась еще пуще завыть.
– Не плачь, пожалуйста: я сейчас же поеду сама к нему, – сказала Любская и стала защищаться от прачки, которая, вознося ее доброту, ловила у ней руку, чтобы поцеловать…
Калинский тотчас же был уведомлен о предстоящем ему визите чрез своего камердинера, который находился у Куприяныча в гостях, когда прачка вбежала домой с сияющим лицом.
В ожидании Любской Калинский изыскивал себе эффектную позу. Сначала сел в кресле с книгой и приказывал собаке положить голову ему на колено. Наконец предпочел сесть у письменного стола, разбросав по нем бумаги и книги, и углубился в занятия, как только заслышал звонок в передней.
Камердинер, с шумом раскрыв дверь, возвестил прибытие Любской. Калинский с минуту оставался как бы пораженным, потом радостно кинулся к ней и, усаживая ее на диван, воскликнул:
– Боже! чему я обязан счастьем видеть вас у себя?
– Я думаю, очень обыкновенному случаю для вас: я, как и другие, приехала к вам с просьбой, – отвечала Любская.
– Приказывайте! – наклонив почтительно голову отвечал Калинский.
– Я прошу вас определить очень хорошенькую девочку.
Калинский задумался.
– Я вас умоляю, – не без кокетства произнесла Любская: она жаждала случая хоть чем-нибудь отмстить своей сопернице.
– О! для вас я готов изменить своему слову! – восторженно воскликнул Калинский.
– Поверьте, что совесть ваша будет вознаграждена: вы сделаете истинно доброе дело.
– Я забуду всё, чтоб угодить вам. Это цель моей жизни…
Калинский остановился, заметив легкое содрогание Любской, которая гордо взглянула на него; с минуту они пытливо глядели друг на друга.
– Вы сердитесь на меня? – спросил Калинский.
– Кто? я? за что? вы опять заговорили по-старому? – покойно отвечала Любская.
– Нет!
– За письмо?..
Любская засмеялась.
– Как вы веселы! – с удивлением заметил Калинский.
– Отчего же мне скучать?.. Я окружена людьми, которые заботятся обо мне, исполняют мои…
– О, я вижу, вы по-прежнему меня не понимаете и всё толкуете в дурную сторону…
– Мое мнение изменится, если вы исполните мою просьбу.
– Для этого я готов принести всё в жертву!
Любская встала.
– Вы бежите, – с грустью заметил Калинский.
– Вы, кажется, были заняты: я боюсь…
– Как вы злы! неужели вы не знаете, что вас видеть для меня…
– А много говорит ваш попугай? – перебила его Любская.
– Он забавен, а главное – ужасно привязан ко мне; впрочем, я любим всеми, кроме…
– Вы, как Робинзон, окружены зверьми, – сказала Любская, указывая на собаку.
– Да, это верное животное и очень привязанное ко мне.
– Зачем же она на веревке? – спросила Любская.
Калинский смешался, но тотчас же отвечал с приятной улыбкой:
– Она ревнива ко мне.
Любская улыбнулась, попросила, чтоб отвязали собаку, и сказала:
– Я вас уверяю, она ничего не сделает, по крайней мере мне.
Не скоро удалось Калинскому освободить свою собаку: она не давалась ему, и когда наконец ошейник был снят, кинулась под диван и заворчала.
Любская кусала губы от смеху, потому что Калинский весь побагровел, нежными словами выманивая собаку, которая рычала всё сильнее; попугаи присоединился к ней своим криком.
– Они сегодня меня бесят! впрочем, это понятно: они никогда не видали у меня в кабинете дамы.
– И потому их ревность не имеет границ, – перебила Любская и, еще раз повторив просьбу свою, раскланялась и вышла.
Экипаж ее не успел еще отъехать от крыльца, как по всей квартире Калинского раздался вой собаки и крики попугая.
Калинский сердито кричал своему камердинеру, тащившему собаку за шиворот из-под дивана:
– Скажи собачнику, что гроша не дам, если не приучит ее лежать на подушке без привязи и не отвадит лазать под диван.
И он принялся наказывать вызолоченной палочкой своего попугая.
По возвращении домой душевное напряжение Любской разрешилось отчаянием, которое не было тихо и безвыходно: нет! рыдания ее были гневны; краска на лице, взгляды и движения доказывали, что для ее горя есть еще облегчение; известно, что ничего нет страшнее тихой скорби.
Любская написала к Дашкевичу письмо и приказала отдать, когда он приедет, а сама заперлась в спальне.
В то самое время, когда для Любской всё окружающее казалось печальным и мрачным, прачка находилась наверху блаженства: Семен Семеныч явился к ней с извещением, чтоб она везла Катю в ученье. Прачка бросила недоглаженную юбку, ахала, смеялась, кидалась во все углы, собирая узелок для своей дочери, и поминутно восклицала:
– Господи! господи! чем я ей заслужу?
Или:
– Вот и моя Катя будет в карете ездить и шелковые платья носить!!
– Я приду домой завтра? – приставала Катя к матери с вопросами.
– Глупенькая, скорее надень чистые чулки да пойдем проститься к верхней барыне.
– Я надену и новый платочек?
– Да, да! Куприяныч! попотчуй водочкой-то Семена Семеныча!
И прачка сунула в руку камердинеру красную бумажку.
Он с любезностью поклонился.
– Ну, прощайте, – сказала прачка.
– С богом-с, – отвечал Семен Семеныч.
Прачка уже взялась за ручку двери, как остановилась и воскликнула:
– Что это, я, кажись, от радости рехнулась! Катя, простись с отцом да помолись богу!
И прачка усердно стала молиться. Катя последовала примеру матери.
– Ну, прощайся! – сказала прачка, толкнув Катю к Куприянычу.
Катя нехотя подошла к нему и тихо сказала:
– Прощайте!
– С богом, прощай! – отвечал равнодушно Куприяныч и в первый раз поцеловал Катю в лоб.
– Перекрести! – заметила прачка своему мужу.
Он перекрестил.
Прачка сняла с шеи маленький серебряный образок и, благословив дочь, схватила ее за голову, прильнула к ней губами и заплакала. Катя, не понимая, впрочем, о чем плачет мать, тоже заплакала, и рыдания наполнили подвал.
– Полноте-с, о чем тут плакать, сами изволили желать! – заметил Семен Семеныч.
Куприяныч ничего не говорил. Он пожимал только плечами и насмешливо глядел на свою жену.
Прачка ничего не слушала; она дрожащими руками крестила свою дочь, целовала ее голову, даже руки и длинные косы, и, прижав девочку к своей высохшей груди, твердила:
– Катя, не забудь свою мать, не забудь ее!
Семен Семеныч, видя, что слезам прачки не будет конца, сказал:
– Что это-с вы ребенка-то пугаете: ведь они заробеют!
– Ах, батюшка, будет ли она счастлива! – воскликнула прачка и рыданием заглушила свои слова.
– Ну ведь у ней опухнут и покраснеют глаза; скажут еще, что болезнь какая, – нетерпеливо отвечал Семен Семеныч на вопрос прачки о судьбе дочери.
Прачка прекратила свои рыдания, перекрестив и поцеловав в последний раз дочь, вытерла ей слезы, пугливо поглядела ей в лицо и нетвердым голосом сказала:
– Ну, пойдем!
И прачка печально вывела за руку свою дочь из подвала.
В кухне Любской был большой беспорядок. На плите кипел бульон; недоглаженное платье было забыто горничной, которая, важно облокотясь на доску, кричала страшно. Перед ней стояла маленькая женщина в шелковом салопе и в шляпке с помятыми цветами. То была горничная Ноготковой. Денщик с нафабренными усами, с гордой осанкой, стоял в шинели, навьюченный чубуками, фуражкой, саблей и сюртуком.
Сидоровна, вся в лохмотьях, с веревкой в руке, жалась в углу у дров, только что ею принесенных.
Разговор был горячий между горничными и денщиком. Они не скоро заметили приход прачки, ее дочери и Семеныча. Елена Петровна встретила последнего радостным восклицанием; но камердинер не заметил ее и прямо адресовался с вопросом к денщику:
– Переезжаете?
– Да, мы любим по-походному: сегодня здесь, а завтра там.
И он указал на горничную Ноготковой, которая отвечала:
– Да я не то что Олена Петровна: я воли вам не дам-с.
– Ну так мы приступом возьмем.
Смех раздался в кухне.
– Прощайте, Олена Петровна, – начала прачка, толкая Катю, которая протянула губы к горничной.
– Это куда разрядилась? – спросила горничная Любской.
– Учиться, – с гордостью отвечала Катя.
– А глаза что красны: мать, что ли, била?
– Ах, Олена Петровна! когда же я ее била? – обидчиво заметила прачка.
– Мы пришли проститься с вашей барыней.
– Некогда – плачет! – отрывисто отвечала горничная и подмигнула денщику, который самодовольно закрутил усы.
Семен Семеныч лукаво улыбнулся и шепнул горничной Ноготковой:
– Чай, и ваша скоро заплачет?
– Наша не из таких: она плакать не станет, а глаза выцарапает.
И она обратилась к Олене Петровне и озабоченно продолжала:
– Так розовое наденут? Ну и наша розовое, только с иголочки. Прощай, Оля! Заходи кофейку испить.
Горничные дружно поцеловались и расстались.
– Важнеющая особа! – заметил денщик, провожая глазами горничную Ноготковой.
– Да, только язык-то длинен! – с сердцем заметила Олена Петровна.
Прачка обратилась к ней с вопросом:
– Нельзя ли доложить?
– Отвяжись ты от меня! – грубо закричала Олена Петровна. И, закатив глаза под лоб, она обратилась к денщику и нежно сказала: – Прошу лихом не вспоминать нас. Заверните когда-нибудь вечерком.
Денщик гордо раскланялся и ушел.
Сидоровна и ему отвесила всегдашний раболепный поклон, на который обыкновенно никто из приходящих и уходящих не отвечал ей.
Через полчаса Катя сидела на скамейке в спальне у Любской, которая переплетала густые косы будущей актрисы.
В кухне Сидоровна раскладывала на столе карты на будущую участь Кати. Прачка, пригорюнясь, то радостно улыбалась, то тяжело вздыхала, наблюдая предсказание засаленных карт Сидоровны, которая вечно носила их за пазухой.
Куприяныч один был равнодушен к будущности Кати. Он бегал со щипцами по комнате, бросался на пол, ловя желто-серого кота, который в зубах держал мышонка. Наконец Куприянычу удалось поймать за хвост серого кота и выхватить из его зубов жертву. Он кинул мышонка к черному коту и напряженно следил за движениями своего любимца, который, царапнув лапкой мышонка и понюхав его, медленно отошел.
В то время воротилась прачка с грустным лицом; Катю же повезла сама Любская. Куприяныч начал доказывать жене, как полезно и необходимо иметь кошек в доме, и, показывая мышонка, лежавшего, поджавши лапки, сказал:
– Небось всё перегрыз бы, ведь мог попортить дорогую рубашку аль платье какое. А вот мой чернушка его цап-царап.
Прачка так была, огорчена разлукой с дочерью, что только махнула рукой. Муж стал приводить в порядок свою постель, готовясь улечься.
Завидя смятое платье Кати, прачка снова заплакала, но скоро с сердцем вытерла слезы своей сухой рукой и занялась глаженьем.






