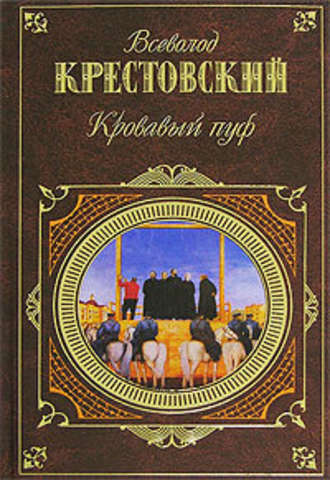
Всеволод Владимирович Крестовский
Панургово стадо
– Гляди, банкротами объявятся! – замечали в толпе.
– А может, ради иного злостного банкротства и Толкучий горит! – предположил некто.
– Нет, барин, врешь! Толкучий не купечество, а хищные люди подожгли! Уж они давно на него зарились! Те самые, что народ православный по миру пустить хотят да нехорошие бумаги подбрасывают! Это уж мы доподлинно знаем! Это верно!
Лавки, оказавшиеся пустыми, стояли под №№ 40, 44 и 45 [101].
Солдаты выносили товары и вещи, но все это было вполне бесполезно. Ни купцы, ни приказчики не условливались с ними о местах складки, и те впопыхах, роняя по дороге и подымая вещи или будучи задержаны толпой, теряли из виду своих провожатых и потом отыскивали их при шуме и замешательстве, нарочно производимом многочисленными мошенниками, на которых слышались жалобы из разных мест и лавок и которые объявляли себя хозяевами чужого добра. Приказчики разгоняли их, дубася по чем попало железными замками, звали полицейских офицеров и солдат; но те и сами не знали, в какую им сторону идти и брать ли этих господ, от которых хотя и припахивало водкой, но которые по большей части одеты были прилично, называли себя дворянами или чиновниками и с примерным бескорыстием усердствовали в разбитии дверей тех лавок, хозяева которых не успевали вовремя явиться на место.
Вообще повсюду шел грабеж страшнейший. Хозяева вещей стараются поймать вора, ловят и правого и виноватого, завязывается драка, вступается полиция, а грабеж тем часом идет еще более.
А тут у Апраксина переулка «поджигателя» вдруг поймали.
– Гей! ребята! Вали смотреть! Поджигатель! Поджигатель! – ревет толпа, обуянная злобой и любопытством.
Человек десять ухватили какого-то бледного от страха молодого человека, перед которым стоит лавочник и держит в руках бутылку с каким-то черным порошком и коробок спичек, отнятые у «поджигателя».
– Что это за порошок, любезный?
– Э, робя! Это порох!.. Ей-ей, порох! Ишь, какой блестящий!
– Мажь ему рожу! Мажь эфтим самым суставом! – вопит толпа.
– Держи, братцы, крепче! вот я ему сейчас! – говорит лавочник, насыпая в руку порошок из бутылки.
Пойманный судорожно приседает.
– Стой, братцы! – кричит кто-то. – Давай, я на язык попробую!
– Не трошь! Рот обдерет!
– Полно!.. Еще, гляди, помрешь аль лопнешь сею секундою!
– Небойсь!.. Не помрем!.. Давай!.. Я сейчас узнаю!
Порошок оказывается обыкновенным черным песком, для засыпки письма.
– Ну, ступай с Богом! Христос с тобой! Не сердися!.. Сам видишь, время ноне какое!
Пойманный, перекрестившись, пускается бежать что есть духу.
– Держи! Держи! Вот бежит! Вор! – преследует его криком какая-то баба, вконец ошалелая от страха.
Несколько человек из толпы кидаются ловить «вора», который сейчас только что был «поджигателем». К счастью, полиция поспешает на выручку.
А в это же самое время бежит по улице, выпучив глаза, какой-то растрепанный, оборванный, но бывший порядочно одетым человек, без шапки, с обезображенным лицом. Он бессмысленно смотрит вперед, беспорядочно машет руками и вопит страшные проклятия.
– Сумасшедший!.. помешался! господи!.. Человек в уме помешался! – проносится в толпе стон сострадания.
Помешанный бежит далее и исчезает в народе. Какая-то растрепанная женщина, с ребенком на руках, вдруг бросается с визгом под пожарную тройку.
– Стой!.. Стой!.. Берегись! Раздавили!.. Под лошадей попала!.. Ребенок-то, ребенок!.. Ай-ай-ай, Господи!.. – проносятся отчаянные крики.
Пьяный господин, в отставном пальто, с кокардой на красном околыше потертой фуражки, азартно колотит по зубам встречных и поперечных и хрипло, начальственным тоном орет:
– Назад!.. Назад, говорю вам! Сюда нельзя! Не сметь ходить сюда!
Смущенная толпа молча пятится перед азартною кокардой.
То там, то здесь появляются разные самозваные начальники и запретители, которые обращаются с приказаниями к толпе, что «и сюда, мол, нельзя, и туда нельзя». Иногда толпа послушает запретителя и попятится, а иногда какой-нибудь смельчак и по зубам его съездит. Засим неизбежно поднимается драка, кончающаяся целой свалкой…
– Поберегись!.. Уйди!.. Прочь с дороги! Убью!.. Берегись! Караул!.. Ка-ра-у-у-ул! Стой!.. Что за человек такой? – неумолкаемо раздается со всех сторон над одуревшею толпою.
Какой-то старик с длинной седой бородой, припав лицом к стене, вдруг тяжко и страшно зарыдал разбитым, старческим рыданьем.
– У!.. Разбойники!.. Жечь их! самих жечь! – гудело в толпе со стоном и скрипящею злобою.
Страшный ветер отрывал от пожара целые клубы пламени и нес их в воздухе отдельными клочьями.
Около шести часов пополудни огонь показался на противоположной стороне Фонтанки. Быть может, его перебросило. Здесь, по-видимому, никто не чаял нового пожара, как вдруг, почти мгновенно, осветило дровяные дворы и дощатые склады; затем и четверти часа не прошло, как уже пылали Чернышев, Троицкий и Щербаков переулки. В последний, в особенности, было страшно взглянуть: это самый узкий из всех петербургских переулков, застроенный, по большей части, ветхими деревянными лачугами, и теперь в нем кипела и трещала целая река непрерывного, сплошного огня: там уже ни души не было. Оттуда можно было только спасаться, но не спасать. В общей сложности, горело пространство, по крайней мере, на три версты в окружности. Тринадцать частей с их резервами – все, чем богат в этом отношении город, – были раскинуты на столь громадном протяжении и совершенно терялись в нем. Работа их, по-видимому, была вполне бессильна. Пожарные солдаты, измученные длинным рядом предшествовавших беспрерывных пожаров, в течение целых двенадцати дней лишенные сна и покоя, часто по целым суткам голодные от недостатка времени проглотить какой-нибудь кусок, – в настоящую минуту еле двигали руки и ноги. Сколько из них, бывало, в ожидании воды, присядут к колесу бочки и тотчас же засыпают глубоким сном; сколько, бывало, валились с ног на мостовую в совершенно бесчувственном состоянии; один стал было коленами на подножку, склонил голову на дроги, да так и остался недвижим: никакими усилиями не могли его растолкать – он онемел совершенно. А сколько этих людей калечилось, убивалось, гибло в огне жертвами собственного самоотвержения! Спасибо еще, что находились добрые люди, которые привозили им на пожар хлеба, вина и калачей, – и трудно представить себе, до какой степени простиралась благодарность этих солдат. Хватив глоток водки и на ходу закусывая куском хлеба, они с новой энергией кидались в свою каторжную работу и делали все, что только в состоянии сделать человеческие силы.
В минуту тяжких общественных испытаний как-то само собою сглаживается и исчезает то, что зовется кастою, сословностью, разностью положений, званий и состояний. Вместо этого является масса, сила, мир, нечто единое, или то, что можно понимать под словом народ, в самом широком смысле. Так было и теперь. Пожар стал общей бедой; тушить его стало общим делом. Офицеры гвардии и отставные солдаты, чиновники, пажи, гимназисты и студенты, лицеисты и правоведы, денди в изящнейших пальто, с пенсне на носу, и пролетарии с Сенной площади, священники, негоцианты, капиталисты и нищие, лица заслуженные и простые работники, баре и мещане, – словом, все, кто только мог, посильно помогали делу; карабкались на подмостки пожарных машин и, облитые потоками грязной воды, обсыпанные пеплом, под дождем сыплющихся искр и углей, усердно качали и качали воду, опустошая на всех пунктах целые сотни бочек. В одном месте какой-то заслуженный, седой генерал, видя, что рвение толпы к помощи начинает ослабевать, а утомленные между тем выбиваются из последних сил, влез на пожарную трубу и, не говоря ни слова, что было мочи стал качать воду. Этот пример был своего рода электрической искрой: сотни рук в одну минуту двинулись к машине, чтоб освободить честного доброго человека от непосильного ему труда. Двое кадет инженерного корпуса виднелись вместе с несколькими пожарными на объятой пламенем крыше высокого, пятиэтажного дома и усердно работали там топорами. Какой-то молодой человек, без сюртука, одетый в одну рубашку и панталоны, с студентской фуражкой на голове, с топором за кожаным поясом, предводительствуя небольшой группой своих товарищей-студентов, просто поражал толпу, смотревшую на пожар, чудесами неимоверного мужества. Сначала он работал около министерства внутренних дел, но потом, когда тут нечего уже было делать, бросился со своими товарищами в Троицкий переулок. За ним последовала целая толпа, чтобы полюбоваться на молодецкий образ действия отважного юноши. Тут он по лестнице бросился на один из загоревшихся уже домов, и толпа снизу видела, как из-под его топора летели щепы, когда он быстро рубил горевшие балки. Товарищи его помогали ему сбрасывать балки наземь, но вдруг раздается зловещий треск, под студентом рушится потолок, и он проваливается. Крик ужаса вырвался у глядевшей толпы. Прошло минуты две ожидания, обдающего немой тишиной и дрожью, и холодом. Но вот он, однако, показывается в окне пылающего верхнего этажа. Товарищи его, успевшие между тем спуститься вниз, помогают ему сделать то же, приставляют лестницу, но он видимо страдает от боли. Не прошло и пяти минут, как снова, заткнув топор за пояс, он вновь взбирается по лестнице на другой горящий дом, хотя толпа и не пускала его. Это самоотвержение тем более могло назваться подвигом, что толпа громко говорила, будто Петербург жгут поляки и студенты. Один вид синего околыша студентской фуражки возбуждал уже в этой слепой толпе враждебную подозрительность и негодование.
Примеры великодушия являли многие городские и ломовые извозчики. Более полутораста ломовых прикатили к месту пожара с Калашниковой пристани, чтобы перевозить товары за самую ничтожную плату и даже вовсе без всякой платы. Один извозчик, с Литейной, прислал для той же цели безвозмездно пятнадцать четвероместных карет. Но зато были и такие спекулянты, которые за перевозку клади от Гостиного двора на Царицын луг, расстояние менее чем полверсты, драли по тридцати пяти рублей с воза или по пятидесяти с омнибуса. Кто хотел в мутной воде рыбу ловить, тому было теперь всяческое раздолье.
XXI
Наши знакомцы на пожаре
Андрей Павлович Устинов в этот день обедал у Стрешневых. Еще сидели за столом, когда принесена была весть, что Толкучий горит. Через полчаса опять прибежала горничная и объявила, что пожар – страсти какой! что в Петербурге отродясь такого и не видано! Татьяне Николаевне вздумалось пойти поглядеть, что там такое делается, и она отправилась вместе с Устиновым.
Литейная, Владимирская, Александрийская площадь, Садовая, словом, все ближайшие к пожару улицы, площади и переулки были запружены народом и экипажами, загромождены мебелью, завалены товарами, узлами и всякими пожитками. Бабы ревмя ревели, сидя на них и карауля остатки своего добра от расхищения. Солдаты с ружьями там и сям стояли часовыми при грудах имущества. Длинные цепи их протянулись вдоль ближайших улиц. Из домов продолжали выносить и спасаться жильцы. Со всех сторон было одно и то же: пламя, дым, обгорелые бревна, стропила, доски, оторванные листы железных крыш, мрачные остовы сгоревших домов, закопченные стены, выбитые окна, искры и головни… Повсюду беготня, езда, суета, сумятица, слезы и вопли, крики, ругательства и проклятия, и все это покрывается свистом порывистого ветра, ревом пожара, треском рушащихся домов и шипеньем высоких струй воды, направляемых в самые сильные пекла.
– Поджигают!.. Поджигают! – слышалось со всех сторон, от встречного и поперечного.
Кто поджигает! – Тьма предположений, но ни одного положительного, верного ответа. Одно только чувство немедленной и беспощадно-страшной мести невидимым, тайным врагам с каждой минутой все более и более разгорается в массах народа.
Устинов, под руку со Стрешневой, пробирались по Троицкому переулку. Перед воротами одного дома им поневоле пришлось остановиться, так как огромная толпа стояла тут не двигаясь и глядела на загоравшийся дом с противоположной стороны переулка.
– Батюшки! да никак это наша коммуна выносится, – сказала Стрешнева, заметив в двух шагах от себя Лидиньку Затц, сидевшую на груде узлов и мебели. – Ну, так и есть, вон и Малгоржан тащит сюда что-то!
– Лидинька! Здравствуйте! – крикнула ей Татьяна.
Затц обернулась. Лицо ее было нервно и встревожено. На нем явно отпечатывались испуг и растерянность.
– Ах, это вы!.. Здравствуйте, здравствуйте, миленькая! – быстро и взволнованно заговорила она, видимо обрадовавшись. – Голубушка, помогите, Христа ради!.. Выносимся… сейчас, верно, и у нас загорится… Помогите, покараульте вот… За всем не доглядишь, а у меня уж и то новое пальто украли… Эдакое бедствие!.. Ах, уж, кажется, если бы только узнать, кто эти мерзавцы поджигатели, вот бы уж, кажется, своими руками!.. Расстреливать эдаких извергов мало!.. Ведь тут народ, целый народ страдает!.. Подлецы эдакие!.. Но пальто мое… Господи! на прошлой неделе только двадцать пять рублей заплатила… и представьте, сейчас стащили вот… Эдакая обида!
Вдруг в эту самую минуту из-под ворот послышались отчаянные крики: «держи!.. держи, братцы, держи!», и вслед за тем выскочила какая-то бледная, испитая, оборванная фигурка, без шапки, кутая что-то под мышкой, и тотчас же за нею появился Ардальон Полояров. Бледный и растрепанный, с горящими, ошалелыми глазами, он гнался во всю прыть за испитою, оборванною фигуркою и простирал вперед руки, силясь догнать и поймать ее.
– Держи, братцы, держи!.. Вор! Мазурик!.. Сейчас штаны мои из-под руки стащил! – вопил запыхавшийся Ардальон, вслед за которым, словно мячик, выкатился и Анцыфрик, пища во весь свой плюгавый голосенок:
– Держи! штаны украл!.. штаны наши! Держи его!.. в полицию!.. Батюшки!.. грабят!..
Толпа тотчас же задержала испитого мазурика, который, весь дрожа и приседая от страху, кидал вокруг себя дикие, молящие взгляды.
Полояров нагнал его и цапнул за волосы.
– Вот он, кто поджигатель-то!.. Вот он! – вопил Ардальон Михайлович. – Отдай штаны, подлец!.. Братцы, помогите! Отымите! За что ж им грабить-то позволяют!
Коммунисты гуртом бросились спасать полояровские штаны. Толпа мигом окружила и Ардальона, и мазурика и загудела своим смешанным, но зловещим гулом.
– Бей его!.. Бей, братцы! – раздавался сквозь этот гул озлобленно-растерянный голос Ардальона.
Несколько кулаков замелькали над головами широкими размахами, и вслед за тем всю душу раздирающий крик и жалобные стоны пронеслись над толпою.
– Уйдемте… Бога ради, уйдемте поскорей отсюда! – прошептала побледневшая Татьяна, прижимаясь к руке Устинова.
Они с величайшим трудом прокладывали себе дорогу. Иногда волна людской толпы захлестывала их собою, подхватывала и несла вперед своим собственным невольным движением, и в такие минуты было легче идти: приходилось только защищать свои бока, но самому продираться было уже не к чему: толпа несла сама собою.
Таким образом, и сами не понимая как, они вместе с захлестнувшим их потоком очутились на Чернышевской площади, пред пылающим министерством внутренних дел. Тут было несколько просторнее и потому сказывался кой-какой порядок. Груды бумаг и «дел» валялись на мостовой. Порывы ветра подхватывали их, рвали, кружили и разносили в стороны. Несколько студентов захватили пять или шесть извозчичьих дрожек и, навалив туда кипы этих бумаг, отвозили их под своим надзором в более безопасное место. Другие ловили и подхватывали на лету отдельные листы и отдавали их тем же студентам. Фасад министерства стоял под ветром, и потому языки огненного пламени, выкатывавшиеся из всех окон верхнего и среднего этажей, плавно подымались вверх, и уже оттуда ветер метал их во все стороны. Сквозь пролетные арки соседнего дома министерства народного просвещения, несмотря на огонь адского пожара, порою открывалось вдали на несколько мгновений небо, все багровое от последних лучей заходящего солнца. Начинало смеркаться. В воздухе понемногу темнело, и вместе с синевою сумерек увеличивалось зарево пожаров. Оно становилось теперь каким-то грозным, зловещим, ярко-кровавым. Стаи голубей и листы бумаги все еще высоко кружились над пожарищем, мгновеньями сверкая под лучами огня своею яркою белизною. Иногда бумага казалась птицею, а птица бумагой. Вода в Фонтанке вся поворонела, и на мелких изломах ее зыби, словно на стальной чешуе, мириадами светлых точек, полосок и змеек играли отблески кровавого огня. По течению медленно плыли одна за другой три покинутые барки, наполненные дровами. Одна из них горела.
Устинов и Стрешнева молча, с какою-то обмирающею скорбью в душе, глядели на всю эту мрачную, ужасную картину.
Спиною к ним, в каком-нибудь шаге расстояния, остановились двое молодых людей и, по-видимому, любовались пожаром.
– Это тоже из коммунистов, – шепнула Татьяна, указав на одного из них глазами. – Я и другого, кажется, там встречала…
То были Моисей Фрумкин и Василий Свитка, нечаянно столкнувшиеся где-то на пожаре. Свитка, против обыкновения, щеголял теперь не в чамарке, а в обыкновенном пиджаке.
– А славно горит… Просто прелесть, какая картина! – с улыбкой обратился он к Моисею.
– Н-да! эффектно, черт возьми! – процедил тот сквозь сжатые зубы.
Какой-то пожилой, обрюзглый господин с рыжими усами и с чиновничьею кокардой на шапке, стоявший тут же по соседству, почти рядом с ними, свирепым взглядом поглядел на обоих, молча, но в высшей степени подозрительно.
Те, однако, продолжая любоваться эффектом огня, не заметили этого взгляда.
– Quae mеdicamenta non sanant – ferrum sanat, quae ferrum non sanat – ignis sanat! [102] – тихо, но веско проговорил Свитка.
Чиновник снова метнул на него подозрительный взгляд и стал прислушиваться.
– Это старая истина и, кажись, справедливая, – согласился Фрумкин. – А ведь, говорят, будто это поляки? а? – с улыбкой обратился он к приятелю.
Тот поглядел на него через плечо таким взглядом, в котором сквозила и насмешка и презрение.
– Вы полагаете? – сказал он. – Говорят тоже, будто русские студенты, но я этого не полагаю. Чтó же касается до поляков, то у них пока еще, слава Богу, есть другие средства борьбы; а на это дело и из своих, из русских, найдется достаточно героев.
– Н-да, северный исполин просыпается, – с оттенком какого-то самодовольного самохвальства заметил Моисей Фрумкин.
– Да нам-то что до этого «исполина», до этого Росса-колосса! Ведь мы с вами не принадлежим к его туранской национальности, – с легкою иронией заметил Свитка.
– Конечно, я космополит в сущности! – поспешил объясниться Фрумкин, подметивший иронию приятеля и, как еврей, понявший, куда она метит. – Но ведь космополитизм не враг идей о национальности, если только эта идея подымается во имя революционного начала, в смысле общеевропейской революции.
Рыжие усы с кокардой очевидно ловили каждое слово этой неосторожной беседы.
– Ignis sanat [103], – продолжал между тем Фрумкин. – Это конечно так! Средство слишком радикальное, но оно должно наконец подействовать, именно потому, что это радикально!
– А что ваша типография? – перебил его Свитка.
– Слава Богу, я успел застраховать ее! – мимоходом ответил Моисей и поспешил вернуться к дальнейшему развитию своей темы. – Как бы то ни было, но мы видим, что правительство бессильно, – говорил он, – правительство не может и не умеет бороться даже и с этими пожарами: оно само горит. Сегодня, даст Бог, сгорят эти два министерства, а завтра, может, и остальные. И народ тоже ведь очень хорошо видит и понимает это бессилие, он начнет завтра же презирать ту власть, которая сегодня не может и не умеет помочь народу. А между тем горят-то все не богатые, а самые бедные кварталы – значит, тотчас же возникнет пролетариат, с ненавистью к правительству и к капиталу, который не горит теперь, а выезжает на дачи. Пожары – вот вы увидите, окончательно раздражат народ и сделают его восприимчивее для принятия новых идей и порядков, – ну, и конечно, хочешь не хочешь втолкнут его в революцию. А ведь этого, в сущности, только и нужно, и с этой стороны я понимаю и даже оправдываю пожары.
Но не успел еще Моисей договорить последней фразы, как подслушивавший чиновник с яростью ухватил его сзади за шиворот.
– Братцы! Православные! Бунтовщик! Поджигатель! – закричал он на всю площадь своим хриплым басом. – Эй! Народ русский! Сюда! Ко мне! Я врага отечества поймал! В-р-р-рага отечества! Казни его, народ православный! Выдаю тебе его головою! Вот он!
Рыжие усы мощной рукой потрясали шиворот съежившегося Фрумкина, который, как ни старался вывернуться, однако ничего не поделал. Свитка же, чуть лишь заметил в самый первый миг эту руку, схватившую его знакомца, тотчас же юркнул назад и затерялся в толпе.
Несколько десятков человек самого разношерстного народа в ту же минуту плотно окружили со всех сторон чиновника и Моисея.
– Хвалил пожары! Говорит, что это хорошее дело, что он одобряет! – докладывал толпе поимщик. – Обыскать его, братцы!
– Обыскать! Обыскать! – подхватили в толпе, и несколько рук запустилось во все карманы как смерть побледневшего Фрумкина.
– Вот оно!.. Вот!!. Нашел!.. Всю механику, братцы, нашел! – выкрикнул один голос – и перед глазами толпы появились мельхиоровая спичечница с желтым селитряным фитилем, пара сигар, какие-то пять порошков в аптекарских конвертиках.
– Это у тебя зачем имеются поджигательные снаряды? – допытывал чиновник в героической позе судьи и решителя. Хотя от этого оратора и сильно отдавало сивушным маслом, но толпа на такое обстоятельство не обратила ни малейшего внимания, которое было поглощено «поджигателем» и сделанными у него находками.
– Я тебя спрашиваю, для чего у тебя эти поджигательные снаряды? – продолжал яростный оратор-судья и следователь.
– Это спички… папиросы зажигать, – пробормотал вконец оробевший Фрумкин.
– Папиросы зажигать? А может, и столицу поджигать?
– Это так! «Поджигать»! Это верно! – гудели голоса в окружавшей толпе.
– А зачем у тебя эти порошки?.. Это, братцы, самый состав-то и есть, которым поджигают! – объяснил чиновник, обращаясь ко всему ареопагу.
– Боже мой… зжвините, это Доверовы порошки… позвольте, я проглочу один хоть сейчас же… вы увидите! – бормотал Фрумкин, тщетно ища себе хотя в ком-нибудь некоторой поддержки.
Но все глаза так предубежденно, так подозрительно и с такою злобою смотрели на него, что тут уж решительно нечего было ждать себе защиты.
– Православные! – хрипел между тем чиновник. – Я сам был земским заседателем по этим делам! Я знаю, что это зажигательный снаряд… Я сам все время слышал, как он хвалил пожары!.. Полицию сюда! Полицию!
– На што полицию! – отзывались в толпе, – с полицией лишняя возня, а лучше своим судом!
– Своим! Своим судом лучше! – подхватили десятки новых голосов. – В огонь его, душегуба, да и вся недолга! В огонь!.. Бери, братцы! Подхватывай!.. Чего ждать-то!.. Швыряй прямо в огонь-то!.. Псу песья и смерть! пущай подыхает! В огонь его! В полымя! Умел поджигать, умей и жариться таперя.
– Братцы!.. Я руссшкий… Я правошлавный… Я ув Бога верую! – молящим голосом бормотал Фрумкин и спешно стал креститься для доказательства, что он и русский, и в Бога верует.
– Русский? – откликались ему в толпе. – Врешь, брат – жид! по голосу слышно!.. По роже видно, что нехристь! Небось, не надуешь!.. В огонь его, братцы!.. Берися!..
Десятка полтора охочих рук подхватили несчастного Моисея за руки и за ноги и потащили к огню, с намерением раскачать его и швырнуть в пламя.
В эту самую минуту, к счастию заметив особенное движение толпы, налетел на нее какой-то полицейский майор верхом и двое жандармов.
– Гасшпадин офицер! – гасшпадин офицер! Бога ради!.. Спасите!.. Невинного спасите! – громко молящим, отчаянным голосом взывал к нему Фрумкин.
Майор, с помощью жандармов, силою разогнал толпу, и все они тотчас же взяли под свою непосредственную опеку злосчастного космополита, о котором, впрочем, толпа почти тут же и позабыла: внимание ее в эту самую минуту всецело отвлеклось в другую сторону.







