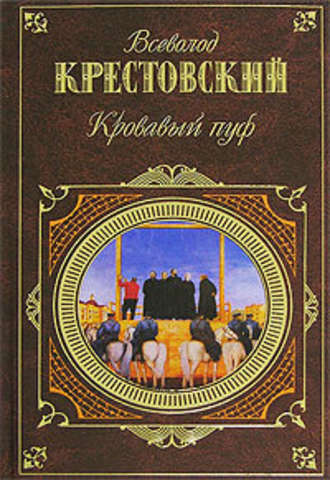
Всеволод Владимирович Крестовский
Панургово стадо
XXI
Без дочери
Не скоро пришел в себя старый Лубянский, но все-таки мало-помалу более спокойное, сознательное горе тихо овладело им, и среди этого горя нашлось еще место надежде. Надежда же явилась потому, что слишком велика была любовь его.
«И куда это поскакала она, сумасшедшая? – думал себе майор, слоняясь из угла в угол по всем комнатам; – к дурище к этой Затцихе, что ли? или к Татьяне Николаевне?.. Нет, та не того покроя, к той не поскачет!.. Неужели к Полоярову? – вдруг мелькнула ему жуткая, страшная мысль, которую он всячески постарался тотчас же отогнать от себя. – Нет, нет… нет, не может этого быть!.. Какие глупости бредут мне в голову!.. Это я расстроен нынче, это оттого все… Моя Нюточка, нет, нет, она этого не сделает… Верно, у Затцихи… Она скоро вернется, – утешал он себя баюкающею надеждою, – образумится и вернется… Она благоразумная ведь… не может не вернуться… Надо тогда поговорить с ней… Надо покротче, поласковее… Ведь и я уж тоже! Разве можно эдак-то круто?.. Этак нельзя… Надо уговорить, урезонить… Она поймет же ведь наконец». А между тем время шло да шло себе, и пробило уже десять часов.
Майор снова начинал тревожиться и сердиться. «Ведь эдакая, право, скверная, упрямая девчонка! Характер-то какой настойчивый!.. Это хочет, чтобы я покорился, чтобы я первым прощения просил да по ее бы сделал… Ну, уж нет-с, извините! Этого не будет! Этого нельзя-с!.. Да-с, этого нельзя-с!.. Из-за пустой поблажки да честных, хороших людей обижать, это называется бабством! А я не баба, и бабой не буду!.. Да-с, не буду бабой я! вот что!»
Майор, жестикулируя, размахивая руками и говоря сам с собою вполшепота, все к кому-то обращался, словно бы в этой комнате сидела воображаемая Нюточка.
«Нет, надо будет взять другие меры!.. Непременно другие меры!» – советовал он самому себе. Но какие именно будут эти предполагаемые меры, старик не определял, и даже будто избегал такого определения: он только как бы утешал и баюкал себя тем, что меры непременно должны быть другими. «Хорошо бы всех этих господ тово… в шею! – показал он выразительным жестом, – чтобы и духом их тут не пахло! тогда будет отлично… тогда все как нельзя лучше пойдет!.. Да-да, непременно другие меры»…
«Но, Господи! Что же это Нюточка?!.»
Пробило одиннадцать, а ее все нет еще. Вот и половина двенадцатого, вот и двенадцать, но Нюта не возвращается. Беспокойство все более и более овладевало стариком, и к этому беспокойству примешивалась и тоска, и страх безотчетный. Он решился ожидать до часу, и все время, в открытую форточку, напряженно и чутко прислушивался – не дребезжат ли на улице дрожки, не слыхать ли легких, приближающихся шагов… Он бы по чутью угадал звук походки своей дочери. И вот изредка послышатся чьи-нибудь шаги, – майор встрепенется, сердце его станет биться порывистей, напряженнее… но нет, – не она!.. все не она это! все другие посторонние: либо не доходя где-нибудь остановятся и затихнут в какой-нибудь чужой калитке, либо все мимо да мимо проходят, а ее все нет как нет!.. И когда же, наконец, она будет? И когда затихнет и уляжется этот страх, эта тоска, все более и все мрачнее растущая в сердце старого майора? Но вот и час простонал глухой колокол на далекой соборной колокольне.
Майор с лихорадочною поспешностию стал одеваться и ушел из дому, к несказанному, но безмолвному удивлению заспанной Максимовны.
Спешным шагом, и почти что рысцой направился он в Кривой переулок, где жила Лидинька Затц. Но в Кривом переулке все было глухо и тихо, и у одного только подъездика полицмейстерской Дульцинеи обычным образом стояла лихая пара подполковника Гнута, да полицейский хожалый, завернувшись в тулуп, калякал о чем-то с кучером. Майор поспешно прошел мимо их, стараясь спрятать в воротник свое лицо, чтобы не видели его, словно бы, казалось ему, они могли и знать, и догадываться, куда он идет и кого отыскивает.
Лидинька Затц не спала еще и, понятное дело, с подобающим изумлением встретила посетителя, столь позднего, столь редкого и притом в такую странную, необычную пору. Она еще более удивилась, когда тот спросил о своей дочери. Лидинька не знала, где она, и сегодня весь день даже не видала ее. Майор ушел еще более озадаченный и расстроенный.
– Не у Стрешневых ли она? – сказала Затц вдогонку ему, на лестнице.
– Не знаю… Побегу сейчас.
– А может быть…
Хотела еще что-то сказать она, но не договорила и замолкла. Видно было, что самое ее одолело вдруг какое-то сомнение.
– Что «может быть»? – жадно и тревожно обернулся на нее Лубянский.
– Нет… ничего, я так только…
– Что «может быть»? Говорите, не бойтесь! – настойчиво повторил он.
– М-м-может быть, она… у Полоярова, – сомнительно высказалась Лидинька, которую засосал червячок ревности.
Старика словно ветром шатнуло, так что он едва успел ухватиться за перила. Это было слово, которого он сам себе не смел выговорить, предположение, которого страшился, вопрос, которого даже не дерзал он задать себе. Несколько секунд простоял Петр Петрович в немом раздумье и, наконец, снова повернулся к Лидиньке.
– Нет; этого нет и быть не может! – твердо сказал он ей решительным и поддельно уверенным тоном. – Это вздор!.. нелепость!.. Она… я знаю где, она – у Стрешневых.
– Ну, ступайте, ищите! Помогай вам Господи! – проговорила Затц, закрывая двери, и в голосе ее послышалась боль и насмешка уязвленной ревности и страдающего самолюбия…
Петр Петрович пошел в другую часть города, где жили Стрешневы. Но в окнах у них было темно: там, очевидно, все давно уже спали.
«Что ж стучаться-то, тревожить понапрасну, – подумал себе майор, – стало быть, ее там нет… Только один лишний скандал… Нечего и спрашивать!.. А кабы ночевать осталась или заболела, так прислали бы сказать»…
«Куда ж теперь?» – спросил он себя мысленно. И стало ему вдруг страшно, жутко и холодно… Замерещилось, будто он, он сам жестоко обидел, оскорбил свое родное дитя, и оно, бедное, безумное, с горя пошло да в Волгу кинулось… утопилось… умерло… плывет теперь где-нибудь… или к берегу прибило волной его мертвое тело…
И полный этих черных мыслей, он, как к единственной надежде своей, бросился к Устинову.
Учитель еще не спал и работал, обложенный какими-то книгами да математическими вычислениями. В первую минуту он даже испуганно отшатнулся от своего нежданного гостя, до того было болезненно-бледно и расстроено лицо Лубянского.
– Петр Петрович! Что с вами?
Тот кое-как, с трудом рассказал, в чем дело.
– Пойдем искать вместе… помогите мне… вместе скорее, может… как-нибудь… спасите ее! – говорил он урывками каких-то смутных мыслей, в какой-то полупомешанной растерянности.
Учитель молча, но поспешно стал одеваться и в две-три минуты был уже готов.
– Куда же идти-то? – спросил он, выйдя на улицу.
– На Волгу… на Волгу идти… Она там верно… там… Где же больше? – бормотал майор, весь дрожа нервическим трепетом.
– Нет, Петр Петрович, этого быть не может, – самым уверенным тоном стал успокаивать его Устинов. – Я головой готов ручаться, что не может!.. Просто так подурила себе немножко, а это нет, это вы только напрасно себя беспокоите… Тут что-нибудь иное…
– Иное?.. Да что ж иное? Затц говорила… что у этого… у Полоярова… Но ведь Затц дура… она врет это… этого быть не может, – с одышкой сказал наконец Лубянский.
Устинову мелькнула вдруг новая мысль, новая догадка.
– А вы там были? у Полоярова-то? – осторожно спросил он.
– Нет, не был… Зачем же туда?.. Там ведь нету…
– Да все-таки… попытаемся, сходим… может, он знает.
Отправились к Ардальону. У ворот того дома, где обитал он, дремал дежурный дворник.
– Дома господин Полояров, не знаешь ты? – спросил Устинов.
– Нет его дома; не бывал еще.
– А не была тут вечером… молодая… девушка? – с трудом проговорил Лубянский.
– У Полоярова-то? – переспросил дворник.
– Да, да, у Полоярова…
– Какая это? Чернявенькая такая? Стриженая?
– Ну, да, да!.. Она самая… Не была?
– Вечером? так часу, значит, в девятом?
– Так, так; в девятом, в начале девятого.
– Была, приезжала, – подтвердил дворник. – Да она тут часто у него бывает.
– Где ж она? здесь? – перебил Устинов.
– Нет; таперя нет ее, уехамши…
– Как уехавши!.. Куда? – почти вскрикнул Петр Петрович.
– А не знаю доподлинно… Слышал, так, часу в одиннадцатом, рядили аны тут вдвоем извозчика за город, значит, как быдто в Гулянкину рощу… Сам-то, кажись, маленько выпимши был, а в точности не знаю, может, и не туда… потому, назад еще не бывали.
– Ну, спасибо, спасибо, голубчик, – заговорил Лубянский, торопливо порывшись в кармане и сунув в руку дворника какую-то монетку. – На, на, возьми себе! Пойдемте, Андрей Павлыч… Пойдемте отсюда… Что ж нам здесь делать?
И старик торопливым шагом побрел от ворот, где провожал его глазами удивленный дворник. Устинов пошел следом и стал замечать, что Лубянский усиленно старается придать себе бодрость. Но вот завернули они за угол, и здесь уже Петр Петрович не выдержал: оперши на руку голову, он прислонился локтями к забору и как-то странно закашлялся; но это был не кашель, а глухие старческие рыдания, которые, сжимая горло, с трудом вырывались из груди.
Учитель тихо отошел на несколько шагов в сторону, чтобы не мешать своим присутствием этому порыву глубокого горя, и в то же время не спускал внимательных глаз со старика, будучи готов при первой надобности подать ему какую-либо помощь. Прошло несколько минут, пока нарыдался Лубянский. Тихо отклонясь от забора, он, шатаючись, сделал два шага и присел на тумбу, подперев свой лоб рукою.
Минуло еще несколько минут, когда, наконец, учитель решился подойти к нему.
– Петр Петрович!.. а, Петр Петрович!.. Пойдемте-ко лучше домой… Я провожу вас, – осторожно и тихо сказал он, с участием дотронувшись до плеча Лубянского.
– А?.. что?.. как?.. – пробормотал тот, словно бы очнувшись. – А, это вы, голубчик?.. Что вы говорите?
– Я говорю, пойдемте домой… дома лучше… Что ж сидеть-то!..
– А?.. Домой?.. Хорошо, пойдем домой… Хорошо… пойдемте…
Устинов помог ему подняться с тумбы и под руку повел по улице. Старик видимо ослабел и даже слегка пошатывался.
Молча дошли они до самой калитки, и здесь Петр Петрович как будто приободрился немного.
– Спасибо вам, голубчик, спасибо, – сказал он, сжимая руку учителя; – теперь уж я сам… Извините, что потревожил вас… Не беспокойтесь, я сам… я сам как-нибудь.
Учитель понял, что ему хочется остаться одному-одинешеньку со своей думой, со своим великим горем, и потому, не входя во двор, простился у калитки.
Столь же, по-видимому, бодро вошел старик и в комнату. Сонная кухарка зажгла ему свечу и поставила ее на стол, где еще с десяти часов вечера был собран холодный ужин, за который майор никогда не садился без дочери. Два прибора и закуска до сих пор оставались нетронутыми.
– Ступай, Максимовна, спи себе, ты не нужна мне, – обернулся он к кухарке, которая, зевая и почесываясь, стояла у дверей.
Оставшись, наконец, совершенно один, Петр Петрович долго стоял посредине комнаты не то в каком-то растерянном раздумье, не то в полном оцепенелом бессмыслии. Даже лицо его не выражало теперь никакого оттенка горя, тоски или думы, или другого какого ощущения, но не сказывалось в нем тоже и равнодушия, ни апатичной усталости, а было оно, если можно так выразиться, вполне безлично, безвыразительно.
С тем же тупым, безличным взглядом подошел он к столу, рассеянно налил рюмку водки, рассеянно пропустил ее сквозь зубы и, не закуся ни кусочком хлеба, медленно отошел на прежнее место.
Странное раздумье все еще владело им, и через несколько времени он опять повторил тот же маневр с рюмкой, словно бы и не помня, что одна уж выпита, и тихо, на цыпочках, прокрался в комнату дочери.
Перед благословенным образом покойной жены его тихо мерцала там лампадка, которую никогда не забывала зажечь на ночь старая Максимовна, и свет этой лампадки слабо озарял предпостельный столик со свечой и графином воды, кисейную занавеску, несколько книг на окошке, девическую кровать, застланную чистым, свежим бельем и тщательно, как всегда, приготовленную на ночь. Над кроватью висел небольшой портрет покойной жены Петра Петровича, умершей назад тому четыре года. Фотографический оттиск давно уже стал выцветать, но все еще довольно живо хранил добрые, мягкие, спокойные черты немного пожилой женщины.
Майор остановился и надолго застыл в раздумье пред постелью своей дочери.
Эта чистая, девическая постель еще в первый раз в жизни оставалась в такую глухую, позднюю пору ночи пустою и несмятою.
«Где она ?.. Что с нею ?..»
Что-то колючее, как тонкая холодная игла, щекотно проникало старику в самую заповедную глубь сокрушенного сердца.
«Ушла… Сама ушла… И нет ее… и не будет больше… Кабы жива была покойница, может, этого не случилось бы».
Словно больной, надоедливый зуб, сердце все ныло и ныло так тихо, но непрестанно, и так долго, так однообразно…
Майор присел на стул перед кроватью, около столика, безотчетно поправил отвернувшийся край простыни, подпер руками голову и без думы, без мысли, с одною только болью в сердце, стал глядеть все на те же былые подушки да на тот же портрет, смотревший на него со стены добрыми, безмятежными глазами. Так застали его первые лучи солнца. Он спал теперь сном глухим и тяжелым.
XXII
Великодушный Ардальон
В десятом часу утра, отправляясь в гимназию, Устинов нарочно дал крюку и завернул к майору проведать, что с ним теперь делается. Он очень опасался за его здоровье. Майор уже проснулся, вымылся, оправился и, судя относительно, глядел довольно бодро.
– Что же мне делать теперь, Андрей Павлыч? Научите, присоветуйте; я ведь просто голову потерял, – грустно говорил он Устинову. – Не знаю, хорошо ли это, но думаю пойти туда… все-таки что-нибудь.
– А не подождать ли, может, сама вернется…
– Ах! да ведь сердце-то все мое изныло!.. Не могу я так, – тоскливо перебил старик. – Уж хоть бы знать что-нибудь положительное! Ну, умерла она – ну, так бы, по крайней мере, и знал, что умерла; а бросила – так бросила!.. господь с нею!.. А то это неизвестное хуже всего! Ведь уж я измучился!
Устинов не нашел возражений против этого чувства, и старик вместе с ним вышел из дому. Один пошел на службу, другой к Ардальону Полоярову.
* * *
Анна Петровна проснулась давно и притом очень рано. Ей спалось плохо; перерывистый сон был смутен и тревожен; быть может, новизна места, а может, и новизна положения способствовали такому лихорадочному состоянию. Подобрав под себя ноги и плотно закутавшись в свой бедуин, она прижалась в уголок кожаного дивана, и раздумье о новом своем положении, о новой жизни, помимо ее собственной воли, неотступно брело в ее голову. У другой стены, примостившись кое-как на составленных креслах и стульях, спал Ардальон Полояров, и девушка порою влюбленно переводила взгляд на его рослую фигуру и долго, внимательно останавливала его на лице своего друга. В комнате было грязно и беспорядочно, и вся обстановка с первого взгляда показывала, что здесь живет холостой бобыль-бездомовник.
Ардальон потянулся, почавкал губами, зевнул и, открыв глаза, приподнялся на локтях со своих стульев.
– А, матушка, уже проснулась? – улыбнулся он Анне Петровне. – А что самоварчик? Побаловаться бы горяченьким, а то смерть как скверно!
Самовар давно уже стоял на столе и давно парился на нем чайник, но новая хозяйка даже и не дотронулась до налитой чашки. Она молча подошла теперь к столу, налила стакан и подала Полоярову.
– Что это? Никак глазки на слезки? – спросил он, взглянув на смутное, опечаленное лицо девушки. – О чем это? Уж не о папеньке ли стосковались?
– Да, о нем, – ответила она очень серьезно.
– Э, барышня! Это надо же было предвидеть! Ведь рано ли, поздно ли, ты все равно должна же была оставить его.
– Да, но так оставить, как я оставила…
– Решительно все одно и то же. Важна сущность факта, а сущность законна, потому что естественна, а обстановка – так ли или иначе совершился факт, это не суть важно; это пустяки!
– Но ведь дворник сказывал, что нас спрашивали… Это верно он был, – задумчиво проговорила девушка, отвечая не Полоярову, но как будто самой себе, на какую-то свою собственную, отдельную мысль.
– Всенепременно он… и, должно быть, с Устиновым, – подтвердил Ардальон.
– Я боюсь, что придет и сегодня, – сказала Нюточка.
– Ха-ха-ха! «боюсь»!.. Чего же тут бояться?.. Ну, и пусть его приходит!.. Я бы даже желал, чтобы он пожаловал.
– Это зачем? – подняла она удивленные взоры.
– А затем, чтобы поглядеть, как вы встретитесь. Это тебе, матушка, будет хороший оселок… что называется, проба пера. До сих пор все пустяки были, а теперь игра пойдет всерьезную. Вот ты и испытай, насколько ты боец жизни! Теперь и узнаешь, есть ли у тебя настоящий характер, или просто ты тряпица, кисейная барышня… Полно-ка, матушка, возьми лучше голову в руки и будь заправскою женщиною, а сентиментальничанье к черту, если хочешь, чтоб я уважал тебя! Коли перед всяким стариком киснуть, так что же ты станешь делать пред настоящим, пред серьезным-то делом?
В дверь заглянула квартирная хозяйка и объявила Ардальону, что его какой-то старичок спрашивает.
Лубянская смутилась и принужденной улыбкой хотела скрыть это чувство пред Полояровым, который, в свою очередь, окинул ее пристальным испытующим взглядом.
– Ну, Анютка… Смотри, молодцом у меня!.. Смелей! – подмигнул он ей и растворил майору дверь своей комнаты.
Петр Петрович сделал несколько шагов, но вдруг тревожным взглядом окинул всю обстановку и невольно попятился к дверям, смущенный, сконфуженный и как бы пришибленный какою-то внезапностью.
Он ожидал многого, но то, что увидел он здесь, было сверх его ожиданий.
Эта грязная, пропитанная табачным дымом комната, эти составленные стулья, этот диванишко с брошенной подушкой; этот расстегнутый ворот кумачной рубахи, и среди всей этой обстановки вдруг она, его чистая голубка, его родное, любимое детище… Майор смешался и сконфузился до того, что не мог ни глаз поднять, ни выговорить хоть единое слово.
Полояров вызывающим взглядом глядел на девушку.
Стараясь побороть в себе чувство смущенной неловкости, она, с улыбкой напускного равнодушия, словно бы ничего особенного и не случилось с ней, направилась к отцу, стоявшему на пороге:
– А, это ты, папахен? Здравствуй!.. Что же ты не входишь?
– Нюта!.. Где ты?.. Что с тобой? – глухо проговорил он наконец, не двигаясь с места.
– Как, Боже мой, где? У Ардальона Михайловича, – ответила она все с тою же деланою улыбкой. – Да чего ты такой странный, папахен? Ровно ничего такого особенного не случилось, чтобы в священный ужас приходить! Повздорили мы с тобой вчера немножко, ну что же делать, всяко бывает! Вчера повздорили, а сегодня помиримся.
Старик стоял и глядел на нее изумленно и недоверчиво, точно бы он и в самом деле не верил, что это дочь его.
– Да чего ты так глядишь на меня, – продолжала она, ласково положив на плечо ему руку, – своя, не чужая! Все та же, что и прежде. Ну, хочешь, поцелуемся?
– Нюта! Голубушка! Что это ты над собою сделала? – не выдержав наконец, зарыдал отец и припал на плечо дочери. – За что ты себя опозорила!.. Нюта… Нюта моя!..
– О, какие ты вздоры говоришь, папахен! – ласково засмеялась она. – Ну, чем же я себя опозорила? Что ж, я подлость какую сделала? украла? продала кого? В чем позор-то?
– У него… Нюта! у него на квартире… ночью… одна!.. Боже мой, Боже! До чего дожил я!
– Экая важность, что у него! – возразила девушка, успевшая уже оправиться и даже несколько успокоиться и облегчить себя тем, что отец так мягко встретил ее. – Что у него, что в другом месте, – не все ли равно? А зачем притесняешь меня? Кабы ты больше уважал мои человеческие права, я бы не ушла от тебя. А ушедши, куда же мне было деваться? Конечно, к Полоярову, потому мы друзья с ним.
– Нюта моя! Пощади ты мою седую голову! Не говори ты таких слов ужасных!
И он вдруг упал пред ней на колени.
– Умоляю тебя!.. Господи! Кабы все это один только сон был! Кабы ничего этого не было!.. Я не верю… не могу верить… Нюта! скажи ты мне, ведь этого ничего нету? Да?.. да? Ведь нету?
– Да чего нету? О чем ты хлопочешь, папахен? Не понимаю тебя я!
– Ну… хоть обмани ты меня… но только… Да нет, неужели же все это правда?
И он мучительно, тоскливо схватил себя за голову.
Девушка, не зная, что делать, что отвечать ему, недоумело пожала плечами и бросила взгляд на Полоярова, как бы прося его помощи и совета. Но Ардальон, закуря папироску, спокойно расселся на диване и, заложив ногу на ногу, безучастно созерцал эту сцену.
– Ах, да встань же ты, папахен! – досадливо принялась Анна Петровна подымать старика с колен. – Ну, что это, право, за глупости!.. Это, наконец, скучно!.. Я рассержусь, папахен, слышишь ли? И чего тебе от меня хочется, понять не могу!
– Хочется мне… хочется, Нюта… знать тебя чистой… не опозоренной… Ведь это все неправда? Ничего этого не было? Да?
– Старик заговаривается, – пробурчал Полояров.
– Я?.. Я? – поднялся вдруг Петр Петрович. – И ты еще осмелился!
И он в исступлении, порывисто кинулся на Ардальона.
– Стоп, машина! Стоп! Не ву горяче па! Полегче! – отстранил его Полояров. – Ведь вам не сладить со мной: я маленько посильнее буду, да и горячиться-то не из чего! А вы присядьте-ка, да успокойтесь, мы вам чайку нальем, пожалуй, да тогда и потолкуем как следует.
– Папахен, милый мой! – обняла Лубянского девушка, удерживая его дрожащие руки, – ей-Богу, все это напрасно! Ну, что за трагикомедия? И все из-за таких пустяков! Ну, можешь успокоиться: я все та же и люблю тебя по-прежнему. Довольно с тебя этого?
– Ах, Нюта, Нюта! Если б у людей не было памяти! – сокрушенно вздохнул он, понемногу приходя в себя. – Как вспомню, я с ума схожу!.. За что ты убила меня? что я сделал тебе? А вы! – обратился он к Полоярову. – Я принимал вас в дом к себе как честного человека, а вы вот чем отплатили!.. Спасибо вам, господин Полояров!.. И тебе спасибо, дочка!
– Эх, почтеннейший мой, Петр Петрович! – махнул рукой Ардальон, – какую вы, право, ерунду городите, так даже слушать смешно! Ну, что же я такого бесчестного сделал против вас? Что дочка-то ваша пришла ко мне? Так не выгнать же мне ее! Ну, все равно, что пришел бы Анцыфров или Подвиляньский, то и она! Я ведь в этом ваших пошлых различий не делаю, да и не понимаю их. По мне, это все равно! Она такой же приятель мой, как и те. Ну, попросилась переночевать. Кабы у меня была лишняя комната, я бы, конечно, уступил ее, а нет комнаты, так где же мне взять?
– А по ночам в Гулянкины трактиры ездить с порядочною девушкою, это, по-вашему, не бесчестно? – презрительно и строго спросил его Лубянский.
– В трактиры?.. М-да! Это как на чей взгляд, конечно… По-моему, – не бесчестно; просто погулять людям захотелось, ну и поехали. Самое естественное дело!
– Естественное дело позорить имя девушки!
– Имя!.. ну, что такое имя?.. Какое-то фиктивное понятие! Пишите ваше имя на вашей дверной доске, на вашей книге, на ваших векселях там, что ли, – это я все понимаю; а что люди погулять поехали, так при чем тут имя-то? Все это, батюшка мой, одни только нелепые предрассудки! Эта песня стара, ее бросить пора. Ну, да уж так и быть! – с решимостью какой-то внезапной мысли, махнул вдруг рукой Полояров. – Хоть это и в корень противно моим принципам и убеждениям, но… уж куда ни шло! лишь бы только кончить эти скучные объяснения. Мне, пожалуй, все равно! Коли вы находите, что Анна Петровна опозорена мною, я, извольте, женюсь на ней! То есть формально сочетаюсь законным браком! Угодно вам этого? Ну уж, кажется, «благороднее» невозможно!
Девушка изумленно и радостно вскинула на него глаза свои.
– Папахен! голубчик! Старикашка ты мой милый! – весело защебетала вдруг она, ластясь и увиваясь около отца. – Ну вот видишь ли, как все это вдруг хорошо устроилось! Ну, о чем же печалиться? Ну, улыбнись мне, что ли! Ведь чего же тебе еще больше? Ведь мы с ним любим друг друга!
«Вишь, заегозила, как про аналой-то услышала!» – молча и саркастически подумал себе Полояров. «Вот она, натура-то, и сказалась! Дрянь же ты, матушка, как погляжу я!.. Кисейная дрянь!»
Но старик не обрадовался. Великодушие Ардальона не произвело на него ни малейшего эффекта. Он стоял в глубокогрустном и сосредоточенном раздумье, и только глаза его были устремлены на головку дочери, с какою-то болезненно-тоскливою нежностью.
– Пойдем, Нюта, домой! – грустно проговорил он, и в голосе его сказалась тихая мольба и полное прощение во имя неизбежной покорности пред судьбой и совершившимся фактом.
– А ты не будешь притеснять меня? Не станешь делать наперекор мне? – заторговалась вдруг она. В ней мигом проснулась капризно-своенравная, избалованная натура. – Я, пожалуй, вернусь, но только на вчерашних моих условиях! Не иначе!
– Пойдем, Нюта, домой! – тихо повторил старик, беря ее за руку. – Я ни в чем тебе… ни в чем не поперечу.
И лицо его нервно передернуло нечто горькое при этом последнем слове.
– И в самом деле, ступайте-ка вы лучше домой пока, – охотно поддакнул Полояров. – Только уж, пожалуйста, Петр Петрович, вы ее не тово… Уж теперь мне, как жениху, предоставьте право следить за ее поступками; не вам, а мне ведь жить-то с нею, так вы родительскую власть маленько тово… на уздечку. Ха-ха-ха! Так, что ли, говорю-то я? ась?..
– Папахен! – защебетала снова радостная девушка, – да что же ты не сказал еще ни слова! Рад или не рад? Я рада! Ведь говорю тебе, я люблю его! Ну, скажи же нам, скажи, как это в старых комедиях говорится: «дети мои, будьте счастливы!» – с комическою важностью приподнялась она на цыпочки, расставляя руки в виде театрального благословения, и, наконец, не выдержав, весело расхохоталась.
Старик глубоко вздохнул и покачал головою.
– Эх, милая моя!.. радоваться-то особенно нечему! – сказал он. – Надо говорить правду: не такого жениха я всегда мечтал тебе – извините, господин Полояров… Ну, да коли любишь, выходи, Господь с тобою! Из двух зол это, конечно, все ж таки меньшее… Одевайся, голубка! Прощайте, господин Полояров.
И через минуту он увел свою дочь из этой безотчетно мерзкой для него квартиры.







