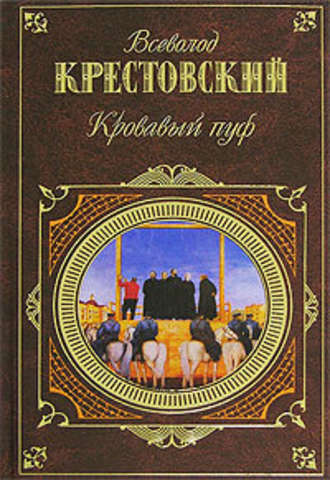
Всеволод Владимирович Крестовский
Панургово стадо
XV
При последних минутах
Мрачный и смущенный, вернулся он в номер гостиницы, где нетерпеливо ожидал его старик Лубянский.
Взглянув на лицо Устинова, майор чутко угадал, что тот, должно быть, принес вести недобрые.
Андрей Павлович молчал либо старался отделываться фразами и вопросами о совсем посторонних предметах, но все это как-то не клеилось, как-то неловко выходило. Он боялся, он просто духом падал пред необходимостью раскрыть старику всю ужасную истину. «Тот же нож», – думал он. – «Возьми его да и ударь ему прямо в сердце… то же самое будет!»
Но это молчание и усиленное старание заводить разговор о посторонних вещах еще более убеждали старика в том, что Устинов принес с собою что-то недоброе.
– Да расскажите же наконец, – приступил он к учителю. – Ну, были вы у Стрешневых?.. ну, и что же?.. Как? Говорили вы там?.. Спрашивали?
– Был же, говорю! – как бы нехотя, отвечал тот.
– Ну, и что же?..
– Да ничего… Все такие же… Вам кланяются…
– Да нет! Я спрашиваю, говорили ли…
– Да что говорить-то там… Так, говорили… разное там…
Старик молча прошелся несколько раз по комнате. Он словно бы сосредоточивался, словно бы внутренно приготовлялся, решаясь на что-то важное, большое и наконец стал пред учителем, спокойно и твердо глядя ему в глаза.
– Андрей Павлыч, – начал он с таким спокойствием непреклонной решимости, которое поразило Устинова. – Не скрывайте, говорите лучше прямо… Меня вы не обманете: я вижу, я очень хорошо вижу по вас, что вы знаете что-то очень недоброе, да только сказать не решаетесь… Ничего!.. Как бы ни было худо то, что вы скажете, я перенесу… Я уж много перенес… ну, и еще перенесу… Вы видите, я спокоен… Ведь все равно же, рано ли, поздно ли, узнаю… Говорите лучше сразу!
Старик замолк и ожидал рокового удара все с тем же твердым спокойствием.
Учитель собрался, наконец, с духом.
– Да что сказать-то! – как-то глухо, подавленно начал он. – Поедемте к ней… умирает… Внука вам Бог дал, да скрали вчера… в Воспитательный сбросили.
И он угрюмо отвернулся в сторону, стараясь не взглянуть в лицо старику.
Действительно, лицо его было страшно в эту минуту. Мрачные глаза потухли, а на висках и в щеках, словно железные, упруго и круто заходили старческие мускулы. Майор только уперся напряженными пальцами в стол и стоял неподвижно. Он ломал себя нравственно, делал над собою какое-то страшное усилие, пряча в самую сокровенную глубину души великий груз своего неисходного горя. Устинов, отвернувшись, слышал только, как раза два коротким, невыразимо-болезненным скрежетом заскрипели его зубы.
– Ну, поедемте… Теперь я готов! – глухо, но спокойно сказал старик через минуту.
И они отправились.
* * *
Больная была все в том же безнадежном беспамятстве. У нее уже начинались признаки медленной, но мучительной агонии.
Час спустя после приезда к ней отца в этой маленькой комнате тускло мерцала лампадка перед образом, который был поставлен на предпостельный столик, покрытый чистой, белой салфеткой.
Священник, в темной рясе и в стареньком эпитрахиле, шептал над изголовьем больной глухую исповедь. Старый майор, опустясь перед постелью на колени и тихо склонившись лицом к холодеющей руке дочери, молился почти без слов, но какою-то глубокою, напряженною, всю душу проницающею молитвою. За ним, шагах в двух, тоже на коленях, стояла акушерка и тоже молилась, набожно, но как-то обыкновенно, в должную меру. В дверях поместилась кухарка и глядела на все с тупым любопытством, столь же тупо крестясь и кланяясь порою, с быстрым размахом руки и корпуса. И тут же, у дверной притолоки, прислонясь к ней, стоял Устинов. Крепко стиснув пальцы сложенных рук, он не молился, и по угрюмому лицу его бродили темные тени каких-то злобных, мрачных и тяжелых дум.
Священник кончил свое дело и перекрестил умирающую. Она подавала еще слабые признаки жизни легким хрипением и медленной икотой, но посинелые пальцы рук и вытянутые ноги все больше и больше холодели. Смерть одолевала…
Часа два спустя, в маленькой зале, наискось к переднему углу, стоял уже стол, покрытый простынею и пахло только что накуренным ладаном.
XVI
После похорон
Похороны были не пышны и не многолюдны; майор с Устиновым, Стрешнева с теткой, повитуха Степанова да Лидинька Затц со вдовушкой Сусанной – вот и вся публика, почтившая покойницу проводами. Ардальона Полоярова не было.
Священник торопливо отпел над могилой последнюю литию и спешно удалился с дьячком по другие требы; удалились и Лидинька с Сусанной читать надгробные надписи – обыкновенное занятие всех, кто без особенного горя личной потери редко посещает кладбища. Над зарываемой могилой оставались теперь только майор да старуха Стрешнева. Татьяна, чтобы рассеять несколько чувство дурноты и головной боли, навеянное спертым воздухом церкви, отправилась вместе с Устиновым пройтись немного по деревянным мосткам, ведущим вдоль аллеи в глубину кладбищенской рощи.
День был тихий, бессолнечный, с небольшим морозцем. Между прутьями и сучьями кустов держались насевшие на них хлопья пушистого снега. Эти хлопья изредка, медленно и тихо, то там, то сям падали с ветвей на землю. Над куполом церкви щебетали галки, а на верхушке березы где-то ворон тихо посылал к кому-то свое короткое: «кррук! кррук!..»
Могила была, наконец, зарыта. Двое могильщиков, сняв шапки и медля уходить, стояли в ожидании «чайка-с». Лубянский дал сколько-то мелочи, и они удалились с бесконечно-светлыми лицами, что, по-видимому, так противоречило их мрачной профессии.
– Ну, Нюта! – вздохнул майор. – Теперь не моя, а Божья… Бог дал, Бог и взял. Не хорошо, сударыня моя, – прибавил он с какой-то горькой улыбкой, обращаясь к старухе, – не хорошо на старости лет детей хоронить.
– Что делать! Божья воля! – ответила та, лишь бы что ответить. – Надо покориться…
– Покориться! – усмехнулся Лубянский! – да что ж тут и делать-то больше, сударыня моя, как не покориться… Кабы в человеке сила была бессмертная, ну, так боролся бы! А это (он кивнул головой на окружающие могилы), это ведь сильнее! Да я что ж, я не ропщу! – прибавил старик, помолчав немного. – Что ропот?!. ропотом согрешишь, а дела все ж не поправишь!.. Его святая воля! – Знал, что творил… Может, оно и лучше, что она умерла… Да и что за жизнь ее была бы? Все радости девичьи, все деньки-то ее красные – все это добрые люди отняли да обворовали!
Старуха Стрешнева, боясь, как бы потеря дочери не произвела на старика слишком сильного потрясения и как бы он в конце не затосковался в одиночестве, думала хоть чем-нибудь рассеять его на первое время, чтоб был он больше на людях, а не наедине с самим с собою, и потому предложила ему перебраться, пока что, к ней на квартиру.
– Все же лучше, чем в трактире, – говорила она, – да и вам спокойнее.
– Да я что ж… я спокоен, сударыня, я спокоен теперь, – полусмущенно и благодарно говорил он. – Спасибо вам… за ваше участие доброе спасибо!.. Переехать к вам – это, полагаю, стеснительно будет, да и притом же уж я так… с Андреем вот Павлычем вместе… а посещать вас почаще, это вот вы мне позвольте.
Старуха предложила ему довезти его до дому в ее карете.
– А я, тетя, пройдусь немного пешком с Андреем Павлычем – погода хорошая, – сказала Татьяна и подала руку Устинову.
Карета тронулась из кладбищенских ворот.
– Замечаете вы, – обратилась к нему Татьяна, – как спокоен старик-то? Я думала было, что это окончательно убьет его, но нет, – слава Богу, ничего еще пока… держится.
– Он уж давно убит! – грустно усмехнулся Устинов. – Два раза живую терять ее так, как он терял, – это было тяжелее, чем мертвую хоронить. Если бы вы знали, если бы вы только могли представить себе все, что он вытерпел и как перестрадал!.. Если выдержал и не умер до этого, так теперь-то выдержит!.. Это все же легче, чем то!.. А что горя-то у него было столько, как не дай Бог никому… Но теперь все это горе, знаете, выкипело, перегорело в душе, и оттого он кажется спокойным. Чересчур уж глубокое, тяжелое горе всегда спокойно.
– А жаль Лубянскую… Так рано и так ужасно умереть!.. – раздумчиво и грустно заметила Стрешнева.
– Да, в Лубянской многого и многих жаль! – несколько помолчав и как бы в ответ на какую-то свою собственную мысль проговорил Устинов. – Она, пожалуй, не годилась бы в героини романа, но в судьбе ее есть много поучительного. Знаете ли, меня просто злость берет, как раздумаешься надо всем этим! Ведь что такое, в сущности, эта Нюточка Лубянская? – Самая обыкновенная девушка, каких вы встретите тысячи. Были у нее добрые, честные порывы, были стремления к хорошему, к новой и светлой жизни, к труду – и потому-то вот мне еще досаднее и больнее за всех этих Нюточек! Не встреться ей на дороге господин Полояров – не то бы, может, и из Нюты вышло. Она, как хотите, даже хорошо сделала, что догадалась умереть вовремя!
Стрешнева посмотрела на него вопросительно и с некоторым недоумением.
– Да в самом деле! – продолжал он в ответ на ее взгляд, – потому чтó, что ж оставалось ей в жизни? От одного берега отстала, к другому не пристала, да и пристать-то никогда не могла бы. Вот эти все господа Полояровы стремятся – на словах по крайней мере – к тому, чтобы вывести женщину на новую дорогу. Прекрасно-с, зачем нет? Да только дорога дороге рознь. Оно, конечно, такие казусы, как с Нюточкой, и без новых людей сплошь да рядом встречаются; «отцы » тоже маху не давали, и сущность осталась та же, но форма, внешняя форма изменилась. Прежде брали нежными вздохами, блестящим мундиром, красивой рожицей, а теперь господа Полояровы берут на удочку новых идей, приманкой «новой жизни», благо в женщину заронилось смутное стремление выбиться из своего тесного положения. Но вот что скверно-с, что Полояровы все это в «принцип» возводят. Сделает человек мерзость и убежден, что ему и должно так делать! Сделай ту же самую мерзость гвардейский офицер, маменькин сынок и вообще всяк, кого они пошлецом обзывают – все Полояровы в набат забьют, тенденциозную повесть напишут, с гражданской скорбью, с цивическим негодованием и уж как чувствительно выставят «несчастную жертву» пошлеца! А сделал вот то же самое не гвардейский пошлец, а сам господин Полояров – и об этом никто из них ни гугу! Промолчат-с, замажут, запрячут и проглотят всю суть дела… И Боже вас избави назвать за это подлецом Полоярова! – Разбой! донос! клевета! завопит на вас все стадо, и выльется на вашу голову вся клоака самых гнусных мерзостей собственного их изобретения, лишь бы доехать вас не мытьем, так катаньем! А почтеннейшая публика, слыша рев, и сама начинает вторить: разбой! клевета! доносы!.. Тьфу ты, Господи! да что же это наконец такое! – Повальный сумбур какой-то!
Устинов досадливо замолчал и шел несколько времени, не проронив слова. И по его лицу, и по его тону Стрешнева заметила, что в нем искренно высказывается теперь все то, что давно уже успело накипеть на сердце.
– Или вот тоже еще! – снова начал маленький математик, опять увлекаясь своей темой. – Как поглядишь, какие все это ярые эмансипаторы, все эти господа Полояровы! Через два слова в третье Джон-Стюарт Милль на языке, угнетение женщины, свобода и равноправие отношений, свобода чувства, безобразие брака – и какие ведь все хорошие слова, подумаешь! Даже повести и романы специально на этот предмет сочиняют. Но странное дело! Замечали ль вы, что во всех этих повестях они тщательно избегают детей? Так избегают, чтобы в голове читателя даже и намека на вопрос о детях не возникло бы! Я не помню, чтобы которая из их героинь имела ребенка. Устраивают для нее новую жизнь, новое счастие, новые отношения, но о детях опять-таки ни гугу! Чтó это, скажи же на милость: наивная ли простота и неведение или же лукавое передергивание житейской правды? А придай-ка они любой своей героине хоть одного ребенка – и кончено! Тенденциозного романа не существует! И вот вам живой пример – та же самая Нюточка. Роман-то, пожалуй, и вышел, да только совсем в другом вкусе, и господа Полояровы этого романа не напишут, а и прочтут, так не одобрят, а изо всех сил поторопятся поскорей, на весь мир крещеный, обозвать его клеветой да подлым доносом!
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
I
Сумбур
Наступил год 1862, – год тысячелетия России. В Великом Новгороде ставили по этому поводу памятник. Лондонский «Колокол» с самодовольной скромностью нашел, что форма памятника очень льстит ему, ибо напоминает собою «Колокол» – «только который? – вечевой или лондонский?» спрашивал г. Герцен.
Всевозможные Малгоржаны и Анцыфровы были убеждены, что, конечно, лондонский, но что об этом не догадались только наверху. Некоторые ученые писали статьи и исследования на тему «тысячелетия»; и по поводу этого же самого пресловутого тысячелетия газеты и журналы трубили торжественный туш нашему прогрессу и совершенствованию.
Действительно, совершенствование было великое.
Главнейшим образом был открыт и усовершенствован отечественный канкан.
В то же время последовало открытие нового рода неведомой дотоле болезни, которая названа специалистами «гражданскою скорбью»; засим, одним из цивических скорбных поэтов была открыта «долина, в которой спят слезы гражданина».
Усовершенствована до последней степени брань литературная.
Усовершенствованы способы борьбы с противниками мнений и убеждений.
Усовершенствован штат санкт-петербургской полиции, восприятием в нее «более либеральных элементов».
Происходили ученые съезды, где на жизнь или смерть решалась судьба злосчастных букв Ъ, Э и V.
Лев Камбек издавал журнал под названием «Ерунда». – Это, поистине, было знамение времени, – увы! ни единым проницательным человеком тогда не оцененное.
Появился трактат «о табунных свойствах русского человека», который очень не понравился великим деятелям «Искры». Они никак не соглашались признать себя ржущим стадом, хотя такого признания никто от них и не требовал.
Появился трактат о пользе шпицрутенов и об удобстве палок, которыми можно дуть солдат за фронтом, даже во время дела, под огнем неприятеля. К чести русской армии, 106 офицеров разного рода оружия протестовали против этого трактата. Впервые печатно было названо имя г. Герцена. Осмелился на это, понятно не без разрешения, г. Шедо-Ферроти и тем стяжал себе славу: его имя, доселе неизвестное, было связано теперь с громким именем нашего refugié. Добродушных сынов отечества весьма радовало печатное появление фамилии г. Герцена: семь букв этой фамилии, крупным шрифтом красовавшиеся в окнах книжных магазинов, приятно ласкали глаз сынов отечества, ибо в этих семи буквах они прозирали либеральную уступку либеральным требованиям века. Факт этот был отнесен ими к числу общественных приобретений.
К числу таковых же надо отнести и убеждение, что все те, кому стукнуло за сорок, суть «отсталые» и не имеют уже права принадлежать к молодому поколению, сколько бы перед ним ни лебезили.
Тверские гимназисты торжественно выгнали из общественного собрания даму, несмотря на то, что у нее имелся входной билет, за то только, что она была… жена капельмейстера. Тверские гимназисты имели мужество издеваться над смущением и слезами этой женщины.
Директор Коммерческой академии в Москве торжественно публиковал в своем «Отчете» о том, что он ввел в это учебное заведение издание журнала и карикатурного альбома под названием «Чепуха», где воспитанники (они же и издатели, и сотрудники) осмеивают своих надзирателей, учителей и т. п. Господин директор сам цензоровал «Чепуху» и заявил, что эта «Чепуха» заставляет его «иногда от души посмеяться».
Тот же самый директор и в том же самом «Отчете» публиковал, что при всей его прогрессивности, он не мог воздержаться от телесных наказаний учеников и не сумел обойтись без розог.
* * *
Это была эпоха финансовых, торговых, общественных и всяческих затруднений, с которыми Россия вступала во второе свое тысячелетие.
Безденежье достигло до того, что мелкое серебро совершенно исчезло из обращения, и говоря о нем, всегда прибавляли «блаженной памяти, 84-й пробы». Ввиду такого финансового кризиса правительство сделало новый заем в 15 миллионов фунтов стерлингов у парижских и лондонских Ротшильдов.
Был впервые опубликован государственный бюджет и поднялся вопрос о поземельных банках.
Вместе с этим носились слухи, что с новым тысячелетием отменятся старые шпицрутены, клейма и плети.
Поднялся вопрос об изменении законов о печати. Литературные силы были призваны к посильному участию в обсуждении этого вопроса; но литературные силы, говоря относительно, мало обратили на это внимание: им было не до того – все способности, вся деятельность их оставались направленными на взаимное заушение и оплевание.
С января месяца в Москве, в Туле, в Калуге и в Петербурге открылись дворянские съезды, с обычною целью выборов. Но эти съезды получали теперь новый характер, они были первые после уничтожения крепостного права, первые в новой эре жизни. Само правительство предложило на обсуждение дворян вопросы касательно земско-выборного начала в управлении, в финансах, в суде. Эти вопросы, в таком виде, предлагались еще впервые: с них починалась новая полоса жизни, и прения по необходимости должны были получить характер совещательно-государственных. Поднялись голоса разные: один по поводу распространения выборного начала на все земство вопиет «о неуместности соединения дворянства в одной комиссии с прочими сословиями»; другой, становясь под охрану «Дворянской грамоты» Екатерины II, доказывает права дворян на землю и на неудобства в наделе ею крестьян, а потом предлагает господам дворянам некоторые изменения в Положении 19-го февраля, сообразно с «Дворянскою Грамотою», третий требует нового утверждения на помещичью землю, введения каких-то вечных паспортов; четвертые добровольно отказываются от всех своих сословных прав и преимуществ.
Толковали и даже писали, будто дворянство целой губернии, одно из самых передовых, уже совершило над собою добровольный акт заклания, принесло жертву самоуничижения и просило о слиянии его со всей остальной массой народа – в форме уничтожения всех своих прав. Об уничтожении телесных наказаний пока только говорили, но и de jure и de facto они еще благоденствовали, и потому многие искренно удивлялись, что вот-де какие передовые люди: готовы лечь даже под розги и под плеть во имя прогресса! Вместо того, чтобы подымать на уровень своих прав всю остальную массу народа, мы приносили жертву самоотречения и самоуничтожения и думали, что это прогресс. В то же самое время, как тверские гимназисты изгоняли из собрания даму, тринадцать лиц, принадлежавших к составу мировых учреждений Тверской губернии, из которых многие уже перешагнули границу лет, где по тогдашней вере молодого поколения начиналась область «отсталости», были арестованы, привезены в Петропавловскую крепость и преданы суду Сената. По официальному извещению «Северной Почты», эти тринадцать лиц «позволили себе письменно заявить местному губернскому по крестьянскому делу присутствию, что они впредь намерены руководствоваться в своих действиях воззрениями и убеждениями, не согласными с Положением 19-го февраля 1861 года, и что всякий другой образ действий они признают враждебным обществу».
Все это в совокупности знаменовало собою чрезвычайную, напряженную возбужденность тогдашнего хода дел и общественного положения.
* * *
Из Польши доходили смутные вести. Что такое там делалось – мы мало еще смыслили, ограничиваясь перепечаткою кратких сухих известий из официальной «Газеты Польской». Слышно было, что в Варшаве поднялись новые демонстрации, особенно против Фелинского, что там опять запели гимны…
Польский вопрос только еще нарождался в русской литературе. Один лишь «День» подымал его, но и то в теоретической, отвлеченной сфере. Это были честные усилия, честные стремления и золотые мечты поставить его на обсуждение людей нашего и польского лагеря. «День» хотел обоюдно выяснить дело, прийти к полюбовному соглашению и дружно идти вперед, рука об руку. Ему откликнулся писатель Грабовский, открыто и смело доказывая права Польши на западную нашу окраину, на основании католическо-шляхетской цивилизации. Народ при этом не принимался ни в какое соображение. Грабовский заявил, что интересы католицизма и Польши суть одно и то же. Это был в то время в высшей степени знаменательный голос, который, однако же, кое-где в литературе был найден лишь ультрамонтанским отголоском, не более.
Литература не понимала еще сути этого дела. В тогдашних органах ее, не исключая даже официозного «Нашего Времени», Северо-Западный край зачастую назывался просто Польшею. Известия из Виленской и Минской губернии были «известиями из Польши». Литература и сама-то еще не знала хорошенько, Россия ли это или Польша? Когда Иван Аксаков назвал стремления и посягательства поляков на Западный край и на Киев политическим безумием, то так называемое «общественное мнение», в лице всех журналов, напало на него «за резкие выражения, направленные против поляков».
Мы еще вменяли себе в гражданский долг делать им грациозные книксены, приправленные сентиментальными улыбками. Мы слыхали только, что поляки хотят свободы – и этого словца для нас было уже достаточно, чтобы мы, во имя либерализма, позволили корнать себя по Днепр, от моря до моря. Они говорили нам, что «это, мол, все наше» – мы кланялись и верили. Не верить и отстаивать «захваченное» было бы не либерально, а мы так боялись, чтобы кто не подумал, будто мы не либеральны.
А в это время в Париже пан Духинский уже громко проповедовал с кафедры, что мы, москали, не славяне, а какая-то презренная помесь финско-татарского племени, ублюдки азиатской семьи, дикие и варварские Тураны, грозящие гибелью славянству и европейской цивилизации. Доказательства этому пан Духинский находил между прочим и в том, что наши женщины отличаются маленькой ножкой – явный признак сродства с китаянками и что москали вовсе не подвержены ревматизму, который будто бы есть специальная болезнь цивилизованной Западной Европы; мы же до того монголы, что не можем даже чувствовать ревматической ломоты, и что, стало быть, в видах охранения цивилизованного мира надо восстановить на месте нынешней России старую Польшу, а москалей прогнать за Урал в среднеазиатские степи. В Париже целое ученое общество принялось издавать карту, где мы были отмежеваны в качестве туранских выходцев в подобающие нам границы – и европейское общественное мнение с живым, гoрячим участием ухватилось за пропаганду идей пана Духинского.
Наша литература пренебрегла или проглядела этот факт. Ей было не до того: она задавала сама себе «вселенскую смазь» и «загибала салазки», по выражению автора «Очерков бурсы»; один только «Колокол» вопиял о незаконности и преступности нашего немецки-казарменного и татарски-благодетельного обладания несчастною страною, полною таких светлых воспоминаний вольнолюбивой, республиканской старины, полною стремлений к свету, свободе, цивилизации, в которой она далеко превзошла наше московско-татарское варварство.
Мы благоговейно внимали, поучались и – сознательно, или бессознательно – повторяли все эти фразы.
Между тем Польше, через час по столовой ложке, давались кой-какие льготы; предполагалось реорганизовать суды, пересмотреть кодекс наказаний… Шаг вперед – шаг назад; сегодня вдруг строгости усиленные, а завтра – ни с того, ни с сего самая странная слабость. Все это было шатко, все показывало отсутствие какой бы то ни было системы, во всем являлся ряд полумер, полууступок, словно бы люди и не знали дотоле, что за зверь такой эта Польша, с которою ему вдруг теперь приходится возиться. Власть без авторитета, авторитет без голоса, сомневающийся даже в собственном своем праве – это было положение человека с завязанными глазами, который в незнакомой комнате и с незнакомыми людьми играет в жмурки. Его пятнают, скользят из-под рук, тычут и щиплют спереди и сзади, с боков, сверху, снизу, – а он, стараясь поймать хоть кого-нибудь, тщетно машет руками и бьет по воздуху, с каждым шагом боясь оступиться и упасть – к общему удовольствию играющих. Такая политика клонилась к явному и неизбежному ущербу нашего национального и государственного достоинства.
* * *
Бывают, точно, времена
Совсем особенного свойства!
Какого же свойства были времена 1862-го года?
То были времена, когда по преемственному завету 1858-го – 59-го года большинство газетных статей все еще начиналось известною стереотипною фразою «в настоящее время, когда» и т. д.
Перед этим в нашей литературе всецело господствовал «безобразный поступок» «Века». Все журналы, все газеты наполнялись этим «безобразным поступком», а одна из них чуть ли даже не открыла специальный отдел для этого «поступка». – «Камень Виногоров… „Век“… madame Толмачева… безобразный поступок „Века“… Виногоров… безобразный» только и слышалось со всех сторон литературной арены.
К началу 1862 года мы несколько поугомонились и попримолкли с этим «безобразным поступком», успевшим надоесть всем и каждому до последней крайности: на сцену готовился выйти кукельван в пиве г. Крона.
Сама madame Толмачева появилась перед санкт-петербургскою публикою на одном литературном вечере, благодарила господ литераторов за столь ревностные протесты против «безобразного поступка» «Века» и прочла какие-то либеральные стишки, впрочем, прочла довольно неискусно. Публика приветствовала ее восторженными рукоплесканиями и затем – всему этому суждено было кануть в Лету забвения.
То были времена так называемой «благодетельной гласности». По вопросам государственным, политическим и общественным гласности еще никакой не было: она не простиралась даже и настолько, чтобы передавать прения дворянских съездов, но зато все понимали «благодетельную гласность» как плеть для наказания преступника, или как дубину для самозащиты, и это было еще самое лучшее, самое чистое понимание ее. В некоторых же литературных органах она понималась как прекрасное средство швырять собственною грязью в противников или же как пугало против трактирных буфетчиков, когда те требовали уплаты за напитое и наеденное. В этих случаях петербургским трактирщикам грозились «спалить их одною „Искрою“ – и трактирщики трепетали пред такою „благодетельною гласностью“.
То были времена вокабул, Икса, Игрека и Зета, времена алфавитной гласности, когда в «Искре» обличались какой-то идиллик Филимон, какой-то воевода Болотяный, какие-то Мидас, Псих, Урлук, Рыков и Макар-Гасильник; обличались города Чертогорск, Уморск, Грязнослав и проч., и когда в обличительных стишках, раз в неделю, неизбежно как смерть, рифмовались «Век» и Лев Камбек, Краевский и «берег Невский», Чичерин, «мерин» и «благонамерен».
К этому времени не осталось уже ни одного имени незаплеванным, ибо вернейшее средство прослыть прогрессистом заключалось в том, чтобы ругаться над достойными людьми: значит, мол, я достойнейший, если достойных забрызгиваю грязью.
Басня о Слоне и Моське повторялась в тысяче примеров, и часто Моськи благодаря своему лаю становились Слонами.
Это еще было время доброй, наивной веры во всякого, кто кричал громко и называл себя либералом. – Как же? человек ведь кричит: я либерал! – ну, значит, и точно либерал.
Время искренней веры, время веры в искренность кричавших!
И какое раболепие выказывали эти господа пред барами, бросавшими им подачки: все равно, будь этот барин оракул литературный или откупщик, давший деньги на издание сатирического журнала, с тем чтобы его там не задевали. И зато с какою вольнонаемною наглостью накидывались они на всякого, на кого только этим барам угодно было натравить их!
Усердие, достойное лучшей участи…
И как мы были лакомы тогда до всяческих протестов, в которых, однако, выступали на борьбу не мысли, не идеи против идей, а по преимуществу чванство нравственным достоинством против мнимой нравственной низости.
То были времена, когда, по словам одного тогдашнего стихотвореньица, —
Сикофанты, адаманты
И гиганты прессы
Собиралися все вместе
Сочинять прогрессы.
И точно: это было сочинение своих собственных прогрессов в ущерб прогрессу действительной жизни и здравого смысла.
Некто во имя собственных прогрессов стал отрицать, например, литературную собственность. «Может ли автор сказать, – писал этот некто, – что мысль, изложенная им в своем сочинении, есть его личная собственность? Только люди очень самолюбивые и недостаточно следившие за процессом мышления могут в каждой своей мысли видеть свою исключительную собственность. У мысли нет отдельного хозяина, как нет хозяина у воздуха, и решительно несправедливо говорить, что такая-то мысль принадлежит такому-то, а такая-то такому-то… Мысль не собственность и оплачиванию не подлежит. Тут продается возможность усваивать ее, называемая печатанием. Если в этом деле такую роль играет печатание, то в таком случае награда следует не автору, а Гуттенбергу; а как Гуттенберга нет в живых, то и давать ее некому. Если же речь о возможности усвоения рассматривать отдельно от печатания, то ведь и устная речь представляет ту же возможность: все чтение лекций основано на этой возможности. А как за лекции берут деньги, то отчего же не брать денег за всякий разговор, за всякую мысль, которая покажется кому-либо его собственной? Развивая теорию возможности усвоения мыслей, нетрудно прийти к тому, что люди не должны говорить ни одного слова даром, потому что всякий разговор есть ряд мыслей» [79]. – По этой своеобразной логике нет литературной собственности, нет права на мысль, права на изображение, права на имя, и вовсе не надо даже и литературы, и прессы вообще, а вместо всего этого давайте, мол, говорить! Мы будем говорить и поучать вас, а вы слушайте; а кто не слушает и не согласен с нами, тот «тупоумный глупец», «Дрянной пошляк» и проч.
Но все это еще только наивно и странно; мы же на том не остановились, мы дошли до столбов Геркулесовых. Для доказательства истинности своих «убеждений» и для вящего распространения их, мы прибегали ко всяческим насилиям: явная ложь, клевета, самовосхваление – словом, все темные силы, какие только находились в распоряжении поборников истины, были пущены в ход для зажатия рта противникам, подымавшим голос во имя простого здравого смысла.
Ввиду всех нелепостей и промахов всевозможных плюгавых Анцыфриков журнальные оракулы приказывали здравому смыслу молчать, потому «пусть лучше ошибаются, но пусть не забывают общего дела».
Это было своего рода фатовство, фанфаронство «общим делом». В чем оно, это «общее дело»? – того и сами не знали большинство этих фатов и фанфаронов. Одни в этой фразе поклонялись какому-то неведомому кумиру, другие эксплуатировали ее в пользу собственных карманов или самолюбий. И это понятно: в те времена у нас не было еще действительной общественной жизни, не было истинного, действительного участия в общем деле. Общество слышало только голоса разные, но дел не видело, и потому оценка общественных деятелей была очень трудна. Под видом их могли свободно фигурировать всякие побуждения, не выключая простого фатовства и фанфаронства, со стремлением чем-нибудь ухлопать свой досуг, лишь бы заявить себя.







