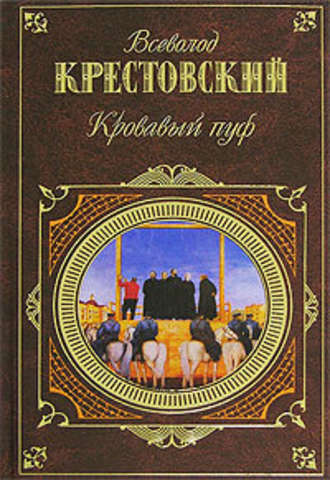
Всеволод Владимирович Крестовский
Панургово стадо
VIII
«С того берега»
Но не таков был Ардальон, чтобы сразу смириться перед Фрумкиным. Еще в те времена, когда он был становым приставом, он сделал себе такую привычку, чтобы все ему покорялись, а теперь вдруг какой-нибудь Мошка Фрумкин одолевает!
Нет, этого нельзя! Это невозможно! Горше всего была потеря авторитета, потеря преобладания. Во что бы то ни стало надо приложить все усилия, пустить в ход все способы, всю изобретательность к тому, чтобы восстановить свой авторитет в прежней силе. Раз, что он восстановлен, преобладание и бесконтрольность администратуры явятся сами собою, как естественные следствия полояровского авторитета, и тогда Ардальон наступит на василиска и покорит под ногу свою змия, и скорпия, и Мошку Фрумкина.
Хотя Ардальон и был теперь весьма сконфужен, хотя он и вконец растерялся, тем не менее продолжал третировать в душе своих сотоварищей, как дураков. А между тем самолюбие вопиет, злоба на Мошку кипит, обаяние недавней власти требует восстановления падшего достоинства, мозги работают над скорейшим изобретением способов для этого восстановления, а тут эта сконфуженность мешает, эта растерянность и самая необходимость поспешности лишают возможности спокойно сосредоточиться в своих мыслях, обдумать, обстроить получше, обставить половчее все дело – и вот Ардальон Полояров сгоряча додумывается до замечательного изобретения.
* * *
Члены назначили ему вечер, когда он обязан был представить им отчеты. Так как Фрумкин опасался с их стороны охлаждения к делу, думая, что Ардальон успеет подвести под них какую-нибудь такую механику, которая возвратит ему общее их доверие и расположение, то и решился поэтому действовать сгоряча, не давая ни членам, ни Полоярову сообразиться и одуматься. Впрочем, члены достаточно сильно поднялись против своего администратора и сами назначили ему следственное заседание на другой же день после восстания.
С утра они, по обыкновению, разбрелись; но Полояров остался дома и все время запершись сидел в своей комнате. Вечером же, когда все собрались, он сам, без всякого зова и понуждения, очень спокойно вышел к ним в залу. В лице его было гордое и несколько презрительное спокойствие незаслуженно-оскорбленного достоинства. Это лицо как будто говорило: «а все-таки вы-де дурачье, и я стою настолько высоко, что все ваши оскорбления никак до меня не достигнут».
– Извините, господа, – начал Ардальон очень тихо, сухо и сдержанно. – Извините меня, что я не успел приготовить вам отчет… Я попрошу на это еще дня два сроку… сегодня никак не мог, потому что получил из-за границы очень важное для меня письмо и должен был по поводу его заняться некоторыми соображениями.
– Какое нам дело до ваших писем! – отозвался Фрумкин. – Из-за ваших корреспонденций не терпеть же общему интересу! Это довольно странно!
– А может, эта корреспонденция касается еще более важных и более общих интересов, чем ваши? – загадочно и веско возразил Полояров. – Вы думаете, что весь мир только в ваших одних интересах и заключается?.. Но я повторяю вам, что я не мог и даже… просто не имел права оставить без известных соображений это письмо.
– Да какое письмо-то?.. Откуда письмо? – не утерпела любопытная Лидинька.
– Из Лондона, – как бы нехотя и равнодушно ответил ей Полояров.
Все насторожили уши.
– Из Лондона? – протянула удивленная и озадаченная Затц. – Это еще новости какие-то!.. Хм… С кем же это у вас корреспонденции в Лондоне завелись?
– А вы полагали, что я только с вами и мог вести их? Слишком много чести мне! – иронически поклонился ей Ардальон.
– Вы из Лондона письмо получили? От кого же это! – вмешался Малгоржан, любопытный не менее Лидиньки.
– От Герцена… От кого же еще! – опять как бы нехотя и равнодушно ответил Полояров.
Это последнее сообщение произвело-таки своего рода эффект. Фрумкин смутно стал предчувствовать, что противник подводит какие-то еще неведомые ему подвохи. Все переглянулись – и в этих скрестившихся взглядах сказалось и недоумение, и сильное любопытство: «Как это, мол, Ардальон Полояров – и вдруг письмо от Герцена!.. Герцен и Полояров!.. Э!.. Значит, Полояров таки молодец… Штука-то не простая!» – помыслил каждый про себя не без того, чтобы не ощутить в душе маленький позыв на возврат некоторого уважения к Ардальону.
– Да! – со вздохом начал Полояров грустным и горько-ироническим тоном, вынимая из бокового кармана разорванный конверт. – Мои друзья, те, на кого я так надеялся, кому я верил, кого я считал людьми одинаковых убеждений со мною, все те, для которых я готов был по-братски жертвовать и временем, и трудами, и моим честным заработанным куском хлеба, – все те от меня отвернулись, подозревают меня в каких-то проделках, считают за какого-то подлеца и мерзавца!.. Это в благодарность за мое-то братское радушие!.. А вот люди иного сорта, люди, с которыми я, положим, лично и не знаком, но эти люди и заочно знают меня и делают мне честь и уважение… Они вот и заочно успели понять и оценить меня… А мне больше ничего и не нужно! Я и тем счастлив! Считайте меня после этого за кого вам угодно – мне решительно все равно: я все-таки знаю, что за мною остается уважение таких людей, до которых нам с вами далеко, господа.
Всю эту речь, очевидно подготовленную заранее, Полояров произнес даже растроганным голосом и притом с чувством неуязвимого, благородного достоинства, которое знает себе настоящую цену.
– Да мы тебя вовсе и не думаем за подлеца считать! – вступилась Лидинька. – Мы только отчета хотим, потому что это так в правилах положено… Что ж тут такого?
– А о чем пишет-то? Покажи, душа моя… прочти, пожалуйста! – ласково приступил Малгоржан, в котором сила любопытства значительно умягчила на время силу враждебности к сотоварищу.
Моисей Фрумкин мрачно стоял поодаль у окна и в злобном молчании кусал себе ногти. Он сильно опасался теперь, что члены примирятся с Ардальоном, и вся его стратегика рухнет, опрокинутая ловким противником. Глупый князь, побежденный именем Герцена, уже юлил около Полоярова и искательной улыбкой осклаблял свои зубы. За исключением одного только Моисея, все члены любопытно подвинулись к Ардальону Михайловичу и не без благосклонности приготовились услышать герценовское послание.
Полояров развернул письмо и начал читать:
«Милостивый Государь
Ардальон Михайлович!
Мы не знакомы с вами лично. Вы выступили бойцом на ваше поле далеко позднее нас; мы были уже тогда вдали от родины, и здесь, на этом берегу, готовились к святому служению ей… Мы вышли ранними сеятелями. Вам досталась доля более завидная, чем нам: вы нас моложе, вы нас бодрее. Вы на месте осязаете вашу родную почву, и вам, быть может, предстоит честная жатва… А мы… мы только издали можем смотреть на нее, наблюдать ее, мучительно скорбеть о ней, о нашей, пока еще несчастной родине и присоединять наш горячий голос, но увы! только голос – к светлой благородной деятельности людей вашего поколения. Мы не знакомы с вами лично, но мы заочно знаем вас. Добрые вести о деятельности честных людей хорошо доходят из России, несмотря на российско-немецкие таможни, татарские цензуры и рафинированную жандармерию. Вы остаетесь одним из тех немногих деятелей, которые высоко держат в России знамя демократического социализма. С светлым упованием обращаются наши очи на этих апостолов, бедных числом, но богатых духом и верою. Идите же твердо и неуклонно вашим тернистым путем к источнику новой жизни! Борьба неизбежна – боритесь! Мы будем благословлять вас. Вы победите – мы будем братски ликовать с вами. Вы падете – мы запишем на вечную память всему миру ваши громкие имена в наши святые мартирологи, мы вплетем их в славный венец наших мучеников свободы. Идите! – над вами заря победы! Отходящие бойцы кланяются новым победителям. Привет вам из нашего далека! Горячо жму вашу руку.
Ваш А. Герцен».
Письмо это сначала озадачило всех слушателей. Малгоржан уже стал было сладко улыбаться своими жирными глазами. Анцыфров ласково заегозил и головенкой, и руками, и ногами – точь-в-точь как маленький песик с закорюченным хвостиком, а князь просто заржал от восторга и, слюняво сюсюкая, горячо ухватил и тряс руку Полоярова:
– Браво!.. Поздравляю!.. Благодарю!.. благодарю!..– лепетал он захлебываясь. – Браво! Ей-Богу, браво! Я рад… я душевно рад!..
– А покажите-ка конверт? – с каким-то затаенным умыслом и с видимым недоверием обратился к Ардальону Фрумкин.
Легкая тень смущения пробежала по лицу Полоярова. Он насупился и, кашлянув, отвернулся, будто и не слыхал слов Моисея. Тот повторил свое требование.
– На кой вам черт конверт еще понадобился?
– Так. Видеть желаю.
– Нечего вам тут видеть! Ничего вы дальше своего носа не увидите.
– А вы все-таки покажите. Отчего это вы так упорно не желаете показать мне?
– Да мне чтó!.. Пожалуй, нáте! глядите!
И он пренебрежительно бросил конверт Моисею.
Тот взял его со стола и внимательно оглядел с обеих сторон.
– Какими же вы судьбами получили это письмо?.. Тут что-то ни наших, ни заграничных штемпелей не видать… да и марок тоже нету.
Фрумкин вопросительно испытующим взглядом поглядел в лицо Полоярову.
Ардальон скосил глаза свои вниз и в сторону.
– Экой вы младенец невинный! – помолчав немного, но все-таки не глядя на Моисея, насмешливо заговорил он. – Какой же это дурак стал бы такие письма прямо по почте пересылать? Для этого надо не иметь в башке ни капли человеческого смысла! Разве такие вещи по почте пересылаются?
– А кáк вы получили его? – любопытно допытывал Малгоржан с приятной улыбкой.
– Да нынче вот… Сижу я это над вашими расчетами (слово «расчеты» Полояров произнес не без преднамеренной иронии), вдруг звонок. Я отворяю, смотрю – какой-то совершенно незнакомый господин. – «Здесь, говорит, живет Ардальон Михайлович Полояров?» – Здесь, говорю: – я сам и есть; а вам чтó, говорю, угодно? Тут он мне подал это самое письмо. «Я, говорит, из друзей… вы не сомневайтесь! Проездом из-за границы и еду теперь в Москву, а через несколько дней вернусь, и тогда, говорит, непременно буду у вас». Я запер дверь за ним, распечатываю и просто глазам не верю!.. Да, – прибавил Ардальон в заключение с самодовольной улыбкой, – порадовал-таки меня Александр Иванович – спасибо ему, голубчику!.. Это ведь просто патент в некотором роде… Этим можно гордиться-с!
– Гордиться-то можно, да только не вам, – с едкостью заметил Фрумкин.
– Отчего ж бы это и не мне-с?
– А оттого, что не вы ли сами всегда обзываете Герцена и дураком-то, и отсталым-то, и лишним человеком, и краснобаем. Вспомните-ка, ведь это все ваши эпитеты! То вдруг еще вчера он у вас выдохшийся болтун, пустельга-колотовка, а сегодня уж вы гордитесь им!.. Последовательно-с! И главное, прочность ваших убеждений рисует!
Полояров побагровел и злобно вскинулся глазами на Моисея.
– Я с вами и говорить-то не хочу! – презрительно пробурчал он, отворачиваясь.
– Это всеконечно так-с! – с улыбкой поклонился Фрумкин. – Больше вам и сказать-то мне нечего.
Он чувствовал, что шансы его борьбы с Полояровым начинают колебаться, и потому, как утопающий за соломинку, хватался теперь за каждый малейший крючок, чтобы повернуть дело в свою пользу.
– А мне, господа, это письмо кажется очень сомнительным! – не стесняясь присутствием Ардальона, громко обратился он к присутствующим. – И странно это, право! Отчего вдруг Ардальон Михайлович получает от Герцена хвалебный гимн своей честности как раз в то самое время, когда мы настойчиво потребовали от него отчетов? Не знаю, как вы, господа, а я нахожу, что это очень странная игра случая!
Лидинька громко захохотала одобрительным смехом. Анцыфров вслед за нею тоже было фыркнул, но заячьим взглядом взглянув на Ардальона, тотчас же струсил и примолк. И Малгоржан, глядя на других, состроил вдруг лукавую усмешку, озаренный новою мыслию со стороны Моисея. Фрумкин жe, видя это, начинал уже ощущать предвестие некоторого торжества.
Полояров в первое мгновенье окончательно смутился. Злоба в нем закипала все более.
– Я… я… я… – отрывисто заговорил он, заикаясь от волнения и злости, – я за такие сомнения морду колочу!
Эти слова сопровождались весьма выразительным жестом в воздухе.
И нужно же ему было произнести такое слово! И нужно же было изобразить такой жест!.. Эта «морда» сразу сделала то, что члены-сожители снова и всецело передались на сторону Фрумкина. Весь эффект герценовского послания пропал задаром. Эта «морда» очень живо напомнила членам полояровские свойства и качества, его бесцеремонность, его самомнение, его нравственную диктатуру, которую только вчера, благодаря Фрумкину, они успели сбросить с своей шеи. Герценовское письмо расставляло им новые сети, и это очень хорошо поняли теперь злосчастные коммунисты. Они поняли, что примириться с Полояровым, поддавшись обаянию герценовских похвал его особе, значит опять пойти к нему в кабалу, и потому очень живо отшатнулись от Ардальона, тем более, что Моисей Фрумкин успел даже заронить в них сомнение касательно подлинности хвалебного письма.
– Нет, главное, он-то! Он-то в деятели попал! – пронзительным своим голосом затараторила Лидинька, которая, как флюгер по ветру, перешмыгивала от одного к другому. – Скажите пожалуйста, какие нынче деятели!.. Нет, настоящие-то деятели не так поступают… Вот Лука у нас был настоящий деятель, так тот, небойсь, писем не получал и всенародно не хвастался ими. Деятели-то теперь по казематам сидят… Вот где деятели!.. И в самом деле, поглядишь, то тот арестован, то другой, того взяли, тот сослан, – берут ежедневно и здесь, и там, а одно только наше красно солнышко, наш деятель, свет Ардальон Михайлович, на свободе гуляет… Нет-с, батюшка, кабы ты был настоящий деятель, так тебя уж давным-давно бы арестовали, а ты вишь все еще промеж нас толкаешься. А отчего ты не арестован? Отчего?
– Глупый вопрос! – пожав плечами, буркнул Полояров.
– Нет, ты мне скажи, отчего ты не арестован? – как пиявка впилась Лидинька все с одним и тем же вопросом.
– Оттого, что ты дура.
– Это, сударь мой, не причина-с. А ты мне все-таки скажи, отчего Лука вот арестован, а ты нет? Ты скажи мне, а я послушаю!
– Н-да-с! Отчего вы и в самом деле не арестованы, если вы такой важный деятель, если вы один только высоко держите знамя демократического социализма? – ядовито поддержал Лидиньку Моисей Фрумкин. – Тут вот поглядишь, кто и гораздо пониже вас держали знамя-то это, однако и тех позабирали, а вы благоденствуете на свободе. Какие это боги покровительствуют вам?
– Нет, ты скажи нам, отчего и зачем ты не арестован? – приставала между тем Лидинька.
– А вы мне скажите, зачем вы не арестованы? – руки в боки и ноги врознь, с нахально смеющимся лицом обратился Полояров ко всем присутствующим.
– Да мы ведь писем от Герцена не получаем, – ответил за всех Моисей Фрумкин.
– А отчего вы не получаете?
Некоторые из членов совещательно переглянулись между собою. Фрумкин молчал.
– Ну-с, так отчего же вы не получаете? – с возрастающим нахальством наступал на них Полояров.
Что было отвечать ему на такой назойливый вопрос?
– Отчего мы, и в самом деле, не получаем? – хлопая глазами и принимая все это в самую серьезную сторону, тихо спросил наивный князь у Моисея.
– А я вам скажу отчего! – продолжал Ардальон, стоя фертом перед всей компанией. – Оттого, что вы рылом еще не вышли получать-то такие письма! Вот отчего!
– Ладно, ладно! А вы нам, милостивый государь, извольте все-таки отчеты представить! – завопило на Полоярова все общество, вконец уже оскорбленное последней выходкой. – Вы нам отчеты подайте, а если через два дня у нас не будет отчетов, так мы их у вас гласно, печатным образом потребуем! В газетах отшлепаем-с! И посмотрим, какие тогда-то вот письма к вам станет Герцен писать!
Полояров, махнув рукою, ретировался в свою комнату.
IX
Из угла в угол по комнате
Ему было жутко. Герценовское письмо, на которое он так рассчитывал, окончательно не вывезло. Упорная наглость – элемент наиболее присущий, наиболее естественный в натуре Полоярова – тоже не помогла. «Ах, кабы не жид!» – думает себе Ардальон. «Кабы не он, все бы шло, как по маслу!.. С остальными бы управился!» Но эти остальные были сильны теперь жидом, а жид ими, и в результате, сколь ни прикидывал и так и сяк Полояров – выходило, что все-таки ничего против этой соединенной силы не поделаешь… Главнейшим образом смущала эта угроза «предать его благодетельной гласности». – «Ох, уж эта благодетельная!» – злобно сжимая зубы, мыслил Полояров. – «А ну, как отпечатают?!» Эта мысль приводила его в содрогание: если отпечатают, тогда в журнальном мире погибла его репутация, тогда эти канальи Фрумкины сделают, что и статей его, пожалуй, принимать не станут; тогда по всем кружкам, по всем знакомым и незнакомым, по всем союзникам, друзьям и врагам самое имя его эти Фрумкины пронесут, яко зол глагол. – «Все эти „Искры“ в набат ударят, пойдут теребить, потрошить, копаться в тебе, и на все лады, и в стихах и в прозе, переворошат всю твою внутренность». – И Полояров с наслаждением начинает желать, чтобы над всеми этими «Искрами», над всеми газетами, над всеми Фрумкиными вдруг стряслась бы такая беда, такая гроза, чтобы слова про него некому было пикнуть. Эти самые «Искры» и Фрумкины еще только вчера составляли его силу, его первую угрозу «подлецам и пошлякам», эти самые «Искры» вчера еще с таким ласковым почтением относились к нему, а сегодня он уже их боится… И все это наделал какой-нибудь Мошка Фрумкин.
– Нет, надо как ни на есть поправить это дело! – решает себе Полояров. – Лоб расшибу, а поправлю!
«Просить у них прощения, что ли?» – мелькает ему мысль. «Нет, не годится!.. Простить-то, пожалуй, простят, но уж прежнего уваженья не будет… и каналья Фрумкин на твое место сядет».
– Как!.. Чтобы вдруг Фрумкин… Да никогда!.. Ни в жисть! – азартно схватывается с места Полояров и начинает шагать по комнате.
«Эх, любезные друзья мои!» – продолжает он думать, не без злорадства потирая руки. «Кабы это я был теперь становым, а вы бы у меня в стане проживали, показал бы я вам куда Макар телят гоняет… Всех бы эдак: ты что, мол, есть за человек такой? Ты, мол, Фрумкин? – Тарарах тебя, каналья!.. Таррах-трах!.. Раз-два!.. Справа налево!.. В острог! в секретную! При отношении – так, мол, и так»…
– Рррасшибу! – в увлечении вскрикнул Полояров, описав по воздуху разящее движение кулаком, и с размаху хватил им по столу. Ни в чем не повинный стол затрясся и задребезжал со стоявшим на нем стаканом недопитого чая.
– Тише ты, дьявол! – огрызнулся на него вполоборота Ардальон Михайлович и снова зашагал по комнате.
И вот, все больше и больше предается он злорадственным мечтам; думается ему, что он и точно становой пристав и делает облаву на Фрумкина, на Малгоржана… Лидинька в ногах у него валяется, прощенья просит… Я те прощу! Я те прощу сейчас, голубушка! Эй, сотский, приготовь-ко горяченьких… ну, матушка моя, с богом!.. А ты, иудейская твоя морда… Тара-pax!.. в кандалы его!.. Я те дам социализмы заводить!.. Я те вспишу пропаганду! Ты думал, что ты можешь мне не покоряться? Ты бунтовать? Ты народ смущать?.. Ты власть мою не признавать?.. Вот-с, ваше превосходительство! Вот он налицо пред вашим превосходительством! главный бунтовщик-с!.. И все они здесь же, под конвоем-с! Всех захватил и изловил…
– Не стоит благодарности-с, ваше превосходительство… Помилуйте-с… Мой долг… рад живот положить!.. Какое распоряжение изволите теперь сделать-с?.. В острог?.. – Очень хорошо-с. Ну, любезнейшие, пожалуйте-с!.. Милости просим на казенное содержание!.. А что? Будете теперь сомневаться, от кого мы письма получаем? Будете требовать отчетов? ась?..
И куда-куда не заносят злорадно-золотые мечты огорченного Ардальона! Эти мечты в данную минуту были и его утешением, и его отместкой врагам за свое недавнее поругание. Воображается ему, что его за усердие к ордену на шею представляют, что он даже в донские казаки переходит и командует целым казачьим полком, специально предназначенным для того, чтобы переловить и истребить всех Фрумкиных на свете. И тут же почему-то представляется ему его последняя статья «О пауперизме и пролетариате в смысле четвертого сословия», за которую благодарный редактор предлагает ему по тысяче с листа, а благодарная Европа дарит почетную премию, и разные ученые общества, клубы, ассоциации присылают ему дипломы на звание почетного члена… Губернатор снова благодарит его и снова представляет к награде, к чину, к ордену… И этот губернатор вдруг не кто иной, как сам Александр Иванович Герцен… который с гордостью называет его своим другом и велит публиковать о том во всех газетах…
Эти золотые мечты переходили почти в какой-то бред и грезы, что, впрочем, и немудрено при том возбужденном состоянии, в каком находился теперь Ардальон Михайлович.
Но возвращаясь, по временам, к действительности, голова его додумалась-таки до решения, как быть и что следует делать. Присев к столу и вынув чистый лист бумаги, он принялся писать, медленно выводя буквы и как бы обдумывая каждое слово.
«Его Высокопревосходительству…», но вдруг зачеркнул написанное и вместо того выставил:
«Его Сиятельству Господину Шефу корпуса…»
Засим подумал, пустил несколько колец табачного дыма, еще подумал и снова зачеркнул, и стал писать так:
«В Третье…»
– Нет, не так! – решил он, наконец, еще раз подумав, и снова прописал полный титул того, кому адресовалась бумага, а затем уже стал излагать самое дело:
«Сим имею честь, по долгу верноподданнической присяги и по внушению гражданского моего чувства, почтительнейше известить, что вольнопроживающий в городе Санкт-Петербурге нигилист Моисей Исааков Фрумкин распространяет пропаганду зловредных идей, вредящих началам доброй нравственности и Святой Религии, подрывающих авторитет Высшей Власти и Закона, стремящихся к ниспровержению существующего порядка и наносящих ущерб целости Государства. А посему…»
На этом «посему» Полояров опять остановился.
«Нет, „посему“ еще рано!.. Надо бы прежде еще что-нибудь такое… пополновеснее, а потом уже „посéму“… Но что бы такое?»
И снова стал он ходить по комнате и придумывать нечто полновеснее, о среди этих раздумываний пришла ему вдруг мысль: «А что как ничего этого не удастся?.. Как если Фрумкина-то возьмут, подержат-подержат, да и выпустят, а он тогда вернется к нам – го-го, каким фертом!.. Не подходи! Да как начнет опять каверзы под меня подводить?.. Тут уж баста!.. Вся эта сволочь прямо на его стороне будет… Как же, мол, мучился, терпел… сочувствие и прочее…»
– Нет, это не годится! Это не подходящее! – порешил Полояров и в мелкие кусочки изорвал начатый донос свой. – Этим я только дам ему же лишние выгодные шансы против себя самого. А лучше бы что-нибудь другое!.. Но что ж другое?.. Что?
И снова зашагал он по комнате.
В зале раздавались меж тем веселые голоса и громкий смех. Громче всех хохотала Лидинька. О чем там разговаривали, Полоярову не было слышно сквозь затворенную дверь. Можно было только догадываться, что над чем-то или над кем-то смеются. – «Ага, верно, меня на смех подымают!» – домекнулся Полояров, и на цыпочках подойдя к двери, внимательно стал вслушиваться сквозь замочную скважину. Но и подслушиванье не определило ему точнее причину общего смеха. Слышно было только несколько голосов, раза два как будто словно «он » сказали, да еще как будто слово «деятель », – так по крайней мере послышалось… А может, и не деятель… может, сеятель, а может, и другое что – черт его знает! – Не разберешь! И опять этот невнятный шум говора покрылся взрывом дружного смеха.
«Ну да!.. „Он“… «деятель »… Это они надо мною!.. Надо мною!» – думал Полояров, злобно кусая себе губы. Ему сделалось и больно, и досадно, и просто избил бы их всех!.. Но главное, это так больно и так обидно, что хоть плакать готов…
И он на несколько минут, под влиянием щемящего до слез ощущения обиды и боли, вдруг почувствовал себя таким несчастным, пришибленным, таким несправедливо угнетенным, таким отверженным и жалким, но в высшей степени честным и благородным человеком.
– Да! вот всегда такова-то правда людская на свете! – печально и горько вздыхал он. – Ты душу за них отдать готов, ты на крест, на плаху идешь, а они над тобой издеваются, они в тебя каменьями и грязью швыряют… Люди, люди!.. братьями вы называетесь!.. Что ж, рвите меня по-братски! бейте меня, плюйте, терзайте!..
И Полоярову представляется, как его бьют и терзают «за правду» и как он благородно переносит все это! Как возвышенно страдает он!.. О, да! Он невинно страдает! Он – мученик правды, мученик человеческой злобы, зависти, интриги!.. Это они все его уму, его гению, его таланту, его успехам завидуют! Это все одна черная, низкая зависть!
И опять представляется ему, что он, изнуренный, обессиленный бесплодной борьбой против людского зла и неправды, умирает в злейшей чахотке, в смрадной больнице на гнилом соломенном тюфяке… Вот кляча на роспусках везет некрашеный, убогий гроб, и в этом гробу он, Ардальон Полояров… И все эти люди приходят глядеть на него… Да!
«И только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он, ненавидя!..» —
начинает наконец он патетически думать и мечтать некрасовскими стихами.
– Тьфу!!! – как бы опомнившись, энергически плюнул Полояров почти в ту же минуту. – Да чтó ж это я, в самом деле?!. Уж до стихов!.. Ерундища какая-то все в голову ползет… Смешно, право!
«А ты скажи, зачем ты не арестован? Нет, ты, брат, постой! ты нам прежде скажи, зачем и почему ты не арестован? Зачем Лука арестован, а ты нет?» – смутно звучат в ушах Полоярова как будто бы давнишние голоса.
«А и в самом деле, зачем я не арестован?» – остановясь среди комнаты, задает он вдруг самому себе неожиданный вопрос и даже не без некоторого удивления. «Для чего я не арестован доселе, и почему мне не быть бы арестованным?..»
…«А чтó, если бы вдруг хоть сегодня ночью нахлынули жандармы и взяли бы меня?..»
…«Хм!.. А ведь это даже недурно бы было!.. Ей-Богу, недурно!.. Во-первых, все эти отчеты тогда к черту!.. во-вторых…»
…«Во-вторых, арестовали же Луку… значит, и меня можно!..»
…«Н-да! вот, небось, как сжамкали Луку, так и куды как все уважать его стали!.. Кто, почитай, и совсем-то не знал его, или был на одних только шапочных поклонах, так и тот теперь, поди-ка, везде трубит: „как же, мол, очень коротко знакомы были!.. Даже, можно сказать, приятели!..“ И сколько этих приятелей сразу же найдется, чуть только сжамкают человека! Каждому, небойсь, хочется, чтоб Лукашкина известность и слава хоть задним концом, а и меня бы чуточку задела… Ха, ха, ха!.. Ей-Богу, отменная это штука быть арестованным!.. Сейчас это они тебя в десять раз больше уважать начинают».
«Нет, ты, брат, скажи, зачем ты не арестован, коли ты держишь знамя демократического социализма? Ты скажи, какие боги тебе покровительствуют?» – снова начинают смутно гудеть в голове Ардальона все эти давешние возгласы.
…«И в самом деле, отличная штука!» – размышляет он далее. «То есть вот как: если заберут меня завтра или послезавтра, то отчеты, главное дело, сейчас же фю-фю!.. А потом как выпустят, так этих дурацких отчетов уж никто с меня не потребует… Го-го! Поглядел бы я тогда, кто это осмелится!.. Нет, братцы, шалишь! Тогда все вы, сколько вас ни есть, опять и знакомством моим, и дружбой гордиться станете… Уважать меня станете, подлизываться ко мне… Ну, Иудей! Чтó взял?! Сел на мое место? а? Нет, брат, тогда уж и духом твоим в нашей коммуне не попахнет!.. Выживу!.. Ха, ха, ха!.. Ей-Богу, отменная штука!.. Вот фортель-то!.. Ну, брат, Ардальон Михайлович, крепись! Шевели мозгами, пошевеливай!..»
…«И для чего бы, в самом деле, не быть мне арестованным?.. Это даже для приличия, так сказать, для конвенансу, для поддержки собственного достоинства следовало бы. Ведь я все ж таки – черт возьми! – известного рода общественное положение имею… Как поглядишь, все более или менее порядочные люди, то есть почти все арестованы, а я нет!.. Гм… Это даже и стыдно, и обидно отчасти. Чтó же, разве я уже так ничтожен, что и ареста не стою?.. И ведь каждый мозгляк Анцыфров, каждая дура Лидинька после этого вправе будут подумать про меня, что я сущая ничтожность… И точно: какой же я серьезный деятель, если гуляю себе на свободе, когда даже Лука Благоприобретов арестован!..»
…«И не понимаю просто, чего эти жандармы ждут?!. Чего они медлят-то?.. Просто, делом своим не занимаются, как следует. У нас ведь и все так! все спустя рукава!..»
…«Ах ты, Господи! Если бы надоумило их явиться и забрать меня хоть сию минуту!»
…«Ну что ж, подержат да и выпустят. Какие улики? где факты? – Нигде и никаких!.. В чем виноват? – Ни в чем решительно. Все чисто!.. Стало быть, тут мне и опасаться нечего… И всеконечно так, что подержат да и выпустят… Но только как же бы это сделать, чтобы быть арестованным?» – задал себе Ардальон новый и последний вопрос самого серьезного свойства и снова сосредоточенно зашагал по комнате.
Через полчаса он тихо и спокойно уже подошел к своему столу, достал лист бумаги, погнул на ногте стальное перо и тщательно обмакнул его в чернила.







