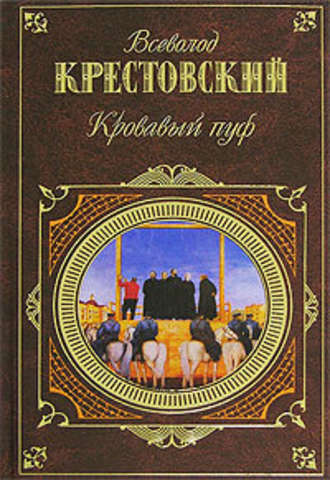
Всеволод Владимирович Крестовский
Панургово стадо
V
Великие проекты продолжают осуществляться
Шатался по Петербургу без всякого дела некий юный князь Сапово-Неплохово. Воспитание и образование свое с грехом пополам кое-как окончил он в одном из привилегированных рассадников «статских» деятелей земли Русской. Впрочем, он не то, чтобы даже окончил курс, а просто выдали ему из рассадника свидетельство, что находился, мол, в таком-то заведении. Поэтому князь Сапово-Неплохово, в сущности, был то, что называется «любитель просвещения». Естественное предназначение этого князя, казалось бы, должно заключаться в граненье тротуаров Невского проспекта, в посещении французских спектаклей да различных Бланш, Жозефин, Прозерпин и проч. Но у князя открылась вдруг одна злосчастная слабость: князь возжелал сделаться великим человеком, светилом своего отечества, – он ощутил до такой степени сильный зуд писательства, что во что бы то ни стало заказал себе быть литератором. «Быть литератором» – это стало любимейшею мечтою, счастливейшею надеждою, неотступною idéе fixe [78] юного князя, которая преследовала его и наяву, и во сне. Князь сочинял стихи, романы, очерки, драмы, эпопеи, водевили, критические и социальные этюды, политические статейки, фельетоны, словом – все, чем только может быть богата самая разнообразная литература. Это был самый плодовитейший отец своих творений. Каждое из них отдавалось отличному каллиграфу, который переписывал княжеское произведение отчетливейшим образом и трудился над затейливым изукрашением заглавного листа, после чего тетрадь поступала к переплетчику и выходила из его мастерской не иначе, как в великолепной бархатной и золотом тисненной обложке. Можно с полною уверенностью утверждать, что ни одно из произведений самых величайших гениев человечества не удостоилось чести побывать в руках своего творца с такою роскошною внешностью, как произведения князя Сапово-Неплохово. Но при этой неукротимой и почти болезненной слабости к писательству и при громадном авторском самолюбии, неизбежно соединенном с нею, князь Сапово – увы! был бездарен и глуп. И эти два качества отражались в каждом его произведении. Но, как всегда бывает в подобных случаях, они ярко кидались в глаза всем и каждому, исключая самого князя, который считал себя самым разнообразным гением, потому что может писать все – от физиологического трактата до водевиля. Князь жаждал известности и славы. Со своими роскошно отделанными тетрадями он кидался во все решительно редакции, от «Современника» до «Домашней беседы», и конечно, не было в России человека, который бы лучше и тверже знал наизусть адресы всевозможных петербургских и московских редакций, а князь изучил их по многократным, собственноличным опытам.
Но увы! – не нашлось ни одной газетки, ни одного журнальчика, который решился бы украсить свои страницы одним из бесчисленных произведений Сапово-Неплохово. И что же? – Князь не падал, не унывал духом, не разочаровался, даже не озлобился ни на единую из редакций! Черта похвального, редкого великодушия и незлобивости, при авторском самолюбии князя. Он всячески искал знакомства с российскими литераторами, зачастую назойливо являлся ко многим из них на поклон и рад был кормить их обедами и ужинами. Охотники, конечно, находились. Князю было решительно все равно, какого сорта эти литераторы – лишь бы только литераторы! Он довольствовался счастливым сознанием, что это «писатели», помещающие статьи свои в журналах. И вот этого-то князя, со всеми его слабостями, наметил себе однажды Моисей Исаакович Фрумкин, который в одной из редакций занимался иногда переводами.
Для Фрумкина подобный князь был неоцененной находкой – и Фрумкин решил, что и его точно так же, как Сусанну Ивановну, необходимо нужно «приспособить к делу». Князь сохранил еще некоторые остатки от состояния, тысяч до тридцати. Этот капиталец можно было пустить в предприятие. Фрумкин познакомил князя с Лукою и «литератором» Полояровым.
Князь остался в восторге и от того, и от другого, а особенно от Полоярова, который, будучи предупрежден Фрумкиным, стал расхваливать княжеские стихотворения. Ардальон сразу огорошил князя такою новостью, что все журналисты, мол, сволочь, эксплуататоры честного труда и вдобавок ни уха, ни рыла не смыслят, и что гораздо лучше взять да основать свой собственный отдельный и независимый орган, и в нем уже невозбранно печатать все, чего только душа пожелает. Князю необыкновенно улыбнулась идея – самому быть редактором и печатать в своем журнале все свои произведения.
На такое дело он ни на минуту не призадумался бы ухлопать все свое состояньишко. Но Фрумкин, хотя и очень сочувствовал такой идее, однако же находил, что сначала практичнее было бы устроить дело книжной торговли с общественной читальней, которая могла служить общим центром для людей своего кружка, а при книжной торговле можно сперва, в виде подготовительного опыта, заняться изданием отдельных хороших книжек, преимущественно по части переводов, а потом уже приступить и к журналу.
Князь и от этой идеи остался в восторге, а так как ее поддерживал и Лука Благоприобретов, то ей и суждено было осуществиться ранее журнала. Был подыскан один полуразорившийся книгопродавец, у которого на княжеские деньги куплен магазин, – и вот, в одно прекрасное утро, над окнами этого магазина появилась известная уже вывеска: «Книжная торговля и кабинет для чтения Луки Благоприобретова и К°». Имя Луки появилось на этой вывеске по просьбе самого князя, который не хотел (хотя и не сознавался в том), чтобы его аристократическое имя блистало на уличной, торгашеской вывеске.
Фрумкин по этому поводу прочел блистательный панегирик его скромности. Магазин хотя и был приобретен исключительно на княжеские деньги, но, по проекту Моисея и Ардальона, все это дело предполагалось основанным на началах ассоциации: князь внес капитал денежный, а остальные должны были внести капитал умственного и материального труда и чрез этот вклад сделаться равноправными дольщиками. Но в сущности, если кто и трудился неусыпно и неустанно, то это один Лука Благоприобретов, который ради этого дела отказался от житья в фаланстере и поселился кое-как в узенькой и темной каморке, находившейся тут же, при книжном магазине. Нужды нет, что каморка походила более на тесный чулан, чем на комнату – неприхотливый Лука был ею совершенно доволен и все свое время проводил при книжном деле. Днем приводил в порядок книги, справлял должность библиотекаря, конторщика, бухгалтера, приказчика и даже рассыльного, а ночью составлял каталоги, писал отчеты и еще успевал справляться за сторожа, для чего, собственно, и поселился в каморке. Он поутру и печи топил, и пол подметал, и на все эти работы у него как-то с избытком хватало времени. Одним словом, это был самый деятельный участник предприятия, и имя его недаром стояло на вывеске. Остальная компания, в ожидании будущих успехов и барышей, была только приятной компанией – не более. Впрочем, и вдовушку Сусанну приурочили к делу, «чтобы не даром ела хлеб». Ее поставили за магазинную конторку и, в помощь Луке, заставили продавать книги. Вдовушка, сделавшись компаньонкой, отполировалась в этой компании почти не менее Лидиньки Затц. Хотя и многого она не понимала, и хотя вообще «новые идеи» шли к Сусанне вроде того, как седло к корове, тем не менее она с большим успехом усвоила себе тот особенный тон и жанр, который показался так странным Татьяне Николаевне, когда Сусанна встретила ее предположением, что ей нужны, вероятно, глупые книжки.
Князь был совершенно счастлив. Он чувствовал живейшую благодарность к Фрумкину, Луке и Ардальону, и все время плавал в восторге, что наконец-то добрая судьба поставила его в обществе «таких людей». Моисей уверил его, что он даже в некотором роде Меценат и вместе с Полояровым сбывал ему очень выгодно на чистые деньги разные свои статейки, в качестве материалов для будущего журнала. Этих моисеевских и полояровских материалов набралось у князя уже изрядное количество, и не мало денег было за них переплачено двум даровитым авторам, а дело о журнале все еще стояло на точке замерзания. Фрумкин находил, что прежде чем затевать журнал, необходимо основать свою собственную типографию, в которой он мог бы печататься, и заведывание этою типографиею взять в свои собственные Моисеевы руки. И вот вскоре плохенькая типография была приобретена, тоже по случаю, и Лидинька Затц занялась было наборщицким делом, но вскоре, впрочем, нашла, что это дело не по ней и что она несравненно будет полезнее в читальной, хотя бы даже одним своим присутствием.
VI
Вечер в коммуне
У обитателей «фаланстера», известного более под именем «коммуны», был «вечер». Он порешили сообща – раз в неделю делать сборные вечера для знакомых. Тут присутствовали теперь все наличные обитатели этой коммуны: Лидинька Затц, Анцыфров, Полояров, Малгоржан-Казаладзе, юный князь и вдовушка Сусанна. Мы застаем их теперь в «общей комнате». Эта общая комната, хотя в ней и сидело теперь несколько человек, все почему-то невольно напоминала какой-то нежилой покой: совершенно голые стены, голые окна, из которых в одном только висела, Бог весть для чего, коленкоровая штора, у стен в беспорядке приткнулись несколько плетеных стульев, в одном углу валялись какие-то вещи, что-то вроде столовой да кухонной посуды, какие-то картонки, какая-то литография в запыленной рамке, сухая трава какая-то в бумажном тюричке, ножка от сломанного кресла… Посредине комнаты стоял большой раздвижной стол с несколько безобразно приготовленным чайным прибором. Словом, эта «общая комната» делала такое впечатление, как словно бы она совсем нежилая, или бы в нее только что переезжают новые жильцы, не успевшие еще устроиться.
Здесь собралось уже несколько гостей. Одним из первых по времени был Лука Благоприобретов, который не то скромно, не то угрюмо и совершенно молча, нелюдимым сидел в углу на стуле. Вдовушка помещалась за чайным столом и занималась приготовлением чая, а обок с нею присоседился Василий Свитка и бравый конно-артиллерийский поручик Бейгуш, который довольно весело и непринужденно болтал с Сусанной Ивановной, к видимому неудовольствию Малгоржана, искоса поглядывавшего на них из другого конца комнаты. Болтовня бравого поручика, очевидно, была весьма приятна вдовушке Сусанне, а это тем более бесило восточного кузена. Остальные гости занимались кто чем хотел, не стесняя ни себя, ни хозяев.
В передней раздался звонок, возвещавший нового посетителя.
– Малгоржан! подите, отворите двери! – вскричал Полояров восточному человеку.
– Ходите сами! – возразил Казаладзе.
– Подите, говорю! Это к вам гости.
– А почему вы думаете, что ко мне? А может, это к вам?
Звонок повторился.
– Малгоржан! Да подите же!
– Я не пойду… Ступайте вы, Анцыфров, коли он не хочет.
– Да это не ко мне; это, вероятно, к вам звонят, – отозвался дохленький.
– Нет, к вам.
– Нет, не ко мне, потому что…
– Потому что не потому что, а я уже раз отворял, а теперь очередь за другими. Пускай кто хочет, тот и идет!
Звонок повторился в третий раз.
– Малгоржан, да не спорьте же! – досадливо возгласил Полояров. – По теории вероятностей, это к вам, говорю!
Бейгуш, с весьма сдержанной иронической улыбкой слушавший этот курьезный спор сообитателей, встал наконец с места и прошел в переднюю. Лидинька подбежала к дверям полюбопытствовать, кого еще принесло там?
Бейгуш отомкнул задвижку и впустил даму, которой весьма предупредительно помог снять салоп.
– А! Стрешнева! здравствуйте, миленькая! наконец-то вы к нам забрались! – застрекотала Лидинька.
Полояров сделал кислую гримасу. «И на кой черт они ее сюда поваживают!» – пробурчал он себе под нос.
Татьяна Николаевна раза по два в неделю обыкновенно захаживала за книгами в компанейскую читальню и там проводила несколько времени в разговорах с ее неизменными завсегдатаями. В последнее время это было для нее почти единственным развлечением. Лидинька Затц вместе с Сусанной Ивановной чуть ли не каждый раз приглашали ее посетить как-нибудь их «коммуну», и Стрешнева обещалась, но все как-то не успевала собраться, а Лидинька между тем, без особенных претензий, заезжала к ней уже дважды. Татьяна знала, что в коммуне бывают вечера, и вспомнив, что именно сегодня там вечер, взяла и поехала, предварив тетку, чтобы за нею прислали человека часу в двенадцатом. Ей все еще хотелось рассмотреть поближе этих «новых людей», которым она втайне даже несколько завидовала, воображая, что они живут «для дела» и приносят свою посильную пользу насущным и честным требованиям жизни, а все те книжки и статьи, которыми снабжали ее из читальной, еще крепче поселяли это убеждение в ней, в «коптительнице неба», как она себя называла.
– А вот, господа, кстати! – хлопнула в ладоши Лидинька, входя в залу и обращаясь ко всем вообще. – Дело касается женского вопроса. Сейчас вот Бейгуш снял со Стрешневой салоп, имеет ли право мужчина снимать салоп с женщины?
– Отчего же нет? – отозвалась вдовушка.
– А по-моему, не имеет, потому что это унижение женщины. Да-с! – торжественно раскланялась Лидинька. – А я бы на месте Стрешневой не позволила бы ему. Все равно то же что и руку у женщины целовать! Это все поэзия-с, гниль, а по отношению к правам женщины, это – оскорбление… Вообще, сниманье салопа, целованье руки и прочее, это есть символ рабства. Отчего мы у вас не целуем? Отчего-с? Отвечайте мне!
Бейгуш с улыбкой, в которой выражалась явная затруднительность дать ей какой-либо ответ на это, только плечами пожал; но из двух «вопросов», возбужденных Лидинькой, возник очень оживленный и даже горячий спор, в котором приняла участие большая часть присутствующих. И после долгих пререканий порешили наконец на том, что ни снимать салоп, ни целовать руку мужчина женщине отнюдь не должен. Лидинька искренно торжествовала.
– Новые начала жизни вырабатываем, душечка! – пояснила она Татьяне.
Между тем Свитка с Бейгушем и Сусанной, почти с самого начала этого спора, устранились от всякого в нем участия. Они, под прикрытием большого самовара, уселись себе совершенно отдельной группой и вели свои разговоры, не обращая ни малейшего внимания на прочих. Когда же, наконец, был порешен вопрос о поцелуе и салопе, нестройный говор затих и наступила минута мимолетного, но почти общего молчания, что иногда случается после долгих и горячих словопрений. В эту-то самую минуту внимание некоторых почти невольным образом остановил на себе бравый поручик. В руках у него была случайно подвернувшаяся книга, – кажись, какой-то журнал за прежние годы – и Бейгуш что-то читал по ней тихо, почти вполголоса, но выразительно-красивое лицо его было одушевлено каким-то особенным чувством, как будто в этой книге он сделал неожиданную, но в высшей степени приятную находку.
Вдовушка Сусанна слушала его с апатично-приветливой улыбкой, но едва ли понимая, что он читает.
«Когда меня ты будешь покидать, —
декламировал Бейгуш,
Не говори «прощай » мне на прощанье:
Я не хочу в последний миг страдать,
И расставаясь, знать о расставаньи!
В последний час, и весел, и счастлив,
У ног твоих, волшебница, я сяду
И вечное «люблю» проговорив,
Из рук твоих приму я каплю яду;
И головой склонившися моей
К тебе на грудь, подруга молодая,
Засну, глядясь в лазурь твоих очей
И сладкие уста твои лобзая;
И так просплю до страшного суда;
Ты в оный час о друге не забудешь:
С небес сойдешь ты ангелом сюда
И легкою рукой меня разбудишь, —
Вновь на груди владычицы моей
Проснусь тогда роскроливо мечтая,
Что я дремал, глядясь в лазурь очей
И сладкие уста твои лобзая!»
– А мастерски передал! – с увлечением воскликнул он, окончив свою декламацию.
Некоторые господа еще во время чтения недоумело переглядывались между собою.
– Фу! фу! фу!.. Кажись поэзией понесло откуда-то!.. Батюшки мои! стишки читает! – смешливо затараторила Затц, потянув по воздуху носом и тотчас же защемив себе ноздри двумя пальцами. Она желала этим игриво и мило изобразить чувство отвращения.
Многие захохотали, взглянув на комический жест Лидиньки и, очевидно, найдя ее выходку в известной степени остроумною.
– Что это вы за ерундищу читали? – спросил Казаладзе задорным тоном пренебрежительной иронии, которая относилась, по-видимому, не к Бейгушу, а к стихам, хотя в душе-то у Малгоржана кипела злоба против самого Бейгуша.
– Ерундищу?! – вскинул тот на него удивленные взоры. – Это Мицкевич.
– Это ерунда! – подтвердил в ответ Казаладзе.
– Вы, вероятно, не расслышали: это, говорю вам, Адам Мицкевич в великолепном переводе.
– Ну, так что ж что Мицкевич?! И весь-то ваш Мицкевич выеденного яйца не стоит!
– И конечно! Что ж такое Мицкевич?! – подхватили некоторые, присоединяясь к Казаладзе, ввиду удобной возможности нового словопрения.
Легкая ирония дрогнула на губах Бейгуша.
– Для нас, для поляков, Мицкевич – священное знамя, – сказал он, – для нас Мицкевич, пожалуй, побольше, чем для русских Пушкин или Лермонтов.
– Ха-ха! Значит, оба лучше! Один был глупее другого, другой был глупей одного! – подхватил Полояров. – Один – разочарованный гвардейский моншер, юнкерский поэт, а другой – полудурье, флюгер в придворной ливрее. Мицкевича вашего я не знаю, а судя по этим стишонкам, – так себе, клубничку воспевает.
– Так это, по-вашему, клубничка? – не без азарта привстал поручик с места, опираясь на стол кулаками.
– А что же-с? Ведь он же тут про любовь что-то болтает?
– Так после этого и Венера Милосская клубничка, и Мурильевская Мадонна клубничка!
– Ну, и разумеется, клубничка! А вы как полагали?.. Батюшка мой, я вам скажу-с, – ударяя себя в грудь и тоже входя в азарт, говорил Полояров, – я вам скажу-с, по моему убеждению, есть в мире только два сорта людей: мы и подлецы! А поэты там эти все, артисты, художники, это все подлецы! Потому что человек, воспевающий клубничку и разных высоких особ, как, например, Пушкин Петра, а Шекспир Елизавету – такой человек способен воровать платки из кармана!
– Ну, а Данте? а Гомер? – подстрекнул Бейгуш.
– Э, полноте, пожалуйста! – досадливо махнул рукою Ардальон; – что вы про Гомера толкуете!.. Дурак, обскурант! верил в каких-то там богов…
– В каких же? – улыбнулся Бейгуш.
– В каких-с?..
Полояров чуточку замялся.
– Да что вы экзаменовать меня, что ли, хотите?
– Нет, мне просто любопытно знать, – не более.
– Ну, а я уж такими пустяками не занимался-с. Человеку нашего поколения и нашего развития пожалуй что оно и стыдно бы, да и некогда заниматься подобными глупостями! Хм! говорят тоже вот, что Шекспир этот реально смотрел на вещи! – продолжал он, благо уж имена ему под руку подвернулись, – ни черта в нем нет реального! Во-первых, невежда: корабли у него вдруг к Богемии пристают! Ха, ха, ха!.. к Богемии!
– А где это Богемия? – совершенно невинно вопросила вдовушка.
– В Германии, – мимоходом буркнул ей Полояров. – А во-вторых, какая же это реальность, – продолжал он, – коли вдруг ведьм повыдумывал да Гамлетову тень еще там, да черт знает что!.. Или вдруг относится серьезно к такому пошлому чувству, как ревность, и драму на этом строить! Ведь узкость, узкость-то какая! А дураки рот разевают да кричат ему: гений! гений!.. Плевка он стоит, этот ваш гений!
– Это все не то. Это все праздные речи! – глухим своим голосом вмешался в спор Лука Благоприобретов, медвежевато выползая из своего угла. – И Пушкин ваш, и все эти баре – все это один голый разврат, потому что сама эстетика и это так называемое искусство пресловутое – тоже разврат. И всех бы их на осину за это! Вот что-с!
Лука Благоприобретов в совершенно спокойном или в злющемся состоянии обыкновенно молчал, а если и заявлял свое мнение, то всегда очень кратко, почти односложными словами, а то и просто мычаньем. Но когда он оживлялся, чтó, впрочем, случалось очень редко, или если его уж чересчур что-нибудь за живое задевало – тогда глаза его начинали сверкать, на хмуром лбу напряженно выступали синие жилы, и весь он так и напоминал собою фанатического отшельника, инквизитора.
– Взгляните-с на дело исторически, – обратился он к Бейгушу. – Где и при ком испокон веков ютилась эта мерзость? Когда наиболее процветало это ваше искусство и чему оно служило? – На содержании у разных аристократов, у разных Meдичиссов, да Меценатов!.. Какие сюжеты-с? – Микельанджело вдруг эдакую возмутительную пошлость как «Страшный Суд» изображает и не в карикатуре, а серьезно-с, трагически! Вместо того, чтобы вести к разоблачению мистификации и предрассудков, он этой картиной еще более запугивает простое воображение, оказывает услугу невежеству и клерикальным эксплуататорам! А все эти Мурильи, Рафаэли и прочая сволочь малюют ангелов, да мадонн, да героев с богами, тогда как у них под носом кишмя кишат такие веселенькие пейзажики, как голод, нищета народная, невежество масс, рабство и тирания, а они, подлецы, – на-ко тебе! – в небесах витать изволят! Искусство, батюшка мой, только и может жить, что при дворе тиранов! Искусство – это лизоблюдничанье, пресмыканье! Для меня эти слова – синонимы! У народа нормально развитого и свободного никакого искусства нет и не должно быть! А занимаешься искусством, так тебя надо либо в больницу умалишенных, либо в исправительный дом! У свободного народа вместо искусства полезные ремесла должны стоять на первом плане, потому что выделка хлопка или сапоги хорошо сшитые гораздо нужнее народу, они полезнее, а стало быть, и выше всех этих мадонн и Шекспиров!
– Н-да-с! И вот если бы ирландцы питались вместо картофеля горохом, – визгливо запищал вдруг, ни к селу, ни к городу, маленький Анцыфрик, – так они были бы и умнее, и богаче, и свободнее! Н-да-с!
– А я из всех искусств признаю одно только повивальное искусство, которому и намерена посвятить себя! – громогласно заявила Лидинька во всеобщее сведение, хотя все и без того знали, что она теперь хочет быть повитухой, как месяц тому назад хотела быть наборщицей, а два месяца назад – закройщицей. У Лидиньки вообще было очень много самых разнообразных, но всегда самых благих хотений.
– Так вот-с и выходит, что ваш «священный» Мицкевич – лизоблюд в некотором роде! – нахально подступил к Бейгушу ревнивый восточный кузен, которому все хотелось как-нибудь оборвать счастливого своего соперника.
– По-моему выходит только то, что если я чего не знаю, то о том и спорить не буду! – обидчиво вставая с места, возразил поручик. – Я поляк, я патриот, и говорю это открыто и громко, а потому мне дорогá каждая строка моего народного поэта.
– О! уж и на патриотизм пошло! – замахав руками, подхватил юный князь Сапово-Неплохово и залился скалозубным, судорожным смехом. – Патриотом быть! ха, ха, ха, ха! Патриотом!.. Ой, Боже мой! до колик просто!.. ха, ха, ха! Но ведь это ниже всякого человеческого достоинства! ха, ха, ха, ха! Какой же порядочный человек в наше время… Нет, не могу, ей-Богу!.. Ха, ха, ха!.. Ой, батюшки, не могу!.. Патриотом!
И князь, сюсюкая и слюнявясь от слезного хохота, снова покатывался на стуле, как будто в слове «патриот» заключался для него талисман неистощимого смеха.
Бейгуш смотрел на него сначала недоумело, а потом с усмешкой грустного снисхождения. На губах у него как будто шевелилось и готово уже было сорваться слово «дурак», но Василий Свитка предупредительно дотронулся до него под столом ногою – и Бейгуш воздержался от всяких изъявлений своего мнения.
– А вот новость, господа! Новость! – возопила Лидинька, вдруг спохватившись с этою новостью, про которую не успела вспомнить ранее. – В некотором роде событие, господа! – Бюхнер вышел! Цена два с полтиной! Кто не купит, тот подлец!
– Всенепременнейше подлец! – авторитетно скрепил Полояров.
– Почему же это так строго? – с улыбкой спросила Стрешнева у Лидиньки.
– Потому, душечка, что только одни материалисты могут быть честны. Об этом вон и в «Современном Слове» так пишут.
– Ну, «Современное Слово» еще не авторитет, – заметила Татьяна.
– Нет-с, как для кого, а для мыслящего реалиста авторитет! И не малый! – компетентно вмешался Полояров, которого все время подмывало, по старой памяти, сказать Татьяне что-нибудь колкое.
– Это доказывает только, что авторитеты бывают разные! – с миролюбивыми целями, снисходительно и мягко помирила их Лидинька.
– Конечно, разные, – согласился Ардальон; – для иных вон и Гумбольдт авторитет, пожалуй.
– И для меня в том числе, – с улыбкой заметила Татьяна.
– Ну, а для нас он только прусской службы действительный тайный советник и кавалер! – ответил Полояров, с выразительной презрительностью наперев на свое определение Гумбольдта. – Больно уж он разные крестики да ордена любил, чтобы быть для нас авторитетом!
– Уж вы, кажись, нынче и Гумбольдта отрицаете? – с улыбкой прищурясь на Ардальона, обратился к нему Бейгуш со своего места.
Свитка опять предупредительно толкнул его ногою.
– Отрицаю-с. А что?
– Нет, ничего… Я только так… Почему ж и не отрицать, в самом деле?
– Всеконечно-с! – вмешался Малгоржан-Казаладзе, – потому что отрицание – это сила! единственная, можно сказать, сила, а прочее все вздор и гиль!
– Старая истина! – любезно согласился Бейгуш. – В этом роде еще и Репетилов когда-то сказал, что «водевиль есть вещь, а прочее все гиль».
Свитка опять толкнул его ногою, но на сей раз почти напрасно, так как восточный человек не домекнулся, в чем суть, и подумал, что дело идет, вероятно, о каком-нибудь литераторе старого времени.
Вскоре после этого Свитка с Бейгушем перемигнулись и взялись за шапки. Вдовушка Сусанна, с самодовольно-ленивой улыбкой выслушивая последние любезности, обращенные к ней тише чем вполголоса, довольно крепко и не без нежности пожала на прощанье руку бравого артиллериста. Малгоржан же, не протягивая руки, удостоил его одним только сухим поклоном. Оба приятеля удалились, далеко не дождавшись окончания «вечера».
* * *
– Фу ты, черт возьми! Ажно голова затрещала с дурнями! – широко вздохнул Бейгуш, очутясь на улице. – Вот народы-то!.. Ей-Богу, кабы не эта вкусная вдовушка, нога моя не была бы у этой сволочи!
– Что делать, мой друг! – нельзя! Надо бывать иногда, надо следить, отношения поддерживать, – возразил Свитка. – А ты крайне неосторожен! Я уж толкал, толкал: нет, неймется-таки человеку!
– Да ведь невыносимо же, наконец!.. Уши вянут! Тьфу!.. – И поручик энергически плюнул.
– А ты пересиль себя. Я вот только слушаю да услаждаюсь. Пусть их врут себе что угодно и сколько угодно! Чем больше вранья, тем лучше.
– Но ведь в этом же смысла нет человеческого! Какой-то хаос, путаница понятий, сумбур непроходимый!
– Этот сумбур имеет теперь большой ход и огромное применение в российском обществе. Ведь это, милый мой, все «новые люди», передовые люди, их теперь слушают, им поклоняются, их даже – смешно сказать, а ведь так, – их боятся! Они теперь авторитеты. Ведь всю это белиберду, сам знаешь, они в журналах болтают. Достаточно какому-нибудь Полоярову выхватить любое уважаемое имя, заплевать его, зашвырять грязью каких-нибудь темных намеков собственного изобретения, сказать во всеуслышание: это, мол, дурак или это подлец – и что же? – ведь все великое всероссийское стадо, как один баран, заблеет тебе: дурак! дурак! подлец! подлец! Чего же ты хочешь, если они теперь и в самом деле огромная сила в этом обществе?!
– Нечего сказать, хороша сила и хорошо общество! – презрительно фыркнул поручик.
– По Сеньке и шапка, мой друг! – развел руками Свитка; – а я знаю только одно, что если они сила, и большинство их слушает – ну, и стало быть, они нам полезны! Ну и пользуйся ими! Пропагандируй, внушай, брат, исподволь, развивай незаметно свою идею, долби их, как капля камень, а они ребята добрые – небойсь, разнесут твою идею по белому свету, проведут ее и в печать, и в общество, в массы, да еще будут думать при этом, будто твоя идея их же собственное изобретение. Ну, и пускай их! А ты знай себе только пользуйся!
– Все это очень резонно, – согласился поручик, – да, к сожалению, чересчур уже скучно.
– Ну, и поскучай, а вдовушка Сусанна тебе будет развлечением.
– Н-да! вдовушка эта, черт возьми! очень-таки вкусная! – ухмыльнулся поручик.
– А пятьдесят тысяч и того еще вкуснее? – подмигнул Свитка. – Ну, а что? как?.. Кажись, что крепость обложена, мины кой-куда подведены и атака подвигается?
– Подвигается! – самодовольно сообщил поручик.
– И стало быть, крепость наша возьмется штурмом, или сама сдастся на капитуляцию бравому пану поручику, и будем мы праздновать победу? а?
– И будем праздновать победу! – весело и декламаторски заключил Бейгуш.







