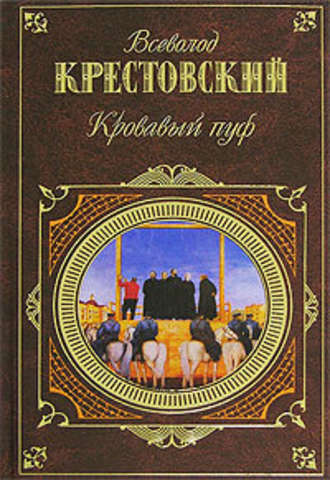
Всеволод Владимирович Крестовский
Панургово стадо
XXIII
Нежданный ходатай
Первый час пополудни. В губернаторской столовой, за большим столом, сидит самое отборное общество града Славнобубенска и завтракает. По правую руку от хозяйки – графиня де-Монтеспан, по левую – барон Икс-фон-Саксен. На другом конце стола – хозяин, а около него ксендз Ладыслав Кунцевич и полковник Пшецыньский. Пространство по обе стороны между этими двумя полюсами занимают: княгиня-maman и князь-papа Почечуй-Чухломинские, шестерик княжон-дочек, маленький Шписс и Анатоль де-Воляй. Один только ни к чему не пригодный князь-papа, с ни к чему не нужною княгиней-maman составляли тут нечто вроде официально-неизбежного зла. Засим все остальное общество в наличном составе своем представляло самый интимный кружок губернаторского дома. Тут были все те, кого особенно жаловала madame Гржиб-Загржимбайло.
Констанция Александровна праздновала сегодня день своего рождения. Она хотела придать этому дню исключительно семейный характер и потому большого приема не делала. Служащие, кто повыше, оставляли в прихожей свои визитные карточки, а кто пониже, тот расписывался на особом листке, по которому Непомук потом определял степень благонамеренности и служебной доброкачественности славнобубенских чиновников. Ее превосходительство нарочно не желала обременять себя утренними приемами, чтобы сохранить надлежащую бодрость и свежесть к вечеру, так как сегодня у нее заранее условленный пикник на картинном берегу Волги.
Непомук Анастасьевич любил хорошо поесть и хорошо выпить в хорошей, интимной компании, а так как теперь собралась у него компания самая хорошая и самая интимная, и так как при этом все обретались в самом счастливом, в самом праздничном настроении духа, то Непомук достаточно успел уже оказать подобающую честь разным соленьям и сырам, пропустив предварительно две веселые рюмочки хорошей старой водки, которую «презентовал» ему любезный ксендз-пробощ, и теперь готовился оказать еще более подобающую честь огромному ростбифу, который будет запит великолепным английским элем.
И в эту-то минуту едва лишь начавшихся гастрономических наслаждений в столовой неожиданно появилась официальная фигурка дежурного канцеляриста.
Непомук вообще терпеть не мог, чтоб его беспокоили какими бы то ни было делами и официальностями в минуты наслаждения собственной его утробы, и потому он уже кинул выразительно-строгий взгляд на смущенного чиновника, осмелившегося заведомо нарушить губернаторские привычки, как вдруг тот почтительно доложил, что его преосвященство, владыка Иосаф, изволили пожаловать.
Визит был крайне редкий, вполне неожиданный, и потому показался всем несколько странным.
Непомук недоумело перекинулся взглядами с супругой. Что делать и как быть в столь экстренном случае? Прерывать свое упитыванье, лишь начавшееся при столь счастливых обстоятельствах, и прерывать его, быть может, на неопределенное время для каких-нибудь деловых разговоров, это значило бы лишить себя одного из высших наслаждений благами жизни и погрузиться на весь остальной день в самое неприятное расположение духа. Отказать владыке в приеме – неловко, коли уж он раз приехал; заставить его дожидаться – еще неловче; а доброе впечатление завтрака во всяком случае уже испорчено этим неожиданным и притом, втайне, весьма неприятным гостем. Непомук порядком таки недолюбливал владыку и между своими интимно называл его иронически «столпом» и «строгим ревнителем du pravoslavie».
Констанция Александровна, встретя вопрошающий взгляд супруга, своей миной и пожатием плеч послала ему ответ, что, мол, нечего делать, надо принять, и Непомук торопливо направился в залу.
Посреди белой залы резко выделялась черная высокая фигура владыки. Ряса тонкого сукна и клобук, с которого почти до пят спадали складки креповой наметки, составляли его наряд, всегда отличавшийся самою строгою простотою, наравне с любым рядовым монахом его епархии. Седая, длинная борода обрамляла его продолговатое, бледное и худощавое лицо. В тихих глазах светился ум, улыбка дышала кротостию, и только одни характерные углы губ давали чувствовать, что в случае надобности у этого человека найдется достаточно энергии, мужества, силы воли и твердости характера.
Молчаливый поклон, которым оприветствовал он входящего Непомука, отличался простотой и достоинством.
– Ваше преосвященство! Чему обязан такою честью? – любезно заговорил Гржиб-Загржимбайло, подавая владыке руку (как католик, он не подходил под его благословение).
– Я, кажется, к вам не вовремя? – с видом извиняющейся предупредительности, осведомился Иосаф, заметив то особенное чавканье и чмоканье губами, которые всегда почти сопровождают речь только что евшего, но недоевшего человека.
– О, это решительно все равно! Такой почтенный гость всегда вовремя! – торопливо заговорил Непомук с несколько принужденною, но зато весьма изысканною любезностью. – Позвольте просить ваше преосвященство в кабинет…
И хозяин с вежливым поклоном сделал ему пригласительный жест по направлению кабинетной двери.
Славнобубенского владыку сильно недолюбливало все то, что интимно терлось около славнобубенского губернатора и особенно около губернаторши. Отношения их давно уже были натянуты. Как характеристику этих отношений, в Славнобубенске рассказывают один анекдот, сущность которого не подлежит, по отзывам славнобубенцев, ни малейшему сомнению. Однажды, по какому-то, чуть ли не официальному случаю, владыка должен был обедать у губернатора. Непомук, конечно, посадил Иосафа за столом рядом с собою. Подавались между прочим свиные котлеты. В это время у них завязался какой-то административно-деловой спор, а Непомук вообще терпеть не мог ничего делового за столом, во время упитывания. В досаде на владыку и желая разменять дело на шутку, чтобы потом уже больше к нему и не возвращаться, он, собственноручно наложив на тарелку свиных котлет, любезно подал их архиерею, говоря с самою приятною улыбкой:
– Ну, о деле мы, ваше преосвященство, после! А теперь – не угодно ли? «Примите и ядите!» – так ведь это, кажется, у вас говорится?
Владыка на мгновение вспыхнул в лице и, смотря на губернатора, удивленно отклонился на спинку стула.
– Ваше преосвященство! я к вам обращаюсь! – говорил меж тем Непомук, держа перед ним котлеты. – Примите и ядите!
– Продолжайте, ваше превосходительство, продолжайте, – с очень вежливою улыбкой повернул Иосаф свое спокойное лицо к губернатору.
Так в лоск и положило сконфуженного Непомука, перед целым столом, это неожиданное, но наповал бьющее «продолжайте»!
Старик Иосаф был прежде всего твердый русский человек, который презирал всякую кривду, всякое шатание житейское, как умственное, так и нравственное, шел неуклонно своим прямым пугем, паче зеницы ока оберегая русские интересы православной русской церкви и своей многочисленной паствы; он охотно благословлял и содействовал открытию воскресных и народных школ, но не иначе как под руководством священников или людей лично ему известных; к нему шел за советом и помощью всякий, действительно нуждающийся в совете либо в помощи, и никогда не получал себе отказа. Немногоглаголивое и не частое слово его, раздававшееся с епископской кафедры, звучало верой в Бога, любовью к православной России, надеждой на добрые плоды благих царских починов, которыми будет некогда красоваться земля свято русская. Это строгое, неблазное, самоуважающее слово порою умело чутко поднимать в массе ее русское народное чувство, ее веру в Бога и в свою силу и крепость, ее безграничное доверие и преданность Русскому государю. Сказать короче, в тех особенных обстоятельствах, в которых мы застаем город Славнобубенск, при тех призрачных надеждах, которые в то время вообще возбуждало Поволжье – владыка Иосаф на своем месте был человек положительно вредный. Понятно, почему недолюбливали его в салоне madame Гржиб-Загржимбайло. С ним нужно бы было бороться, и необходимость этой борьбы очень хорощо понимал и чувствовал ксендз Кунцевич; его, по-настоящему, надо бы было постараться как-нибудь выжить отсюда подальше, где бы он мог быть менее вреден. Но как бороться и в особенности как выжить, если под него, что называется, иголки не подточишь, если этот старик на виду у всех, идет себе тихо, но верно своею прямою дорогою и честно делает свое дело! Задача не малая, которую, так или иначе, необходимо нужно было решить в свою пользу.
Но… там, где часто останавливаются великие силы, вдруг иногда помогают делу маленькие и совсем ничтожные, совсем пустые обстоятельства, лишь бы только ловкий ум сумел ими воспользоваться.
– Я ныне просителем к вашему превосходительству! – уже в кабинете тихо начал владыка, обращаясь к Непомуку. – Вы, конечно, позволите мне походатайствовать пред вами за одного из моей паствы?
– За кого это? – серьезно сдвинув брови, спросил губернатор, которому был уже не по нутру самый разговор подобного рода, в то время, когда в столовой ждет эль и ростбиф.
– За старичка тут одного… за майора Лубянского, – пояснил ему владыка. – Тем более, ваше превосходительство, – продолжал он, – что в этом деле, как мне достоверно известно, вы были даже в обман введены, а это, полагаю, дает мне тем более добрую возможность раскрыть пред вами истину. Вы, конечно, не посетуете на меня за это?
– Я это дело хорошо знаю, ваше преосвященство; я очень хорошо знаю это дело! – отпарировал Непомук, которого задели за живое слова Иосафа.
«С какой стати и по какому праву мешается этот старик в непринадлежащую ему область гражданской администрации?» – подумал он в досаде на архиерея.
– Итак, ваше превосходительство не посетуете на меня, если я все-таки буду продолжать по предмету моего ходатайства, – говорил владыка; – я нарочно сам лично приехал к вашему превосходительству, потому что я очень беру к сердцу это дело. Под полицейский надзор отдан человек вполне почтенный, которого я знаю давно как человека честного, благонамеренного, – примите в том мое ручательство. Вам, полагаю, неверно доложили о нем.
– Ваше преосвященство, – начал, оправившись, Непомук, – я осмелюсь заметить вам на это, что я слишком хорошо знаю моих чиновников и, как начальник, обязан вступиться за их добрую славу: ни один из них не может сделать мне неверный доклад! И… наконец, я сам слишком подробно вникаю в мои дела и потому не могу быть обманутым. Сфера нашей гражданской администрации, конечно, несколько менее знакома вашему преосвященству, чем мне, и потому… извините, ваше преосвященство! – я имею скромную претензию знать то, что творится в моем хозяйстве, и что касается до этого майора, то мы имели достаточно данных, основываясь на которых обязаны были поступить так, а не иначе. Это может подтвердить и господин местный жандармский штаб-офицер!
– То есть, ваше превосходительство, хотите дать мне уразуметь, что я мешаюсь не в свое дело, – благодушно улыбаясь, заметил Иосаф; – но ведь я прошу только снизойти на просьбу, я в этом случае обращаюсь к сердцу человека.
– Ваше преосвященство, – возразил губернатор, – моему сердцу жаль его, может, не менее, чем вам; но… сердце человека должно молчать там, где действует неуклонный долг администратора. Будучи сами администратором своей епархии, вы, конечно, поймете меня, и я, поверьте, весьма рад бы сделать все угодное вам, но в данном случае мой долг положительно воспрещает мне всякое послабление. Да самое лучшее вот что, – домекнулся вдруг Непомук. – Дело это такого рода, что я сам ни за что не возьму на себя разрешать его согласно вашему ходатайству… И надо мной ведь тоже есть власти… А мы вот что, ваше преосвященство: у меня, кстати, теперь сидит барон Икс-фон-Саксен, как сами знаете, для общих наблюдений за направлением края. Чего же лучше! Мы вот спросим его мнения. Если он согласится, я сию же минуту исполню желание вашего преосвященства. Тогда я в стороне по крайней мере.
И прежде чем Иосаф успел что-либо вымолвить, губернатор бросился к дверям в столовую и позвал Саксена:
– Адольф Кристьянович!.. Извините!.. Пожалуйте сюда на минуточку! Дело есть!
Барон неохотно покинул свою прелестную соседку и небрежною походкою направился в кабинет.
– Что скажете, mon cher?
Непомук изложил сущность ходатайства владыки и свои затруднения удовлетворить его просьбе.
Немец фон-Саксен остался несколько недоволен тем, что владыка, при виде его, не выразил ему лично никаких особенных знаков почтения, и в душе отдал в этом отношении большое преимущество Кунцевичу, который всегда так видимо и почтительно умилялся пред особо поставленным блистательным положением барона.
– Я точно так же не возьму на себя решить этого, – с суховатым поклоном отклонился барон.
– Итак, ваше преосвященство сами изволите видеть! – пожал плечами Непомук. – Я говорил, что тут никакое послабление невозможно. Помилуйте, в этой школе его Бог знает что делалось.
– Не делалось, а делается, – с значительным ударением, скромно поправил владыка; – и вот именно, в качестве администратора моей епархии, на обязанности коего лежит, между прочим, блюсти за духовною нравственностью своей паствы, я считаю долгом своим обратить внимание вашего превосходительства на то, что ныне делается в здешней воскресной школе. Эта школа стала школой безбожия: там открыто проповедуются такие мысли и учения, от каких избави Бог каждого честного человека. Прежний законоучитель, человек достойный, которого я сам благословил на это дело, изгнан вдруг чуть не с позором, а на место его учит какой-то исключенный из службы становой, вопреки постановлению закона.
– Но почему же становой, хотя бы исключенный, не может быть хорошим учителем? – вмешался в разговор фон-Саксен. – Сколько я понимаю, это одно к другому не относится.
– Я и не говорю, что не может, – ответил владыка, – я говорю только, что этот человек открыто проповедует безбожие, читает там воспрещенные брошюры и делает на них свои комментарии, отвращает учеников от церкви, наконец… Вот что говорю я, ваше превосходительство!
– Н-да-а! Это, конечно, дурно! – небрежно протянул сквозь зубы фон-Саксен. – Хотя, собственно говоря, в наш век более важно, чтобы церковь была построена в сердце человека, чтоб он в сердце своем имел церковь… Это, конечно, важнее, чем он будет ходить, ничего не чувствуя и не понимая, в видимую церковь.
Иосаф спокойно и несколько строго посмотрел на либерального Саксена.
– Да, ваше превосходительство изволили совершенно справедливо заметить, – сказал он тихо и медленно. – В наш век действительно появилось – к прискорбию истинной церкви – очень много людей, которые говорят, что их церковь в одном только сердце построена; но – странное дело! я сам знаю очень много подобных и почти всегда замечал при этом, что если церковь в сердце, то колокольня непременно в голове построена… и колокола вдобавок очень дурно подобраны.
И сказав это своим старчески-ровным, спокойным голосом, владыка поднялся с места.
– Извините, ваше превосходительство, что беспокоил вас, – поклонился он губернатору; – а мне пора и к дому.
Непомук, не удерживая его, пошел провожать до передней.
Фон-Саксен был жестоко уязвлен словами Иосафа. В первую минуту он покраснел и закусил губы, но, тотчас же овладев собою, изобразил одну только улыбку презрительного пренебрежения – дескать, эти слова оскорбить меня никак не могут: я слишком умен и слишком высоко стою для этого!
– Какая грубость! Malotru! [56] – быстро вошел в столовую Непомук, выражая и лицом, и голосом, и походкой значительную степень негодования. Он словно бы желал показать, до какой степени возмущена вся его внутренность. – Это, наконец, чистое невежество!
– Ну, что ж! – с небрежною снисходительностью погримасничал Саксен, – на это ведь нельзя сердиться, он, во-первых, уже в тех пределах старости, за которыми все простительно, а во-вторых… во-вторых… чего ж вы хотите от людей его звания? Это вполне понятно!
Однако же, произнося все эти успокоительные фразы для внешнего ограждения своего достоинства, барон в душе весьма был зол на владыку, ибо самым живейшим образом отнес на свой собственный счет его последнее слово.
– Это, наконец, уж Бог знает чтó такое! – в прежнем тоне продолжал Непомук; – до которых же пор будут продолжаться эти вмешательства!.. Ведь я не вмешиваюсь в его управление, с какой же стати он в мое вмешивается? Этого, наконец, уже нельзя более терпеть, и я решительно намерен сделать представление об ограждении себя на будущее время.
– О чем это он просил, я хорошенько не понял? – не выказывая особенного любопытства, с обычною небрежностью спросил фон-Саксен.
– Mais… imaginez-vous, cher baron [57], администрация отдает человека под надзор полиций за зловредность его действий, за явный призыв к неповиновению власти, за публичный скандал, за порицания, наконец, правительственного и государственного принципа, администрация даже – каюсь в том! – оказала здесь достаточное послабление этому господину, а его преосвященство – как сами видите – вдруг изволит являться с претензиями на наше распоряжение, требует, чтобы мы сняли полицейский надзор! Если мне на каждом шагу будут делать подобные загвоздки, я ни за что не могу отвечать перед правительством!
– Н-да; его преосвященство беспокойный, очень, очень беспокойный человек, надо сознаться в том! – многозначительно шевельнув усами, с некоторым прискорбием заметил Пшецыньский.
– Помилуйте! – волновался губернатор, – я из крайней необходимости учреждаю над школой административный надзор, поручаю его человеку, лично известному мне своею благонамеренностью, человеку аттестованному с самой отличной стороны директором гимназии, человеку способному и прекрасному педагогу, а его преосвященство вмешивается в дело и видит в этом распространение каких-то зловредных идей, а сам вступается за господина, который устраивает антиправительственные демонстрации! Это наконец ни на что не похоже! При таких порядках, и особенно в настоящее смутное время, я решительно отказываюсь управлять губернией, если правительство не позаботится оградить меня! Или я губернатор, или я пешка!
– Но зачем же вы не делаете представления? Чего же ждать еще? – заметил фон-Саксен. – На вашем месте я давно бы постарался оградить себя.
– Ах, барон! – прискорбно вздохнул губернатор; – это не так-то легко, как кажется; у них там в синоде я не знаю какие порядки и какими соображениями они руководствуются: для нас это вполне terra incognita [58]; но… я очень рад, что все это случилось при вас, что вы сами были свидетелем… Теперь вы видите, что это такое! Я непременно приму свои меры, и приму их немедленно; а будет ли успех, ей-Богу, не знаю!
– В успехе нечего сомневаться! – авторитетно решил барон. – В этом случае, если что будет зависеть от меня, я, конечно, подтвержу одну только голую истину. Но этого, действительно, невозможно так оставить!
Непомук не продолжал, и разговор на этот раз прекратился. Веселое расположение духа его было поколеблено, и завтрак испорчен. Тем не менее это неприятное приключение не изменило программу нынешнего дня, и пикник устроился своим порядком.
На другой день в почтовой конторе были приняты, с казенными печатями, четыре пакета для отправки в Петербург: один от владыки, другой от губернатора, третий от жандармского штаб-офицера и четвертый от барона Икс-фон-Саксена.
XXIV
С неба свалилось
Прошло около двух недель с тех пор, как исключили Шишкина. Удар внезапного горя столь сильно подействовал на его старуху мать, что она серьезно заболела. Дома лечить было не на что, и пришлось отправиться в городскую больницу. Шишкин остался один в убогой квартиришке, за которую было уже заплачено хозяевам за месяц вперед. Старуха жила скудным пенсионом да теми крохами, которые уделяли ей кое-кто из достаточных знакомых. Сын ее давал уроки в трех домах и получал за это ежемесячно двенадцать рублей, но после злосчастного «Орла» ему сразу отказали два дома, и молодому человеку пришлось остаться на четырех рублях в месяц, а на эту сумму не только в Славнобубенске, но даже и в каком-нибудь Енотаевске или Бузулуке особенно не разживешься, и потому Иван Шишкин начинал уже голодать. Занятий или какого-либо дела он еще не подыскал себе и не знал пока, что предлежит ему в дальнейшем будущем. Что можно было заложить из домашнего скарба, то он уже снес к армянке-ростовщице и часть денег отдал матери, на ее скудные больничные нужды, а остальное проел. Но вот опять стали подходить крутые обстоятельства – закладывать было почти уже нечего – и Шишкин в весьма грустном настроении духа похаживал по своей горенке. Он был зол и печален: нужда со всех сторон, а помощи ниоткуда и, как обыкновенно бывает с не особенно сильными людьми в подобном положении, сам он терялся и решительно не мог придумать, чем бы и как пособить своему горю. Положение казалось ему безвыходным и отчаянным. Был десятый час вечера. Молодой человек уныло ходил в темной комнате, потому что свечу купить было не на что. Один только луч масляного фонаря слабо закрадывался с улицы в его окошко и чуть светлой полосой ложился на стену. Благодаря его бесплатному свету, Шишкин мог еще кое-как ходить по комнате. Вдруг заметил он, что кто-то заглянул к нему в окошко, но сначала не обратил на это обстоятельство никакого особенного внимания и продолжал ходить по-прежнему. Через несколько времени темный облик чьей-то вглядывавшейся фигуры опять появился на том же месте. Шишкин вскинул глаза, быстро подошел к окну, но в эту самую минуту облик исчез. Он подождал, пригляделся и подумал, что это все только так ему показалось.
«Должно быть, нервы расстроены», – решил он сам с собою.
Вдруг в сенях послышались чьи-то незнакомые шаги, очевидно, нащупывавшие пол, чья-то рука шарила по двери, отыскивая ручку, в ту же минуту незапертая дверь довольно быстро и смело отворилась.
– Господин Шишкин здесь? – спросил вполне незнакомый голос.
– Здесь. А что вам?
– Кажется, вы сами и есть?
– Да, это я. Что вам угодно?
– Письмо к вам. Извольте получить.
И незнакомый человек, которого ни наружности, ни костюма не мог разглядеть юноша, вручил ему запечатанный конверт.
– От кого это? – спросил он.
– Там написано… узнаете, – торопливо ответил этот кто-то и вдруг исчез из комнаты, плотно прихлопнув за собою дверь. В сенях послышалось поспешное шарканье быстрых удаляющихся шагов.
– Да от кого же, однако? – закричал вдогонку ему Шишкин, взволнованно выбежав на двор, но чья-то тень без ответа мелькнула в калитке и скрылась на улице.
Экс-гимназист постоял в несколько тревожном раздумье и вернулся в горницу.
«Что ж бы это значило?.. И что за странная таинственность!» – думал он, ощупывая конверт. – «Прочесть его; да как прочтешь-то?.. Хозяева не дадут ведь свечки».
Но недаром говорится, что голь хитра на выдумки. Вспомнил он, что под кроватью валяется какая-то старая дощечка – дерево, стало быть, сухое. Он нашарил ее рукой и наколол лучины. Спички, слава Богу, тоже нашлись, и Иван Шишкин устроил себе освещение.
Посмотрел он на конверт – нет никакой надписи; недоверчиво сорвал печать, развернул письмо: из бумажки выпала двадцатипятирублевая ассигнация.
«Господи!.. да что ж это?.. благодетель какой-то неведомый!» – вскрикнул он в радостном восторге, и веря, и не веря глазам своим. Ощупал поднятую бумажку, внимательно осмотрел ее перед огнем: так, действительно двадцать пять рублей, и эта цифра не подлежит уже ни малейшему сомнению. Что ж это значит?
Взглянул на почерк; рука была совсем незнакомая. Он жадно стал читать письмо:
«Ваш смелый поступок на литературно-музыкальном вечере доказал, что вы обладаете в достаточной мере гражданским мужеством. Ваше последующее благородное поведение побуждает нас верить, что вы человек честный, который действовал сознательно, из служения своему принципу. Хотите ли стать в ряды тех деятелей, которые несут с собою новое социальное устройство свободного общества? Хотите ли приносить пользу честному делу? Если да, то дайте ответ. Вам дается сроку два дня на то, чтобы подумать и решиться. Ответ вы можете дать следующим образом: завтра, или послезавтра, ровно в четыре часа пополудни, в городском саду, на повороте из главной аллеи в поперечную среднюю, против второй скамейки, начертите тростью на песке дорожки крест, так чтоб его можно было удобно заметить. Зная ваши временно стесненные обстоятельства, покорнейше просим не отказаться от общественного пособия из того фонда, который существует в нашем обществе для вспоможения его членов в их полезных предприятиях. Во всяком случае, – угодно ли вам будет принять наше предложение, или нет – вы должны прежде всего хранить самое строгое молчание, под страхом неминуемой ответственности пред трибуналом общества».
Волнение от всей этой внезапности; радость при нежданных и весьма значительных для него деньгах; страх пред странным тоном письма и особенно пред заключительной и весьма-таки полновесною угрозой; заманчивость этой загадочно-таинственной неизвестности, за которою скрывается какая-то неведомая, но, должно быть, грозная и могучая сила, (так по крайней мере думал Шишкин) и наконец это лестно-приятное щекотание по тем самым стрункам самолюбия, которые пробуждают в молодом человеке самодовольно-гордое сознание собственного достоинства и значительности, что вот, мол, стало быть, и я что-нибудь да значу, если меня ищут «такие люди». Вот мысли, чувства и ощущения, которые овладели восемнадцатилетним юношей по прочтении письма, неведомо кем поданного. Все это так странно, так неожиданно, внезапно, в такую пору, в такую минуту – кто же, и что же это такое? У Шишкина просто голова закружилась. Он отчасти испытывал ощущения человека, стоящего на самом краю площадки очень высокой башни. «А ну, как поймают, как все это раскроется, обнаружится? тогда что?.. Страшно, черт возьми!.. Страшно, но заманчиво. Служить честному, великому делу, быть членом… самому быть членом….Меня зовут… меня ищут… они первые обратили на меня внимание, они, а не я… значит, я стою того, если меня избирают!»
И он снова перечитал письмо и старался вчитываться в отдельные, наиболее льстящие самолюбию фразы, повторяя их про себя по два и по три раза и словно бы любуясь этими фразами, их смыслом, значением, их красивою сверткою.
Им овладело какое-то щекотно-щемящее, захватывающее, жуткое чувство. Самолюбие разыгрывалось все более. Он уже так живо стал воображать себя деятелем… чего? – это ему самому не было еще вполне ясно, – деятелем чего-то, но чего-то высокого, честного, благородного, деятелем, окруженным таинственностью грозной силы. «Новое социальное устройство свободного общества», кажется, так сказано в этом письме? – Да, так точно! Он воображал себя устраивающим нечто большое, пред чем все преклоняются, дивятся ему и завидуют… Он известен, он знаменит, имя его гремит во всех русских и европейских газетах и журналах, о нем говорят, им интересуются, ему удивляются… Его везде и повсюду встречают почет, и любовь, и слава народная… Он говорит с народом, дает ему новые свободные права, народ избирает его своим диктатором… Наполеон… Ведь мог же Наполеон добиться всего этого! Простой артиллерийский поручик!.. Директор и инспектор гимназии приходят к нему и униженно вымаливают пощады, потому что на площади эшафот стоит… Он отсылает их на эшафот, но там, в самую роковую минуту, дарит им пощаду и жизнь, в виду восторженного народа, и даже награждает весьма значительными деньгами… хорошенькая племянница директора вне себя от радости, кидается ему на шею. Да что племянница! тут уж не племянница, а княгини и графини… Но нет! Он не унизится до брака с княгиней… Его жена (если уж жениться!) должна быть гражданкой, демократкой… А вдруг жандармы? вдруг Пшецыньский является?.. Обыск, арест, казематы… Его вывозят на площадь, читают приговор… Он гордо и смело всходит на эшафот… «Я умираю за вас!» – говорит он народу… На ногах его кандалы, на руках кандалы, на плечах каторжная сермяга с бубновым тузом… Длинная, бесконечно длинная снежная пустыня… кандалы – звяк, звяк… песня долгая поется во всю широкую грудь… Тобольск прошли… Томск прошли… Иркутск прошли… Нерчинск. Так ведь, кажется? «Тобольск, Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, Чита – главный город Забайкальской области», Бог знает, по какому сцеплению мыслей и почти машинально вспоминает Шишкин старый, давно уже наизусть заученный урок из географии. И он идет бодро и гордо… Он страдает, но не падает духом… «Я за вас страдаю», говорит он кому-то; «вы не признали, вы отвергли меня!.. Я гибну… Что ж? Ничего!.. Пусть гибну я, но я гибну за честное дело! за свободу!.. за свободу миллионов братий моих!»…
Так мечтал юноша. Мысль его перелетала от знаменитости и диктатуры к кандалам и Нерчинску; но одно его прельщало, другое же не пугало нисколько: в обоих случаях он чувствовал и мечтал себя героем… И все это казалось ему так просто, так легко и возможно – и яркое восемнадцатилетнее, золотое воображение заносилось все дальше и дальше, все выше, все привлекательней… Он почувствовал себя как-то жутко, болезненно-счастливым. Двадцатипятирублевая ассигнация лежала перед ним; он взял ее, и с тем особенным наслаждением, которое хорошо знакомо людям, очень редко имеющим в руках своих деньги, пощупал и пошурстел ею между кончиками пальцев. Он воображал себя почти богатым. «Теперь деньги будут!» – говорит он себе с непоколебимою уверенностью. «Теперь-то уж наверное будут!.. И много будет… У них вон фонд какой-то есть… для членов… значит, будут!.. Матушке надо рублей десять снести… То-то обрадуется!.. Скажу: заработал!.. „Молчать под страхом неминуемой ответственности“… Ну, еще бы тебе болтать! что я, мальчишка, что ли!.. Хорошо бы кумачовую рубаху завести, как у Ардальона Михайлыча… А ведь он верно тоже тово?.. Впрочем, нет, – где ему?! Только надо бы еще и поддевку… плисовую… Если когда случится то, так непременно такой указ надо издать, чтобы фраки и мундиры долой, а одне бы только поддевки»…
Но мечтая таким образом и быстро перебегая от одной мысли к другой, Шишкин вспомнил, что он сегодня очень плохо обедал, то есть, лучше сказать, совсем не обедал, а съел одну только трехкопеечную булку, которую купил на бурлацкой пристани. Желудок, при этом воспоминании, не преминул заявить о себе довольно чувствительным голодом. Юноша запрятал письмо в комод, отыскал шапку и весело отправился в трактир, аппетитно разрешая вопрос: чего бы лучше заказать себе, поросенка под хреном или московскую селянку на сковородке?
Вернувшись домой уже сытый и притом с фунтом стеариновых свечей под мышкой, да с пачкой папирос в кармане, Шишкин почувствовал себя еще более довольным и счастливым. На сытый желудок, при ровном свете свечи и в струйках табачного дыму, лежа на постели, мечталось еще лучше. Он часто и так доверчиво улыбался широкою, мечтательною улыбкою на свои увлекательные фантазии, поминутно ворочался с боку на бок и очень долго не мог заснуть. Порою нечто острое и жуткое возвращало его из мира поэзии в мир действительности, и вставал пред ним серьезный и словно бы какой-то лотерейный вопрос: что же делать? Как быть? Ведь завтра или послезавтра!







