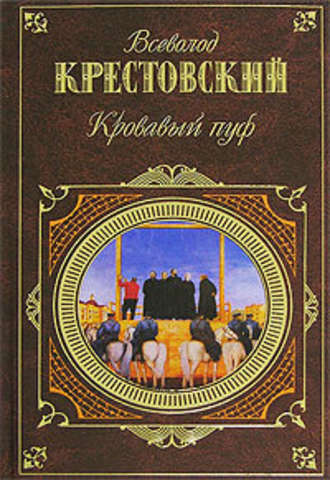
Всеволод Владимирович Крестовский
Панургово стадо
XIX
Нежданный гость на новую дорогу
Свитка отсоветовал Хвалынцеву тотчас же перебираться на старую квартиру. Он ему прямо, «как старший», указывал оставаться у графини Маржецкой до того времени, пока не будет приискан надежный поручитель, так как, в противном случае, полиция могла бы придраться к экс-студенту и выслать его на родину в течение двух суток. В сущности же, Свитка делал это для того, чтобы вновь завербованный адепт еще более укрепился в своем решении, а кто же лучше графини мог поспособствовать этому?
На другой день утром он опять заехал к Константину и, сообщив адрес конноартиллериста Бейгуша, сказал, что Бейгуш будет ждать его нынче в начале восьмого часа и что Хвалынцев непременно должен явиться к нему в назначенное время.
Хвалынцев явился со всею аккуратностью новичка, усердно стремящегося к исполнению своего долга, что для самолюбия всевозможных доброхотных новичков вообще бывает лестно и утешительно: это обыкновенно тешит их на первое время.
Бейгуш, вопреки ожиданиям Хвалынцева, ни полуслова не обронил ему насчет вступления его в тайное общество: он не высказал по этому поводу ни одобрения, ни признательности, ни даже какого бы то ни было мнения, а прямо, без дальних околичностей, спросил его:
– Вы не взяли себе матрикулы?
– Не взял.
– Стало быть, вы покончили с университетом?
– Поневоле покончил.
– В университете вы посвящали себя какой-либо исключительной специальности?
– Никакой. Я искал только университетского образования.
– Для гражданской службы?
– Для чего бы то ни было.
– Но вы думали служить?
– Может быть. Впрочем, окончательно я не решил еще себе этот вопрос.
– Так. Но теперь, в настоящее время, не думаете ли вы посвятить себя какой-либо специальной деятельности?
– То есть, в каком это смысле?
– В смысле, например, педагога, инженера, агронома, чиновника, врача, технолога, адвоката-юриста, и тому подобное.
– Нет, не думаю. Вообще, говорю, я не избрал еще себе никакой исключительной деятельности.
– Но к чему более чувствуете себя склонным?
Хвалынцев пожал плечами.
– У вас есть какая-нибудь собственность?
– Есть часть имения после дяди и свое кой-какое.
– Может быть, вы хотели бы служить по крестьянским учреждениям?
– Да; такая служба, мне кажется, согласовалась бы с моими способностями и симпатиями; но я пока еще не считаю себя достаточно подготовленным для такой деятельности: у меня нет практического знакомства с делом, с бытом крестьян. Сначала, полагаю, надо эту сторону дела узнать покороче.
– Конечно, это без всякого сомнения. Итак, вы пока еще не определили своего дальнейшего пути?
– Как видите.
– Стало быть, для вас, в сущности, совершенно все равно, избрать тот или другой род деятельности?
– Пожалуй, кроме шпионского, – шутливо улыбнулся Хвалынцев.
Бейгуш посмотрел на него вопросительно и серьезно.
– Отчего же так? – спросил он. – Вы смотрите на это с очень узкой и притом ошибочной точки зрения.
Хвалынцев в свою очередь поглядел вопросительно и недоумело.
– Да, это так! – продолжал Бейгуш. – Должностей бесчестных нет. Есть только бесчестные люди. Вспомните, что не место красит человека, а человек – место.
– Но какими же судьбами человек может украшать собою место шпиона? – смеясь спросил Хвалынцев. Он был убежден, что Бейгуш либо шутит не совсем-то кстати, либо с разных сторон выпытывает его.
– Какими судьбами? – переспросил поручик; – а очень просто. Представьте себе, что тайная полиция Луи Наполеона вся наполнена людьми, и душою и телом преданными революции; представьте себе, что наш корпус жандармов, наши секретные канцелярии переполнены прочными людьми нашего направления: были ли бы возможны аресты, ссылки, неудачные движения и взрывы? Положительно нет! И если в этих учреждениях есть уже наши, то не должны ли мы благодарить их, преклоняться, благословлять, даже благоговеть пред великим гражданским подвигом этих самоотверженных людей, которые ради пользы великого дела не задумались навлечь на себя общественное нерасположение, недоверие, презрение, одним словом, решились покрыть себя позором имени шпиона. Это высший героизм! Это более, чем на баррикадах подставить грудь свою под пули. На баррикадах вы жертвуете только собою и получаете в награду красивое имя отважного героя; здесь же вы точно так же жертвуете собою, даже лучшею частью своего нравственного я, своим именем, своей честью, и охраняете сотни, тысячи людей, спасаете от погибели, может быть, самое дело и в награду за все несете общественное презрение слепых глупцов и непосвященных, пользуетесь именем подлеца и шпиона: в чем же более жертвы? Что, по-вашему, самоотверженнее и что более достойно чести и удивления?
– Согласен; но это уже цель, оправдывающая средства, – заметил Хвалынцев.
– Да, цель, оправдывающая средства! – с спокойным и твердым убеждением подтвердил Бейгуш. – Вас, кажется, пугает то, что это правило иезуитов? Не так ли?
– Признаюсь, я не сочувствую иезуитским правилам.
Бейгуш тихо засмеялся.
– Не сочувствуете, потому что не знаете их. Это несочувствие с чужого голоса. Иезуиты, поверьте мне, в принципе стремятся к высшему благу, к торжеству высшей свободы всего человечества.
На этих словах поручик остановился, заметив, что Хвалынцев начинает морщиться.
– Но оставим иезуитов: они сами по себе, а мы сами по себе. Я сказал это так только, к слову, – поспешил он оправдаться. – Дело не в иезуитах, а в известном принципе. Но ведь и иезуиты не все же вырабатывали одну только скверность, выработали же и они что-нибудь хорошее, пригодное и для неиезуитов. Отчего же бы нам не позаимствоваться и у них этим хорошим? Ведь это ребячество – думать иначе! Если вы хотите парализовать силы своего врага, боритесь с ним оружием, если не превосходнейшим, то хотя равным, боритесь его же оружием. Все почти революции шли этим путем; а иначе и заговор невозможен, и невозможен уже потому, что он, по самой сущности своей, обречен на тьму и тайну, пока не настанет час выказать его со всей прямотой, гордо и блистательно. Что делать – такова сущность вещей!
Хвалынцев не возразил ни слова.
– Но мы уклонились в сторону, – продолжал поручик. – Я вам хотел сообщить только мой личный взгляд, который, впрочем, разделяется очень и очень многими, на то, что называется шпионством. Я хотел только сказать, что если оно полезно для дела, то не следует им пренебрегать и гнушаться. Собственно, главнее-то всего, я хотел спросить вас, совершенно ли вы равнодушны к выбору той или другой деятельности?
– По крайней мере, специальности у меня нет еще никакой, – ответил Хвалынцев.
– Ну, а что вы думаете о военной службе?
– Хм… – ухмыльнулся студент; – я ее не совсем-то уважаю.
– Отчего так?
– Оттого что, по-моему, самая война есть величайшее зло и безобразие в человечестве, – стало быть, как же после этого уважать ремесло и орудие этого безобразия!
– Да, но это безобразие пока неизбежно, и потому не лучше ли подумать о том, чтобы сделать зло менее вредным для хорошего дела?
– Да что вы с ним поделаете?
– Как что! Помилуйте! Внесите в войско свою пропаганду, привейте к солдатам, подействуйте на их убеждения, на их чувства, на совесть, и вот зло уже наполовину парализовано! Коли солдат не станет стрелять в поляка, так вы уже достигли своей цели, а когда он вообще не захочет стрелять в человека, в ближнего, кто бы тот ни был – вы уже на верху торжества своей идеи.
– А если ближний, вроде турка или француза, в меня или в русского солдата вдруг стрелять пожелает? – шутя возразил Хвалынцев.
– Не пожелает. Никто не пожелает, если идеи блага проникнут в общенародное сознание! – с жаром отвечал Бейгуш. – Но для того-то вот людям нашего закала, наших убеждений и нужно, прежде всего, вносить пропаганду в войско. Если у вас нет в жизни особой специальности, вступайте в военную службу, сближайтесь с солдатом, влияйте на него, старайтесь в полках заводить кружки, тайные общества, а главное – имейте в виду солдата. Вы поступите юнкером, – стало быть, вы будете гораздо ближе к солдату, чем офицер, ваши отношения будут проще, короче офицерских; вот и постарайтесь этим воспользоваться для дела.
Хвалынцев слушал молча. В душе он уже во многом соглашался с Бейгушем.
– Нам нужны в войске хорошие, прочные деятели не из корпусов, но вот именно люди вашего, например, развития, – продолжал Бейгуш. – В войске вы сделаете пользы для дела неизмеримо более, чем на всяком другом месте. И как погляжу я на вас, отчего бы вам и в самом деле не идти? – пожав плечами, остановился поручик перед студентом; – молодость и сила у вас есть, здоровье, даже красота, все это на вашей стороне. И вдобавок, есть кой-какое состояньице: значит, жить совсем можно. Ступайте-ка, право, господин Хвалынцев! Я указываю вам чудную дорогу.
– Но ведь тут, кажется, есть множество формальностей для начала, при самом вступлении, – усомнился Константин.
– Никаких! – с живостью предупредил Бейгуш, – то есть ровнехонько никаких! Уж мы вам все это дело обделаем и справим, и все хлопоты устраним, все пойдет как по маслу, а вы только поступайте.
– Хорошо, я подумаю, – согласился Хвалынцев.
Прежде чем окончательно решиться, он хотел еще переговорить с Цезариной. Идея о военной службе захватила его внезапно, врасплох. До нынешнего дня он никогда ни разу и не помышлял даже о возможности для себя военной карьеры. Люди тех кружков, в которых по преимуществу он вращался, смотрели на этот род службы скорее далее неблагосклонными и неуважительными, чем равнодушными глазами, и потому теперь, когда для дальнейшей жизни его предстали вдруг новые задачи и цели, – ему показалось как-то странно и дико видеть и сознавать себя вдруг военным человеком, хотя, поразобрав себя, он вовсе не нашел в душе своей особенной антипатии к этому делу. Он хотел знать теперь, как взглянет на эту идею та женщина, для которой он чувствовал в себе решимость почти на все, чего бы она ни пожелала.
В тот же вечер он сообщил Цезарине о предложении Бейгуша и ждал, что она встретит его слова такой улыбкой, какой обыкновенно встречаются всякие несерьезные, пустые идеи.
Но Цезарина, сверх ожидания, отнеслась к этой новости очень серьезно.
– В словах этого офицера много дельного, – сказала она. – Да, он прав, потому что действительно теперь настало такое время, что необходимо как можно скорее подготовить войско, и если вы точно не избрали еще никакой специальности – ступайте! Я вас благословляю.
– Но я никогда не думал… как это, я… и вдруг военный…
Он пожал плечами и сомнительно улыбнулся.
– А кто вызывался поднять и нести мое знамя? – насмешливо прищурилась на него Цезарина, – или, быть может, вы – трус, господин Хвалынцев?
Эта шутка заставила его вспыхнуть ярким румянцем. Она уязвила его самолюбие. Он почувствовал в этой фразе оскорбление, но тут же в душе сознался, что оно вызвано его же собственною нерешительностью и сомнениями.
– Трус ли я – не знаю, – ответил он сдержанно, – может, и да, а может, и нет. Это покажет дело. Но, решаясь на такой шаг, я хотел только знать ваше мнение.
– Мнение женщины о намерениях мужчины распорядиться своей жизнью! – иронически заметила графиня. – В этих случаях у человека должно быть свое собственное мнение.
Хвалынцев вновь почувствовал себя уязвленным. Ему стало даже мальчишески досадно и на себя, и на Цезарину, и потому именно досадно, что показалось, будто она смотрит на него в эту минуту как на мальчика.
– Стоять против штыков и пуль вовсе не так страшно, как кажется, – добавила она после короткого молчания; – вот все, что могу сказать я вам, и говорю по собственному опыту.
Это был новый чувствительный удар его самолюбию.
Хвалынцев начинал уже кусать себе губы от смущенья и досады. «Но что же это! Или она в самом деле считает меня за мальчишку и малодушного труса?» – думалось ему. Графиня замолчала и равнодушно занялась просматриванием какой-то брошюры. Константин же положительно не чувствовал в себе решимости снова заговорить на эту тему. Молчание начинало уже казаться ему тягостным, и с каждой новой минутой этого неловкого молчанья внутренняя, сдержанная досада на самого себя закипала в нем все больше и сильнее. Наконец, он как-то порывисто сорвался с места и молча протянул ей руку.
– Куда же вы? – равнодушно подняла она на него глаза из-за книги.
– Хочу написать этому офицеру, что я решился, – сухим, но не совсем-то естественным и внутренне раздраженным тоном сказал Хвалынцев.
– К чему же такая экстренность? – заметила Цезарина. – Это вы успеете сделать и завтра, и притом на словах гораздо лучше, чем на бумаге.
– Если я, графиня, и колебался минуту, – смущенно и тихо заговорил он, – то верьте, это оттого, что мне… Ну, да! мне больно, мне тяжело расстаться с вами!..
Последние слова он даже почти выкрикнул голосом, в котором сказывались и напряжение досады, и сдержанные слезы.
– Зачем же расстаться? – с легким недоумением подняла она брови.
– Да ведь вы же уедете отсюда!.. Будь я свободен, – это другое дело! я повсюду пошел бы за вами, я делал бы все, чего бы вы ни потребовали!.. Но приковать себя к службе, к полку…
– Вы должны делать не для меня, а для дела, которому служите, – строго заметила она; – но, впрочем, что же вас тут особенно беспокоит? Мой отъезд в Варшаву? Ну, поезжайте и вы туда! Определяйтесь в какой-нибудь полк из тех, что стоят в самой Варшаве; вот вам и разрешение вашей трудной проблемы!
И вместе с этими словами она кинула на него ясный, мягко улыбающийся взгляд, в котором он почувствовал примиренье и забвение, и светлый и радостный, с облегченной душой, с бесповоротной решимостью на новое дело, Хвалынцев подошел к своему идолу.
– Так, значит, вы благословляете?
– Благословляю, разрешаю и отпускаю!
И она, подняв руку как бы для благословения, шутя и кокетливо дотронулась до его лба кончиками своих пальцев.
XX
Поручитель
Через день, рано утром, к Хвалынцеву опять-таки приехал Свитка.
– Ну, пане Хвалынцев, вставайте и как можно скорей одевайтесь!
– Это еще ради чего так?!.
– Поручитель вам найден. Да ведь какой поручитель-то! Особа! Превосходительная особа – поймите вы это! Ведь с таким поручителем вы как у Христа за пазухой!
– Да к чему сейчас одеваться-то?
– Э, батюшка, время! Он принимает только до одиннадцати часов, а в одиннадцать к нему являются с докладами, а в двенадцать уже уезжает на службу, – то есть преаккуратный старик, я вам скажу! Вы теперь поезжайте к Колтышке: он вас будет ждать.
– А к Колтышке зачем еще?!
– Ха-ха!.. Зачем!.. Да ведь мы-то и все дело через Колтышку обделали! Самым наиполитичным образом! Колтышко, спасибо, добрый человек, не отказался помочь, а то вам плохо было бы!.. Ну, так живей, живей одевайтесь, батюшка! Нечего мешкать!
В полчаса Хвалынцев был уже совершенно готов предстать пред очи особы и поехал к Иосифу Игнатьевичу. Тот уже действительно дожидался его, и они отправились.
Особа эта состояла на российской государственной службе в ранге тайного советника, занимала очень видное и даже влиятельное место, пользовалась с разных сторон большим решпектом, была украшена различными регалиями и звездами, имела какую-то пожизненную казенную аренду, благоприобретенный капитал в банке, подругу в Средней Подьяческой, кресло в опере и балете, авторитетный голос в обществе и репутацию в высшей степени благонамеренного человека в высоких сферах. Именовалась эта веская особа Марианом Адалбертовичем Почебут-Коржимским.
В передней особы форменный курьер или вестовой снял с обоих посетителей верхнюю одежду и пошел докладывать.
– Их превосходительство изволят просить вас пожаловать в кабинет, – отнесся он по выходе от особы исключительно к Иосифу Игнатьевичу.
– Вы подождите пока в приемной, – шепнул Колтышко Хвалынцеву.
Кабинет его превосходительства обрисовывал в нем и любителя просвещения, и любителя государственной службы, и любителя прекрасного пола, и любителя благонамеренности. Об изяществе и комфорте нечего и говорить. Три письменных стола с деловыми бумагами, «Сенатскими Ведомостями» и Сводом Законов красноречиво указывали на разнообразные государственно-служебные занятия Мариана Адалбертовича; тысячи полторы томов в изящных дубовых шкафах, с бюстами Сократа, Платона, Демосфена, Коперника и Мицкевича громко говорили о его любви к просвещению. Копии с Нефовской Наяды и с двух его же нимф, мясистая вакханка под тенью винограда, французские гравюры, изображающие Фанни Эльслер, двух наездниц и еще что-то в этом же роде; наконец, две или три большие фотографии балетных танцовщиц с задранными ножками показывали, что сей почтенный старец ценит искусство, пластику и может претендовать на репутацию ценителя женской красоты, а целый ряд портретов Императорского Дома, начиная с Петра Первого, убеждал всех и каждого в его благонамеренности и добрых верноподданнических чувствах.
Несмотря на ранний час утра, особа была уже гладко выбрита, в напомаженном и подвитом парике, в форменном вицмундире со звездами. Его превосходительство казался глубокомысленно погруженным в подписывание чего-то, когда в кабинет почтительно вошел Иосиф Игнатьевич.
– Вы, вероятно, с этим студентом? – снисходительно и мягко улыбнулась особа, делая Колтышке округло-мягкий жест в виде ручки.
– Ваше превосходительство угадали.
– Так он в самом деле стоит, чтобы ручаться?
– Это общее мнение людей, успевших коротко узнать его за последнее время.
– Хм… Не доверяю я этой русской молодежи!.. Нет в них, знаете, этой стойкости, упора… выдержки настоящей нет.
– Этот человек, по отзывам, обещает быть очень полезным. Он с тактом и достоинством держал себя, например, во всей этой студентской истории.
– Глупая история! – брюзгливо и пренебрежительно двинул нижней губой его превосходительство.
– Совершенно согласен, но она была необходима, – возразил Колтышко.
– Несвоевременно, – пробрюзжал Почебут-Коржимский. – И что за плоды! Усиление полицейского надзора, всеобщая репрессия… По-моему, она только повредила ходу дела,
– То есть чем же? – скромно возразил Колтышко.
– Как чем?! Заставила оглянуться, насторожить уши… И все, что было уже сделано к должной подготовке молодежи, – все это назад теперь!
– Н-нет… Я позволяю себе думать, что опасения вашего превосходительства несколько напрасны, – осторожно заметил Колтышко. – Мы ведь ничего серьезного и не ждали от всей этой истории, и не глядели на нее как на серьезное дело. Она была не больше как пробный шар – узнать направление и силу ветра; не более-с! Польская фракция не выдвинула себя напоказ ни единым вожаком; стало быть, никто не смеет упрекнуть отдельно одних поляков: действовал весь университет, вожаки были русские.
– Да это я все очень хорошо и сам знаю! – пожала плечами веская особа.
– История если и была вызвана с помощью благоприятных обстоятельств, – скромно продолжал Колтышко, – то единственно затем, чтобы определить почву под ногами, и не столько для настоящего, сколько для будущего. Надо было узнать на опыте, насколько подготовлено общество, масса, общественное мнение и, пожалуй, даже войско. Это одно, а потом необходимо было знать, насколько слабо или сильно правительство. К счастью, оно оказалось непоследовательнее и слабее даже, чем мы думали.
– Да в этом-то отношении я и прежде понимал все дело точно так же, – согласился Почебут-Коржимский, – вы мне нового ничего этим не говорите. Действительно, дело не более как пробный шар, как барометр общественного настроения, – это так; но зло истории, по-моему, в том, что теперь огромная масса молодежи лишена своего естественного и легально-гарантированного центра, каким был университет. Теперь же эти силы разбросались, они раздроблены, разъединены. А влиять на людей в однородной массе, так сказать в куче, в стаде, или влиять на каждого порознь и в одиночку – это две совсем разные задачи, и вторая несравненно, неизмеримо труднее! Вот в чем нанесли вы удар самим себе! И я говорил вам это и прежде!
– В этом ваше превосходительство правы, – почтительно согласился Иосиф Игнатьевич, – но дело далеко не непоправимое.
– А чем вы его поправлять будете? На поправку нужно время, нужно хотя бы наружное, но полное успокоение.
– Время своим чередом, а успокоения, пожалуй, что и не нужно теперь, – возразил Колтышко. – Будут составляться кружки, тайные братства, потайная пресса будет давать направление – и для того, и для другого есть уже достаточно подготовленных деятелей, – стало быть, пропаганда пойдет своей дорогой, если еще даже не сильнее. А дело это, кроме пробного шара, неожиданно дало теперь еще и положительные, хорошие результаты: оно озлобило молодежь, во-первых, во-вторых, – общественное мнение…
– Что до результатов, то я вижу только один хороший, – перебила особа, – и это именно то, что правительство распорядилось экстренной высылкой на родину большей части нематрикулистов.
– Это-то вот я и хотел сказать вашему превосходительству, – с видимым удовольствием подхватил Колтышко. – Мера необыкновенно удобная, необыкновенно кстати! Благодаря ей сколько энергичных агентов и пропагандистов рассеялось теперь по Литве, по Польше! Каждый сделает свое дело, и дело немалое!
Его превосходительство, в знак полного согласия, улыбнулся мягкою и многодовольною улыбкою.
– Так как же, ваше превосходительство, насчет молодого козла? – шутливо обратился к нему Колтышко.
– Да что ж, я готов, пожалуй… Вы что с ним намереваетесь сделать?
– Его убедили идти на военную службу.
– Гм… Это хорошо. Где же он определяется? Здесь, в Петербурге?
– То есть снарядим-то мы его здесь, но не в гвардию, а пошлем в какой-нибудь из варшавских полков. Там он будет теперь полезнее. А Чарыковский все это обделает в Главном Штабе и быстро и хорошо!
– Хм… Прекрасно! – задумчиво одобрила особа. – Так что ж, пожалуй, кликните сюда этого юношу.
Колтышко ввел в кабинет Хвалынцева.
– Иосиф Игнатьевич просил меня поручиться за вас перед начальством, – стереотипно официальным тоном обратился Мариан Адалбертович к Константину, не протягивая ему руки и не сажая, для чего между прочим и сам поднялся с места. – Вы, молодой человек, надеюсь, очень хорошо понимаете значение всякого поручительства, и потому, конечно, постараетесь поведением своим оправдать то участие, какое берет в вас вот почтеннейший Иосиф Игнатьевич. Я тем охотнее готов сделать для него это маленькое одолжение, что и сам был когда-то молод, и сам тоже увлекался, и до сих пор даже сохранил любовь к науке и молодости… Я не враг молодого поколения, напротив, я люблю молодое поколение и жду от него многого.. м-м… много хорошего. Поэтому делаю для вас тем охотнее…
Хвалынцев слегка поклонился.
– Вы, я слышал, желаете избрать себе военную карьеру?
– Да, я поступаю в военную службу.
– Хотя я и гражданский человек, но… одобряю! – заметил, с благосклонным жестом, его превосходительство. – Военная служба для молодого человека не мешает… это формирует, регулирует… Это хорошо, одним словом!.. Постарайтесь и на новом своем поприще стойко исполнять то, к чему взывают долг и честь и ваша совесть. Я надеюсь, что вы вполне оправдаете ту лестную рекомендацию, которую сделал мне о вас многоуважаемый Иосиф Игнатьевич.
Хвалынцев еще раз отдал легкий поклон.
– Я напишу сейчас же маленькую записочку к светлейшему, а вы отправьтесь с нею к нему в канцелярию, дождитесь его выхода к просителям и тогда вручите ему лично. Я напишу, что прошу освободить вас от полицейского надзора на мои поруки, и даже прибавлю, что вы поступаете в военную службу. Это ему будет приятно, – с улыбкой заметил, в скобках, Почебут-Коржимский. – Вы передайте его светлости от меня, что я сам заеду к нему сегодня, если позволят дела службы. Прошу садиться.
И указав Хвалынцеву на стул, его превосходительство присел к столу и в очень почтительных выражениях, не в форме «маленькой записочки», но в форме письма написал к светлейшему, что он покорнейше просит его за студента Хвалынцева и прочее, что требовалось в данном случае. В этом же письме было и извинение, что многообильные и важные дела службы лишают его удовольствия выразить лично эту просьбу пред его светлостью.
Мариан Адалбертович запечатал конверт собственным перстнем и с мягкою любезностью вручил свое послание Константину.
– Итак, молодой человек, желаю вам успеха на вашем поприще. Прощайте!
И Хвалынцев тотчас же откланялся.







