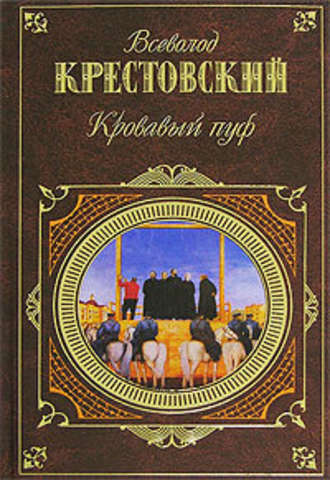
Всеволод Владимирович Крестовский
Панургово стадо
X
Дождались
Прошел день – Полояров не говорил ни с кем из членов коммуны или, лучше сказать, с ним говорить не хотели. В этот день он только утром часа на два уходил из дому, а потом все сидел запершись. На следующий день наступил крайний срок, назначенный ему для представления отчетов. Ардальон Михайлович сказался больным, все время лежал под своей чуйкой и довольно смиренно просил у Малгоржана передать членам, что и сегодня он не может по болезни представить им отчеты, и потому покорнейше просит иметь к нему маленькое сострадание, ради болезни, и отсрочить еще на некоторое время.
Члены согласились, и Моисей Фрумкин почти торжествовал: в этом отлыниванье Полоярова и в его намного пониженном, смиренном тоне он провидел уже зорю своей победы.
Но вдруг…
В этот же самый день, но уже ночью, часу в третьем, когда вся коммуна покоилась глубоким сном, в прихожей раздался звонок…
Раз… другой… третий…
Боже мой, чтó ж это значит?!. Вся коммуна переполошилась.
– Анцыфров!.. вы слышите?
– Слышу… Но что это такое?
– А вот узнаем. Ступайте отворите!
– Нет, уж увольте-с!.. Встаньте вы, Малгоржан… вам ближе.
– Да я сплю… Не заставляйте же дожидаться!
– Но у меня туфлей нет…
– У меня возьмите!
Но в это время в коридоре зашлепали тяжелые шаги Полоярова, и вскоре послышался звук отмыкаемой двери.
– Господин Полояров дома? – спросил чей-то чужой, незнакомый голос.
– Дома. Я Полояров.
По коридору раздались шаги нескольких людей, сопровождаемые звяканьем шпор и легким лязгом сабель.
Малгоржан высунул нос в щель своей полупритворенной двери. Из противоположной щели выглядывал нос Анцыфрова. В третьей двери белелась ночная кофта Лидиньки, и только из комнаты князя раздавался далеко не аристократический и никакими звонками не возмутимый храп юного Мецената.
Наехавшие люди скрылись за дверью полояровской комнаты.
– Полиция… жандармы… – жутко и испуганно прошептал Малгоржану плюгавенький, словно бы делаясь еще меньше и еще плюгавее от страху.
– Дождались! – со вздохом, тихо воскликнул восточный человек и стал одеваться.
В коммуне шел горячий обыск. Обыскивали бумаги и у Малгоржана, и у Лидиньки, и у всех остальных, но тщательнее всего обыскивали у Полоярова.
Ардальон во все время обыска был невозмутимо спокоен, в совершенную противоположность прочим своим сожителям, которые праздновали-таки трусу не малую.
Но вдруг он словно вспомнил про что-то и побледнел, тяжело проведя по лицу рукою.
«Какая злая ирония судьбы! Какая коварная насмешка слепого случая!.. И как было не подумать раньше! Как было не предусмотреть, не уничтожить?.. Совсем даже из головы вон, при этих всех передрягах!.. Эдакая непростительная, необъяснимая рассеянность!.. Эдакое разгильдяйство!.. А все эти дьяволы Фрумкины!.. Вот чтó значит всецело увлечься одной стороной дела! – Кажись ведь уж как и думал-то! и все обдумал, и все передумал, а это и упустил… не додумался! Словно бы как нарочно… И ведь пустяк-то какой!.. Господи! что ж теперь будет?!!»
Полояров нечаянно спохватился, что в боковом кармане его пальто осталось письмо за подписью Герцена, которое он, потерпев фиаско, впопыхах сунул туда да и позабыл, куда именно сунул. И как это так?! – Словно затмение какое нашло. Вот уж именно враг-то где попутал.
Все еще не доверяя себе и своей памяти, он, совсем одевшись уже, для пущего удостоверения, запустил руку в боковой карман и пощупал там. – Так и есть!.. лежит… лежит, проклятое!..
«И как это, право!» – недоумевает Полояров. «Еще третьего дня вечером, перебираючи бумаги, мне ведь казалось, что я его сжег вместе с прочим лишним хламом… Вот оно, чтó значит делать дела в таком ненормальном, возбужденном состоянии духа!.. Теперь пиши пропало!..»
«Надо бы как-нибудь поосторожнее вынуть его оттуда и уничтожить, лишь бы только не заметили», – домекнулся Ардальон Михайлович и, улучив минутку, по-видимому, самую удобную, запустил руку в карман и сжал в кулак скомканное письмо, с намерением при первой возможности бросить его куда-нибудь в сторону, когда станут уходить из квартиры или садиться в карету.
Однако это движение руки было далеко не своевременно, что служило явным доказательством новой ненормальности душевного состояния, которое весьма естественно овладело Ардальоном, чуть лишь он вспомнил про герценовское письмо. Он плохо сообразил, хотя расчет и казался верным.
Это роковое и уже вторичное движение руки в боковой карман, несмотря на то, что, по мнению Ардальона, минутка казалась очень для того удобною – не укрылось-таки от зоркого и староопытного глаза одного из господ полицейских.
– Потрудитесь вынуть вашу руку! – очень деликатно даже не без некоторой нежности предложил он Полоярову.
– Это зачем же-с? – глухо пробурчал тот.
– Так. Я вас прошу сделать это в личное мне одолжение.
Ардальон оставил в кармане скомканное письмо и, вынув руку, показал ее растопыренной ладонью вежливому офицеру, как бы для вящего доказательства, что в руке у него ровно ничего не находится.
Это, по-видимому, ничего не значащее и самое естественное движение показалось опытному доке весьма подозрительным: оно навело его на пущее подозрение, что в боковом кармане Полоярова должно быть что-то не ладно…
– Вы, конечно, будете столь обязательны и не откажетесь вынуть то, что лежит у вас в этом кармане? – еще мягче, слаще и любезнее предложил он своему «субъекту».
– У меня там… ничего нет, – запнулся слегка Полояров.
– Однако?
– Ей-Богу, ничего!
– Тем лучше-с. Но тогда вы, для большего убеждения, конечно, не откажетесь выворотить и показать нам этот кармашек?
– Да разве вы мне не доверяете?
– О нет!.. Помилуйте, как это вы можете думать!.. Но… знаете ли – что делать! уж это наша обязанность такая… наш долг, так сказать…
Полояров ни кармана не выворачивал, ни довода никакого не представлял, а стоял себе без движения, словно бы и не понимая, чего хочется офицеру.
– Уж вы меня извините, если так! – с полупоклоном любезно пожал офицер плечами. – Я, конечно, со всей моей деликатностью… но… я прикажу унтер-офицеру обеспокоить вас маленьким обыском… Что делать-с!.. Бога ради, извините… Эй! Изотов!
Полояров увидел ясно, что влопался теперь окончательно и, скрепя сокрушенное сердце, отдал роковое письмо.
Офицер очень деликатно, действуя более большими и указательными пальцами рук, развернул и тщательно расправил скомканную бумажку и все с той же мягкой, приятной улыбочкой посмотрел на заголовок послания и на подпись.
– А!.. Герцен! – с видом какого-то почтительного благоговения, почти шепотом произнес он, рассматривая подпись; полюбовался ею, дал полюбоваться и другим своим сотоварищам и рачительно присоединил письмо к прочим бумагам.
– А замечательный человек-с! – добродушно и даже с маслицем в улыбающемся взоре обратился он к Полоярову, таким посторонним, совсем неофициальным тоном, как будто вел самую приятную, задушевную беседу. – Да-с, истинно замечательный человек!.. Какой талант! И ведь сколько бы пользы мог принести отечеству! Конечно, есть некоторые крайности, увлечения, но… Бойкое перо! бойкое! Мне в особенности, знаете, стиль его нравится. Прекрасный стиль!
Полояров стоял и только хлопал глазами.
Обыск в коммуне был наконец окончен. Бумаги всех сожителей – каждая пачка отдельно – были перевязаны бечевками и запечатаны.
Поклонник герценовского стиля очень любезно извинился перед всеми членами коммуны, что по долгу службы нашелся в необходимости обеспокоить их в такую позднюю пору, и еще любезнее предложил Полоярову надеть чуйку и следовать по назначению вместе с обыскной комиссией.
Вскоре после этого они отправились.
По уходе их и Фрумкин, и князь, и Лидинька с Анцыфровым, словно сконфуженные, стояли посередине залы и, не говоря ни слова, только поглядывали друг на друга.
– Н-ну, дождались! – протянул, наконец, Малгоржан, разводя руками.
– Дождались! – в ответ ему повторил про себя каждый из членов.
Нельзя сказать, чтоб остаток ночи провели они спокойно.
XI
Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось порядочным людям
Дня три спустя после этого ареста Андрей Павлович Устинов получил через полицию приглашение пожаловать в назначенный час в одно очень важное административное ведомство. Недоумевая, что бы могло значить и предвещать это краткое официальное приглашение, он дал подписку в том, что требование будет исполнено, а к назначенному времени облекся во фрак и отправился куда требовалось.
Его провели в особую комнату какой-то особой канцелярии или экспедиции, где некоторый весьма благонамеренно-внушительной наружности чиновник с либеральными бакенбардами очень любезно предложил ему занять кресло у заваленного бумагами стола, за которым сам занимался. Кроме этого чиновника здесь никого больше не было.
– Извините, что мы вас обеспокоили, – начал он, – но видите ли, нам надо получить от вас некоторые необходимые объяснения по поводу вашего доноса.
Устинову показалось, что он либо не понял, либо ослышался.
– Как вы изволили сказать? – внимательно подал он вперед свою голову, наставляя ухо.
– Некоторые дополнительные сведения и объяснения по поводу доноса, – вразумительнее повторили благонамеренно-либеральные бакенбарды.
– То есть… какого доноса?.. – стараясь вникнуть в суть, еще более подался вперед учитель. – Извините, я, может, не совсем точно понимаю… Разве на меня донос кем-либо сделан?
– О, нет! – улыбнулся чиновник. – Но нам нужны от вас объяснения по поводу вашего собственного доноса.
– Доноса?!. Моего?!. – в крайнем изумлении откинулся Устинов на спинку кресла. – Извините-с, тут, должно быть, какое-нибудь недоразумение… Я ни на кого никаких доносов не делал!
Теперь уже чиновник в свой черед внимательно и недоумело поглядел на Устинова.
– Но как же это однако?.. Позвольте…
И он вытащил из кипы бумаг какую-то записку и сверился с нею.
– Вы ведь господин Устинов?
– Да, я Устинов.
– Ваше имя Андрей Павлович?
– Да, это мое имя.
– Вы бывший учитель Славнобубенской гимназии?
– Совершенно верно.
– Ну, так вы это и есть. Ошибки быть не может. Вы Ардальона Полоярова знаете?
– Полоярова? Знаю.
– Вы знакомы с ним?
– Был когда-то, но теперь раззнакомился.
– По каким причинам?
Устинов пожал плечами. «Зачем ему от меня все это нужно знать?» – подумалось ему.
– Да без всяких особенных причин, – объяснил он, – просто потому, что не люблю глупых знакомств.
– Но… как же донос-то?
– Какой донос, наконец? – уже не без прорывавшейся досады возразил Устинов.
Чиновник снова поглядел на него внимательно.
– У нас получен донос на Полоярова, подписанный вашим именем.
– Это мистификация! – воскликнул Устинов. – Но… позвольте, однако, взглянуть на него… Это очень любопытно. И притом крайне меня удивляет! Кому бы могла прийти мысль и с какою целью писать доносы от моего имени?
Чиновник порылся у себя на столе и подал Устинову бумагу.
Тот стал читать:
«Сим имею честь, по долгу верноподданнической присяги и по внушению гражданского моего чувства, почтительнейше известить, что вольнопроживающий в городе Санкт-Петербурге (следует адрес) нигилист Ардальон Михайлов Полояров имеет весьма зловредное влияние на некоторых лиц, проживающих в одной с ним квартире. Вышепомянутый нигилист Полояров ведет деятельную пропаганду идей и действий, вредящих началам доброй нравственности и Святой Религии, подрывающих священный авторитет Закона и Высшей Власти, стремящихся к ниспровержению существующего порядка и наносящих ущерб целости Государства. Фактические доказательства его злонамеренности, заключающиеся в его бумагах, сочинениях, корреспонденции и в хранящихся у него брошюрах и книгах, могут быть почерпнуты посредством немедленно произведенного обыска в занимаемой им квартире. Он же сильно прикосновенен к делу уволенного из духовного сословия Луки Благоприобретова, о чем долгом поставляю довести до сведения надлежащей власти.
Бывший учитель Славнобубенской гимназии Андрей Павлов Устинов».
Маленький математик прочел все это и в величайшем недоумении только пожал плечами.
– Невероятная мистификация!.. Чья-то очень глупая и очень злая шутка, не более! – проговорил он. – И насколько я знаю Полоярова, – это просто дурак; пожалуй, пустой болтун, каких теперь тысячи щеголяют по белому свету, но что касается до каких-либо действий и идей, то у него ровно никаких идей в голове не имеется, и полагаю, что каждый мало-мальски серьезный заговорщик постыдился бы назвать его своим сотоварищем.
– Это ваше убеждение? – пытливо спросил чиновник.
– Да, это мое искреннее убеждение, основанное на достаточном знании господина Полоярова.
– Мы по этому-то поводу и пригласили вас, – пояснил чиновник, – потому что, видите ли, при самом тщательном обыске ни у кого во всей этой квартире не оказалось ровно ничего подозрительного… бумаги, письма – все это самое пустячное! К делу Благоприобретова, которое теперь выяснилось для нас всестороннее и как нельзя полнее, этот Полояров ровно никакого отношения не имеет. Но вот, нашлось тут у него одно письмо за подписью Герцена; мы его сверяли с несколькими подлинными письмами Герцена, но в почерке и тени нет сходства! Напротив, этот почерк, очевидно измененный нарочно, очень походит на почерк самого доноса. И притом конверт – мы знаем лондонские конверты – этот не похож нимало, а просто слишком знакомая всем наша домодельная, гостинодворская работа. Это видно сразу, и оно-то еще более наводит на мысль, что письмо не из Лондона, а вероятно, все та же проделка.
– В таком случае, – заметил Устинов, – я еще более прихожу к убеждению, что все это – дело чьей-то гнусной шутки, жертвою которой сделаны Полояров и мое имя.
Чиновник, как бы соображая и обдумывая что-то, запустил руки в свои либеральные бакенбарды и плавно стал пропускать их между пальцами.
– Это, во всяком случае, требует разъяснения, – медленно процедил он сквозь зубы и обратился к Устинову. – Вы не откажетесь, конечно, в видах собственного своего интереса, разъяснить, насколько возможно, это дело?
– Дело слишком близко и чувствительно касается моего имени, – подтвердил Андрей Павлович. – Но как же мне разъяснить его, если я сам пока еще ровно ничего тут не понимаю?
– Не знаете ли вы, например… не вспомните ли, может, есть кто-нибудь, кто питает и к вам, и к Полоярову личную вражду, ненависть?
– И ко мне, и к Полоярову вместе? Нет, таких решительно не знаю.
– А ваши личные отношения к нему, в настоящее время, какого свойства? Совершенно равнодушные?
– Мм… То есть как вам сказать?..
– Я к тому вас спрашиваю об этом, – пояснил чиновник, с грациозным достоинством поправляя положение своего шейного ордена на белой сорочке, – что, может быть, тот, кто сыграл с вами эту шутку, имел в виду, конечно, обставить ее так, чтобы все дело не противоречило вашим личным, действительным отношениям к Полоярову; потому что странно же предположить, чтобы такая проделка была сделана от имени совсем постороннего, незнакомого человека. Вероятно, тот, кто подписал здесь ваше имя, рассчитывал на какую-нибудь особенность ваших личных отношений к этому господину, и вот почему именно я спрашиваю вас, какого свойства ваши отношения: равнодушные или враждебные?
– Мм… Враждебные – это уже было бы чересчур много в отношении такого господина, как Полояров, но, конечно, отношения эти уже никак не могут назваться дружелюбными.
– Стало быть, скорее приближаются к враждебным?
– Да, пожалуй.
– Не на них ли тут и рассчитывалось?
– Не знаю; может быть.
Чиновник снова запустил пальцы в бакенбарды и снова сообразительно подумал о чем-то.
– Как вы полагаете, – совещательно обратился он к Устинову, – не помогло ли бы отчасти разъяснению ваше, например, личное свидание с Полояровым? Может быть, переговорив с ним, мы бы все вместе напали на какие-нибудь нити? – Как знать? ум хорошо, а два лучше, говорит пословица.
– Мне все равно; я не прочь, пожалуй, – согласился Устинов.
– В таком случае, я бы просил вас на некоторое время удалиться в ту комнату… Это будет недолго; а когда понадобится, я попрошу вас опять. Вы там найдете газеты и журналы, если угодно.
Андрей Павлович удалился, а чиновник сделал распоряжение, чтобы привели арестанта Полоярова.
Через несколько минут Ардальон предстал пред благонамеренно-либеральные бакенбарды солидного чиновника, и ему, точно так же как и Устинову, любезно было предложено то же самое кресло.
Полояров совершенно спокойно, и даже не без некоторой рисовки своим положением, занял указанное ему место.
– Вы знаете, что донос на вас сделан некоим учителем Устиновым? – помолчав немного, внезапно спросил чиновник арестанта.
– Да! – вполне утвердительно кивнул головой Полояров. Это «да» и такая уверенная положительность жеста и тона, какими оно сопровождалось, показались чиновнику очень странными.
– Да; это так, – подтвердил и он ему в свою очередь. – Но вы-то почему это знаете?
Последний вопрос был сопровождаем самой благосклонной улыбкой.
– То есть я так догадываюсь, – поправился Полояров, – потому что кому же больше?
– О?.. Так, значит, у этого господина есть какие-нибудь особые поводы на это?
– Непременно так, – подтвердил Ардальон; – потому что он рад бы меня в ложке воды утопить, и притом же он еще в Славнобубенске, как слышно было, любил заниматься доносами, – ну, так это ему с руки более чем кому-либо!
– Стало быть, вы полагаете, что это сделано из личной вражды к вам?
– Не иначе-с! Чтобы наделать мне лишних неприятностей, выставить в невыгодном свете пред правительством. Что же касается меня, – с видом благородного достоинства прибавил Полояров, – я знаю только одно, что я невинен и оклеветан напрасно.
– А письмо от Герцена? – улыбнулся чиновник.
– Что же-с?.. Я ничем не заслужил таких похвал!.. Я и дел-то с ним никогда никаких не имел и даже, по моему крайнему убеждению, считаю его просто выдохшимся болтуном, который даже и вредить-то не может! А мне это письмо принес какой-то неизвестный в тот самый вечер, как меня арестовали. Вся беда моя только в том, что я не успел его уничтожить… Я не придал ему ровно никакого значения и посмеялся над ним, просто как над глупостью. Но теперь я вижу ясно, что и оно должно быть тоже устиновской работы, чтобы вернее погубить меня… Но Бог с ним, с этим милым барином! – великодушно махнул Ардальон рукою и даже вздохнул при этом: – злом за зло платить не хочу и не желаю ему ничего дурного… Бог с ним! Справедливый закон, без сомнения, увидит мою правоту и невинность, и тогда, если я буду освобожден, я не стану его преследовать и буду даже тогда просить его сиятельство оставить и забыть все это дело… Пусть же лучше его накажет собственная совесть!
– Это конечно! Наказание Божеское сильней человеческого, – с чувством согласился чиновник и позвонил.
Вошел унтер-офицер.
– Там ждет меня в этой комнате один господин… Скажи ему, что он может войти.
– Слушаю-с.
– Прикажете мне удалиться? – приподнялся Полояров.
– Сию минуту-с! – безразлично и вскользь кивнул ему чиновник, наклонившись над кипою своих бумаг и будто отыскивая в них что-то.
Растворилась дверь, и вошел Устинов.
Ардальон вздрогнул, вскочил с места, отшатнулся назад и побледнел мгновенно.
Он мог бы ожидать чего хотите, но только никак не этого появления в настоящую минуту.
Величайшее смущение покрыло собою всю его фигуру.
Эта внезапность в один миг сделала то, что он вконец растерялся и никак не мог ни овладеть собою, ни собрать своих мыслей.
– Господин Полояров решительно утверждает, что этот донос написали вы по личной к нему ненависти, – обратился чиновник к Устинову. – Господин Полояров даже весьма странным образом изумил меня, сказав сразу самым решительным тоном, что это не кто иной и быть не может, как только вы, господин Устинов.
Краска негодования выступила на лице учителя.
– Господин Полояров лжет, – с твердостью проговорил он, глядя в упор в смущенное, перепуганное лицо Ардальона. – Соберите все мои письма, записки, рукописи, созовите экспертов, и они вам подтвердят, что это наглая ложь! Вот, кстати, со мною как раз есть одно мое письмо, я не успел забросить его в почтовый ящик, – продолжал Андрей Павлович, вынув из бокового кармана и сламывая печать. – Вот оно! Сличите сейчас мою руку, мою подпись… Подписывая донос своим именем, я, конечно, не имел бы ни малейшей надобности изменять свой почерк. Позвольте же теперь, господин Полояров, узнать цель, с которою вы это утверждаете?!
– А заодно уж, – домекнулся чиновник, – мы сличим и почерк господина Полоярова да и его друзей, – здесь, кстати, довольно есть разных писем, – авось до чего и доберемся! Сходство некоторых отдельных букв, как там ни изменяй, а все-таки узнаешь! У нас ведь есть на это и опытные эксперты под рукою!
Он позвонил. Явился унтер-офицер, которому было приказано позвать какого-то Карла Иваныча.
Вошел Карл Иванович – благоприлично-благонамеренной наружности чиновник, щупленький, сивенький, лет около пятидесяти, с орденом в петлице.
– Вот, Карл Иваныч, потрудитесь, пожалуйста, сейчас же сличить почерки этих рук, – обратился к нему обладатель либеральных бакенбард, подавая донос, герценовское письмо, письмо Устинова и один листок из рукописи Полоярова.
Карл Иванович не торопясь протер свои толстые золотые очки, методически оседлал ими востренький носик и сосредоточенно погрузился в рассмотрение предложенных ему бумаг.
– Это совсем посторонняя рука, – сказал он наконец, откладывая в сторону письмо Андрея Павловича. – А это и это похоже… очень похоже, – объявил он через несколько времени, указывая либеральным бакенбардам на донос и письмо от Герцена. – Все эти три бумаги писаны одною рукою, – компетентно порешил он наконец, сличив их с рукописью Полоярова, – в этом нет сомнения, потому что, глядите сами, характер отдельных букв – вот, например: р, б, ж, д, к, т, в, – во всех трех бумагах точен и одинаков до поразительности. В них изменен только наклон почерка, но характер руки – все один и тот же. Я ведь уже двадцать лет этим делом занимаюсь, слава Богу, зубы съесть успел на нем! – Это одна рука писала, – повторил он еще раз тоном непоколебимого убеждения.
Ардальон почувствовал себя в некотором роде взятым за горло и крепко притиснутым в угол к стене. Все сорвалось, все лопнуло и все уже кончено!.. Где доводы? Где оправдания? Что тут выдумаешь?.. Ни одной мысли порядочной нет в голове! Логика, находчивость – все это сбилось, спуталось и полетело к черту! Пропал человек, ни за грош пропал!.. Все потеряно, кроме… да нет, даже и «кроме» потеряно!
– Простите!.. Пощадите!.. Виноват…. один… один кругом виноват! – глухо пробормотал он дрожащими, посинелыми губами, с бесконечно жалким, глубоко-растерянным и перетрусившим видом приближаясь к столу чиновника.
– В чем-с прикажете простить вас и в чем вы один виноваты? – методически размеренно, пунктуально, со спокойно-ледяной улыбкой спросил чиновник, привстав с места и эластически упираясь на стол сжатыми пальцами.
В голове Полоярова точно колесило что-то, в ушах тонко звенело и в глазах рябило какими-то плавающими сверху вниз водянистыми мушками. Он смутно и бессмысленно видел только сверкание дорогого перстня на упертом в стол указательном пальце своего неприступно и морозно-вежливого допросчика.
– Итак, спрашиваю вас еще раз: в чем прикажете простить вас и в чем вы один виноваты-с?
– Я… я… этот донос… я сам на себя написал его.
Устинов, широко раскрыв и рот, и глаза, даже отшатнулся назад от изумления: столь неожиданно и нелепо было это признание! Логика его просто отказывалась понять такое дикое, ни с чем не сообразное действие. – Донос на самого себя!
– А письмо Герцена к вашей особе? – металлически звучал между тем спокойный, ничем не возмутимый голос допросчика.
– Тоже сам написал… – сконфуженным шепотом пробормотал Полояров, не зная куда деваться от двух с разных сторон устремленных на него взглядов.
– С какою целью вы это делали? – допрашивал чиновник.
– По глупости-с… Виноват… Пощадите… Пощадите!.. Я круглый сирота… Ни отца, ни матери!..
И он начал тяжело всхлипывать. Лицо его искривилось, нижняя губа конвульсивно задергалась, и в глазах показались непритворные, настоящие слезы…
Действительно, он был очень жалок в эту минуту.
– Сядьте… успокойтесь, придите в себя! – вдруг предупредительно и мягко заговорил чиновник, наливая ему в стакан воды из граненого графина. – Выпейте воды… несколько глотков – это вас облегчит… Успокойтесь же, успокойтесь!..
Полояров почти повалился в подставленное ему кресло, трясущеюся рукою взял от чиновника стакан и жадно вытянул из него всю воду. Всхлипыванья стали меньше. Через несколько минут он сделался гораздо спокойнее, но все-таки в величайшем смущении чувствовал, что глаз поднять не может ни на своего столь внимательного допросчика, ни на глубоко пораженного Устинова, и особенно на Устинова.
– Ну, скажите же мне теперь откровенно: что вас побудило писать на самого себя доносы? – уже мягко и участливо приступил чиновник к новому допрашиванью.
– Хотел быть арестованным, – тихо проговорил Полояров.
– Но чтó за цель?!. Кому же приятно быть арестованным? – пожал плечами допросчик.
– Так…
– Как «так!» – Этого же быть не может!.. И я уверен, что, сознавшись в главном, вы не захотите скрыть и причин. Ведь были же причины?!
– Это все Фрумкин, – говорил Ардальон, все так же со смущенно потупленными глазами. – Фрумкин вот, да еще Малгоржан-Казаладзе… да Затц…
– Ну, да, это все ваши сожители. Так что же этот Фрумкин и прочие?
– Это все они-с… Они стали ко мне приставать, что, мол, все честные и порядочные люди арестованы и сидят, а я один хожу на свободе, один не арестован… Они все приставали и смеялись надо мною… Мне это обидно сделалось…
– Ну, и что же?
– Я и написал. Они говорили, что могут только тех уважать, кто арестован… а меня всякого уважения лишили… Мне же это обидно и больно было…
– А вы очень разве дорожите их уважением? – улыбнулся чиновник.
– Да как же-с… вместе живем ведь…
– Ну, а письмо к самому себе написали?
– Письмо-с…
Полояров запнулся и растерянно поглядел вокруг себя опущенными глазами.
– Письмо-с… Это так.
– Ну, вот! Опять у вас это «так».
– Да это все поэтому же… Они меня ругали… все равно как за дрянь какую почитали… даже ругать стали мерзавцем…
– А вы и написали письмо, чтобы разубедить их?
– Да-с… потому они сейчас уважать начинают… Впрочем, я все это так больше… по молодости и опрометчивости…
– Ну, какая же у вас молодость, однако! – улыбнулся чиновник. – Вы, конечно, не старик, но уже и не юноша…
– По опрометчивости-с… Я, признаться сказать… я в ненормальном состоянии все эти дни находился.
Счастливая мысль блеснула в голове Полоярова. Эта мысль была первым проблеском возвращавшегося самообладания, и он за нее ухватился.
– Чтó вы называете ненормальным состоянием? – спросил чиновник.
– Пьян был-с… Так как мне это все очень было горько и обидно, что они меня так обзывают, то я с горя-с… Все эти дни вот… И в этом состоянии мне пришла мысль написать письмо и донос… Я думал, пусть же лучше мне пропадать, чем терпеть все это!
– Но для чего же вы подписывали донос именем господина Устинова?
– Надо же было как-нибудь подписать. Это я помнил, что безымянный донос силы не имеет, – я и подписал…
– Но почему же непременно именем господина Устинова, а не другим?
– Так это… Еще в Славнобубенске слышно было, будто они занимаются доносами… Я это вспомнил себе и подписал… Потому тоже, что никакого другого имени не вспомнил себе в ту пору… Я тогда никак не предполагал, чтобы это все могло так обернуться, как теперь вдруг обернулось.
– То есть вы рассчитывали, что мы не станем разыскивать господина Устинова и не потревожим его, чтобы удостовериться?
– Да, я рассчитывал…
– Ну, надо отдать справедливость, вы рассчитывали на нашу очень… очень большую наивность.
– Пьян был-с, – вздохнул Полояров. – Это спьяну все.
– Однако нельзя сказать, чтобы донос был написан пьяною рукою, – заметил чиновник, рассматривая бумагу.
– Ей-Богу, пьян был-с!.. Богом клянусь!.. Рука у меня, впрочем, всегда очень твердая.
– Ну, может быть. А вот в письме к самому себе вы пишете, что вы – один из немногих, которые высоко держат знамя демократического социализма в России. Вы, значит, сочувствуете этим убеждениям?
– Ей-Богу, нет! Видит Бог – нисколько!.. Честное слово! – оторопело и торопливо стал отнекиваться и заверять Полояров, ударяя себя в грудь рукою, но все еще избегая взглядов на Устинова. – Помилуйте, я даже сам занимал некогда должность в полицейской администрации. Могу ли я! А что я точно, всей душой сочувствую прогрессу, который нам указан самим правительством; но чтобы сочувствовать этому – Боже меня избави!.. Я, напротив, спорил с ними всегда, и они меня за то мерзавцем стали обзывать… Это они вот сочувствуют… Они все сочувствуют! Это поверьте!
– Кто это они? – спросил пунктуальный чиновник.
– Они-с… То есть Фрумкин вот в особенности… Малгоржан, Анцыфров, князь Сапово-Неплохово, госпожа Затц, Благоприобретов… – пояснил Полояров, стараясь припомнить еще несколько имен своих знакомых.
– Но в таком случае, если вы так расходитесь с этими господами в убеждениях, то для чего же вам понадобилось писать к себе письмо подобного рода?
– Они же меня ругали, я вам докладываю! – с жалкой миной развел руками Полояров.
– Ну так вам-то что?.. Вы бы плюнули на их брань, и только!
– Мне это очень, говорю, обидно было… Они притом же про меня даже печатать хотели… Мою гражданскую и литературную репутацию замарать, чтобы никуда моих статей не принимали, а я человек бедный… я только моим честным трудом живу… Мне и есть после этого нечего было бы!
– Ну, стали бы работать в других редакциях.
– Помилуйте-с, это невозможно.
– Отчего же невозможно?
– Да как же-с… Они ведь противного лагеря… У них направление совсем другое… и в убеждениях мы расходимся.
– Да ведь вы же расходитесь в убеждениях с вашими сожителями?
– Это так, да все же… С другими-то я не знаком… и кланяться не люблю.
– Ну, наконец, если вы сочувствуете правительственному прогрессу и либерализму, работали бы в официальных газетах, в «Северной Почте», например.
– Да что ж, я пожалуй… Я не прочь бы… Если бы это можно было устроить – я готов, с своей стороны!.. Почему же?..
Устинову стало уж очень противно слушать все это. Он взялся за шляпу и обратился к чиновнику:
– Могу я теперь удалиться, так как дело, полагаю, вполне уже разъяснилось?
– Pardon!.. [96] Сию минуту-с!.. – с предупредительной любезностью и даже не без известной грации полуобернулся тот к учителю и снова заговорил с Полояровым. – Очень жаль мне вас, господин Полояров, но все-таки должен я вам сказать, что в результате всего этого дела вы сами приготовили себе весьма печальные последствия.







