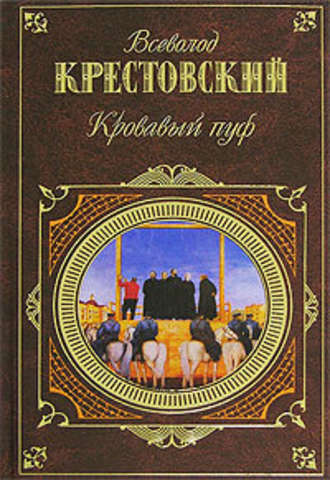
Всеволод Владимирович Крестовский
Панургово стадо
XII
Дрессировка начинается
Только на другой день, в четвертом часу, Василий Свитка посетил, наконец, Хвалынцева. Он привез ему сак с бельем и необходимыми вещами, извиняясь тысячью хлопот и бездною дел в том, что не успел приехать ранее. Эта же тысяча хлопот помешала Свитке быть вчерашний день у Стрешневых. Он говорил, что сейчас только оттуда, что молодой Стрешневой не видал, так как ее не было дома, а видел только старую тетку, которую вполне успокоил насчет Хвалынцева, сказав, что он теперь вне всякой опасности, в благонадежном месте, но что некоторые, весьма важные обстоятельства требуют недальнего отъезда его из Петербурга на непродолжительное время, и потому-де Хвалынцев просит нимало не беспокоиться его отсутствием. Более сказанного Свитка, пока до времени, ничего не мог объяснить старушке, только просил ее передать все это Татьяне Николаевне и засим держать в секрете и его посещение, и сообщенные им известия. Старая тетка, по его словам, вполне успокоилась и даже послала свой поклон Хвалынцеву – «буде вы увидите его раньше».
Хотя всего сообщенного было слишком мало для Константина Семеновича – он ждал, что Свитка увидит самую Татьяну Николаевну и привезет от нее если не письмо, то хоть приветное, ободряющее, доброе слово – «но все же это лучше чем ничего», решил он; «по крайней мере, беспокоиться и опасаться не станут».
Уходя от Хвалынцева, Свитка внушительно предупредил его!
– Вам, вероятно, предстоит знакомство с Колтышкой, – сказал он, – так вы глядите, не выдайте ни словом, ни взглядом о закулисной стороне наших отношений и разговоров. Колтышко, предваряю вас, ничего не знает. Он ни во что не посвящен.
– Да ведь и я ничего не знаю, и тоже ни во что не посвящен, – возразил студент.
– Ну, все-таки теперь знаете неизмеримо более, чем он, поэтому – осторожность!
Хвалынцев мельком, недоверчиво взглянул на Свитку. В этих последних словах ему показалось что-то не совсем-то искреннее, что-то притворное.
– Но в каком же смысле и в каком роде будет наше знакомство? – спросил он. – И не лучше ли, в таком случае, не знакомиться нам вовсе?
Свитка немножко замялся.
– Н-нет, познакомиться-то необходимо, – сказал он, – ведь он все ж таки хозяин этой квартиры. Да вы не беспокойтесь: Лесницкий представит вас как своего доброго знакомого.
– Но чем же он объяснит мое присутствие в квартире господина Колтышки?
– А тем и объяснит, что вы не желаете участвовать в студентских беспорядках и попасться в лапы жандармов, а потому просили его избавить вас от тех и от других в этом укромном убежище, – очень развязно и улыбаясь объяснил Свитка.
– Послушайте, добрый опекун, вы, однако, ставите меня в очень фальшивое положение, – весьма серьезно заметил Константин Семенович. – Я вам бесконечно благодарен за ваше участие и расположение ко мне; но если… если все это необходимо сопряжено с такого рода фальшью, то я, признаюсь вам, весьма затрудняюсь принимать ваше доброе участие.
Свитка окинул его беспокойным взглядом и лукаво улыбнулся.
– А жандармы? – многозначительно спросил он.
– Что ж?.. Конечно, это очень невкусно, но… пред жандармами у меня, по крайней мере, нет и не будет фальшивого положения.
Свитка, притворяясь равнодушным, спокойно прошелся по комнате. Он понял, что сделал промах, заговорив с Хвалынцевым о предстоящем ему знакомстве и ведя весь последующий разговор. Надо было, во что бы то ни стало, поправить теперь этот промах. Выпустить из рук своих Хвалынцева ему точно так же не хотелось, да теперь это было бы и нерасчетливо, после того как ради его сделано уже столько подходов и даже кое-что разоблачено до известной степени. Свитка сообразил, что поправить промах свой он может не иначе, как напустив на себя тон полной искренности и откровенности.
– Ну, Хвалынцев, будемте говорить по-братски, по душе! – решительно предложил он, остановясь перед студентом и открыто протянув ему руку. – В чем вы видите фальшь своего положения?
– В том, что вы меня заставляете играть роль какого-то подловатенького трусишки, который из боязни жандармов хочет укрыться от своих товарищей, отстать от общего дела. Я не согласен на это.
– Ха, ха, ха! – тихо засмеялся Свитка. – Ну, я так и знал! Я так и знал, что не что иное, как это!.. Ну, дайте сюда вашу руку – помиримтесь!.. Это, действительно, фальшь – ну, значит, и долой ее!.. Выслушайте меня: Лесницкий объяснит Колтышке прямо, что вам до времени нужно убежище, чтоб избежать полицейских агентов. Ведь это так и есть на самом деле? Вы согласны?
Хвалынцев утвердительно кивнул головой.
– Колтышке можно объяснить это вполне откровенно, – продолжал Свитка; – это настолько порядочный и честный человек, что он, во-первых, никак не лишит вас этого убежища, во-вторых, никому и ни за что не выдаст вас. В этом уж мы на него смело можем положиться. Но… Колтышко, повторяю вам еще раз, ровно ничего не знает (последние слова были произнесены с особенною многозначительностью). Вы помните нечто из моих вчерашних интимных сообщений?
Хвалынцев опять кивнул головой.
– Ну, так Колтышко ни о чем таком и малейшего понятия не имеет. Между прочим, сегодня вы, вероятно, будете обедать у него. За обедом, вероятно, будут и посторонние лица. – Он очень хлебосолен. – Между этими лицами могут быть и такие, которые уже посвящены кое во что, а будут и такие, которые ровно ни о чем, как и он же, понятия не имеют и не должны иметь. Так вот именно ввиду чего я говорил вам, что будьте как можно осторожней и не показывайте ни малейшего вида, что вам хоть чуточку что-нибудь известно. Понимаете-с?
– Это-то понять не мудрено, – возразил студент, – но вы мне указываете на лиц, посвященных и непосвященных. Во что посвященных, – вопрос? Я-то сам, я лично, повторяю вам, ровно еще ни во что не считаю себя посвященным.
Свитка опять тихо и лукаво засмеялся.
– Э, Боже мой! Нельзя же сразу. Постепенность и последовательность есть первое правило каждого сильного и серьезного дела! – докторально заметил он студенту. – Неужели же вы хотите, чтобы мы на всех перекрестках о себе кричали? Подождите, придет время – и закричим! Наше внимание и участие к вам ровно еще ни к чему не обязывает вас. Нам достаточно одного убеждения, что вы – честный человек, что вы во всяком случае не доносчик. Вы сами, надеюсь, крепко убеждены в этом, и этого одного убеждения достаточно, чтобы мы ни минуты не задумались протянуть вам руку помощи, оказать честную, братскую услугу. Ведь вы нас не знаете и никогда не узнаете, если не захотите идти заодно с нами. А захотите – тогда другое дело! Нам нужны люди, свободно и сознательно отдавшиеся делу. Вы строго подумайте сначала, взвесьте свои силы, свои шансы pro и contra, и тогда решайтесь. Да так да, а нет так нет! В последнем случае мы мирно и тихо разойдемся как порядочные люди; вы нас не узнаете, и никто из нас – ни вы, ни мы – претендовать друг на друга не будем. Повторяю еще раз: в честности и благородстве вашем мы убеждены безусловно; стало быть, мы вполне спокойны за то, что если разойдемся, то настоящие отношения будут тайной для всех и навсегда, – одним словом, умрут между нами. Ну, достаточно ли я сказал вам, господин Хвалынцев?
– Я вам могу пока поручиться за одно, – с достоинством и твердо заговорил студент. – Я, действительно, прежде всего и более всего убежден, что я – честный человек и не дам вам повода разочароваться во мне в этом отношении.
– Ну, а остальное, что Бог даст! – подхватил Свитка, хлопая ему по руке своею ладонью; – а между прочим, я уже объяснил вашей хозяйке, что вы по самой экстренной и непредвиденной надобности уехали за город и что она, в случае надобности, может в полиции отметить вас выбывшим из Петербурга. Квартира, однако, оставлена за вами. А теперь прощайте. Мне некогда.
XIII
Еще более надежное место
В обеденную пору, часов около пяти, в дверь Хвалынцева раздался знакомый уже ему осторожный стук, по которому он узнал Лесницкого.
– Иосиф Игнатьевич вас ждет к обеду, – сообщил управляющий, дернув руку студента своим обычным пожатием; – если готовы, пойдемте.
– Он уже знает обо мне? – спросил Хвалынцев.
– Знает.
– Вы как именно объяснили ему?
– Вполне сообразно вашему желанию, – с улыбкой поклонился Лесницкий.
Дело обошлось без рекомендаций. Колтышко, заметя из своего кабинета входящего Хвалынцева с Лесницким, сам пошел к ним навстречу и как знакомый, молча, но с милой, приветливой улыбкой протянул и радушно пожал руку студента.
– Пойдемте, я вас познакомлю с моими гостями, – сказал он, взяв его под руку, и повел в кабинет.
Тут было двое каких-то чиновников, весьма приличной и солидной наружности, фамилии которых хотя и были названы, но Хвалынцев – как это зачастую случается – через минуту, хоть убей, не помнил уже этих фамилий. Кроме чиновников находился тут еще капитан генерального штаба.
– Капитан Чарыковский, – назвал его Колтышко, подводя к нему студента.
Физиономии хозяина и этого капитана сразу сказались чем-то знакомым, и очень недавно знакомым Константину Семеновичу. Умное и энергическое лицо Чарыковского и несколько выдвинутая вперед нижняя челюсть Колтышки, с его тонкими, подобранными и сжатыми губами, придававшими его лицу какое-то презрительное и вместе с тем энергическое, твердое выражение решимости и силы, и эти наглые серые глаза, дышавшие умом, и эта изящная скромность манер – все это сразу напомнило Хвалынцеву вчерашний день перед университетом и ту минуту, когда он подошел к Василию Свитке. Теперь он вспомнил очень ясно, что подле Свитки стоял именно капитан Чарыковский, крикнувший вместе с другими офицерами на полицейского, когда тот схватил за шиворот Хвалынцева; а тот блондин чиновник, в распахнутом бобровом пальто, с орденом на шее, был не кто иной, как Иосиф Игнатьевич Колтышко. «Кто из них посвящен и кто не посвящен?» – думал себе Хвалынцев, стараясь разгадать свой вопрос по лицам присутствующих. «Капитан, кажется, знает. Эти чиновники – Бог весть: может, и да, а может, и нет; а вернее, что нет. Но Колтышко… Неужели Колтышко ни во что не посвящен?.. Этого быть не может!.. Одна физиономия – одна физиономия-то чего стоит!.. Но где же тут правда и где мистификация? И кто кого, наконец, надувает?»
Эти соображения студента были прерваны шорохом и легким свистом шелкового женского платья. Хвалынцев поднял глаза – на пороге стояла женщина, вся в черном. Колтышко предупредительно бросился к ней навстречу и, с видом глубокой почтительности, подал руку.
«Фу! какая красавица!» – невольно помыслил Хвалынцев при первом взгляде на эту женщину. И точно: в ней была бездна красивого. Ее невозможно было назвать красавицей в строгом смысле этого слова, но в ней эффектно сверкало нечто поражающее, сценическое, декоративное. Высокий рост, необыкновенно соразмерная, гармоническая стройность; упругость и гибкость всех членов и сильного стана; лицо, полное игры и жизни, с таким румянцем и таким цветом, который явно говорил, что в этом организме много сил, много крови и что организм этот создан не севером, а развился под более благодатным солнцем: блестящие карие глаза под энергически очерченными бровями и совершенно пепельные, роскошные волосы – все это, в соединении с необыкновенно симпатичной улыбкой и чисто славянским типом лица, делало эту женщину не то что красавицей, но лучше, поразительнее красавицы: оно отличало ее чем-то особым и говорило про фанатическую энергию характера, про физическую мощь и в то же время – сколь ни редко такое сочетание – про тонкую и старую аристократическую породу.
– Графиня Маржецкая… – громко назвал ее своим гостям Иосиф Колтышко.
«Графиня Маржецкая… Опять-таки знакомая фамилия!» – припомнил себе студент. «Устинов писал про какого-то сосланного графа Маржецкого».
Колтышко отдельно представил ей Хвалынцева. С капитаном Чарыковским, Лесницким и одним из чиновников она, по-видимому, была уже раньше знакома.
Гости отправились в столовую. Обед был очень оживлен; бойкая, искристая веселость красивой графини невольно электризовала каждого. Хвалынцев сидел рядом с нею, что подавало ей повод очень часто обращаться к нему с разговором и за маленькими услугами, вроде просьбы налить стакан воды или рюмку вина. В обращении ее было столько милого, привлекательного и такое отсутствие принужденности, что Хвалынцев как-то сразу почувствовал себя, относительно, ее знакомым. Разговор все время шел то по-русски, то по-французски и только вскользь было обронено кое-кем несколько польских фраз, непонятных для Хвалынцева. Графиня, впрочем, показывала вид, будто плохо изъясняется по-русски, и потому в устах ее раздавался почти исключительно бойкий и изящный французский язык.
При первом ее появлении Хвалынцев ждал, что сию минуту выйдет и хозяйка дома, но таковая не вышла, да и вся обстановка этой прекрасной квартиры явно показывала, что Иосиф Игнатьевич Колтышко – человек холостой и одинокий. Вследствие этого студенту показалось несколько странным появление аристократической особы за обедом холостого общества. «Или эта графиня не графиня, или хоть и графиня, но какая-нибудь куртизанка и авантюристка, или… или уж я и не знаю что!» – подумал себе Хвалынцев. «Но нет, и на куртизанку не похожа: держит себя хоть и развязно, но в высшей степени прилично и с таким тактом, и потом эта глубокая почтительность, с которою к ней все относятся, – да что же наконец все это такое?!» За обедом она кстати упомянула в разговоре несколько имен известных аристократических домов, с которыми, по-видимому, у нее было знакомство и свои отношения, и это еще более заставило студента отдалиться от предположения, что его соседка – светская куртизанка.
После обеда, ведя ее в гостиную, Колтышко наклонился к ней и тихо спросил:
– Ну, как вы находите этого юношу?
– Ничего, он мне нравится, – с легкой, но очень милой гримаской ответила она.
– Желаете заняться?
– Отчего же; пожалуй.
– Ну, в таком случае мы заранее поздравляем себя с полным успехом. Но имейте в виду – главное то, чтó я уж объяснил вам.
– Ах, это соперницу? – улыбнулась она. – Надеюсь не остаться побежденною.
И она все время была очень внимательна к Хвалынцеву, что до известной степени весьма льстило его юному самолюбию. Вечером же, часов около девяти, переговорив о чем-то с Лесницким и отправив его распорядиться насчет экипажа, графиня совершенно неожиданно обратилась к студенту с просьбой проводить ее домой. Тот немножко смешался от неожиданности такого вызова, но поспешил ответить ей полною готовностью.
Они отправились в наемной карете. У Владимирской графиня указала остановиться пред подъездом одного большого дома. Хвалынцев повел ее в третий этаж по освещенной лестнице и остановился перед дверью, с медною доской, на которой было написано: «графиня Цезарина Фердинандовна Маржецкая».
– Войдите, – предложила она ему, когда человек изнутри отворил дверь.
Хвалынцев не почел возможным отказаться.
– Я попрошу вас подождать минуту. Я только переоденусь, – сказала она в гостиной и, шумя своим черным шлейфом, скрылась за тяжелой портьерой боковой двери.
Хвалынцев присел к столу, заваленному роскошными кипсеками и альбомами. Обстановка этой гостиной была изящна и роскошна. Прошло минут десять, когда из-за портьеры показалась очень приличная камеристка и сказала Хвалынцеву, что графиня просит его к себе. Он пошел вслед за девушкой, которая привела его в будуар.
– Вы меня извините, что я принимаю вас совсем по-домашнему, – сказала Маржецкая, впервые протягивая ему руку. – Я ужасно устала… поэтому мне так хочется побаловать себя!..
И, закинув над головою руки, она с какою-то тигриной грацией и в то же время улыбаясь детски светлой, беспечной улыбкой, потянулась в широком покойном кресле.
– Впрочем, я люблю баловать себя только тогда, когда это возможно, – продолжала она, – а то я могу совершенно спокойно обходиться и без малейшего комфорта. Для меня это все равно.
Хвалынцев вопросительно поглядел на нее.
– Да, мне приходилось на моем веку скакать на перекладных, ночевать в литовской курной хате, обедать в жидовской корчме, зябнуть на морозе или мокнуть под дождем на лосиной охоте, и такие резкие перемены нимало не беспокоят. Я переношу их как добрый хлопец. Нервы у меня сильные.
После нескольких минут разговора Хвалынцев взялся за фуражку и поднялся с места.
– Куда же вы? – вскинула она на него глаза, с некоторым удивлением.
– Вы устали, да и мне домой пора, – сказал он.
– Домой?.. Но вы дома!
Хвалынцев выразил явное недоумение на эту последнюю фразу.
– Ну да, вы дома, – подтвердила Маржецкая. – Вы остаетесь здесь, у меня, в моей квартире.
Недоумение студента достигло высшего предела. Он не знал, как понять ему все это, и молча, одним недоумевающим взглядом, устремленным на свою собеседницу, ждал от нее дальнейших объяснений.
– Разве там ничего вам не сказали? – спросила она.
– Ничего. И я ровно ничего не понимаю.
– Оставаться там далее для вас было бы неудобно, – продолжала Маржецкая, – здесь же вас уже никто не найдет: у меня вы вполне безопасны. Вы проживете здесь столько, сколько потребуют обстоятельства.
Хвалынцев хотел было сделать какое-то возражение.
– Вы меня ничем не стесните и не можете стеснить, – торопливо предупредила она, как бы предугадав, в чем будет состоять это возражение. – Я уже распорядилась: для вас сейчас будет готова комната, рядом с комнатой моего сына.
– Но согласитесь, мое проживание у вас может казаться весьма странным… Оно не может же остаться тайною для всех. Ваша прислуга… наконец, кто-нибудь из ваших знакомых как и чем они могут объяснить себе мое странное присутствие в вашем доме?
– Моя прислуга – лакей и девушка знают меня с детства и очень мне преданы. Они такие же поляки, как и я, и потому опасаться их нечего! – успокоила графиня; – а что касается моих знакомых, то хотя бы кто из них и узнал как-нибудь, – так что ж? У меня есть пятилетний сын, которому нужен уже гувернер. Для моих знакомых вы гувернер моего сына.
– Виноват, но – позвольте еще один вопрос? – слегка поклонился Хвалынцев. – Почему мое присутствие там найдено неудобным?
Цезарина пожала плечами.
– С фактическою точностью я не могу ответить вам на это: я не знаю, – сказала она; – но вообще, типография слишком открытое место; туда может прийти всякий, хоть под предлогом заказов; наконец, наборщики, рабочие – ведь за каждого из них нельзя поручиться; и между ними легко могут быть подкупленные, шпионы… Вот почему, полагаю, вам неудобно было оставаться там. А здесь, у меня вы безопаснее, чем где-либо. Никому ничего и в голову не придет, и у меня уж никак вас не отыщут!
Хвалынцев остался пред нею, стоя с фуражкой в руках, в заметном смущении.
– Ну, о чем же вы так задумались? – несколько задорно и несколько насмешливо улыбнулась она.
Студент еще более смутился.
– Признаться откровенно, меня озадачивает одно, – заговорил он, наконец. – Меня все удивляет, чем и за что заслужил я такое внимание к моей особе со стороны людей или мало, или вовсе мне незнакомых?.. Вот, хоть бы, например, и вы, графиня…
Она опять с улыбкой пожала плечами.
– Чем заслужили вы это, мне тоже неизвестно, – отвечала она. – Я знаю только одно: меня просили укрыть вас на время от розысков полиции, и я – как видите – в точности исполняю это, зная, что этим я оказываю маленькую услугу честному юноше. Вот все, что я знаю.
Вошла камеристка и доложила, что комната готова. Графиня предложила Хвалынцеву вместе осмотреть ее. Комната была и просторна и удобна. Диван, долженствовавший служить постелью, был застлан свежим прекрасным бельем и заставлен ширмами. Все это было приготовлено в какие-нибудь полчаса. Графиня Маржецкая, одна с сыном и с двумя человеками прислуги, занимала очень просторную и очень удобно расположенную квартиру, в которой все говорило о довольстве и изобилии материальных средств молодой хозяйки.
– Я вас прошу нимало не стесняться! – в высшей степени любезно предложила она; – хотите остаться здесь – располагайтесь, как у себя дома, а нет – пойдемте ко мне, посидим, поболтаем еще. Я с вами тоже не буду церемониться, и когда захочу спать, то так и скажу вам, тогда вы меня оставите.
Хвалынцев просидел и проболтал весь остаток вечера. Она с живым участием расспрашивала его про студентскую историю, про причины и весь ход ее; сама, в свою очередь, рассказывала про Варшаву, про Польшу, про страдания своей отчизны и даже про свои семейные обстоятельства, из которых Хвалынцев узнал, что муж ее, по одному дикому произволу русских властей, выслан под присмотр полиции, на житье в Славнобубенск, что она нарочно приехала в Петербург хлопотать за него, за облегчение его печальной участи, и живет уже здесь несколько месяцев. Хвалынцев сообщил ей о ее муже те небольшие сведения, которые были ему известны из письма Устинова, и графиня, казалось, с такою радостью, с таким теплым участием и интересом выслушала его сообщения, что можно было подумать, будто она из Славнобубенска не получает никаких известий. Она, впрочем, и жаловалась ему на крайнюю строгость полицейского внимания к письмам ее мужа. Было уже очень поздно, когда расстались они совершенно добрыми друзьями, и придя в свою комнату, студент застал на столе у себя газеты, сигары, папиросы и легкий ужин с бутылкой вина. Все это являло еще один новый знак предупредительного внимания к его особе.
Он долго не мог уснуть. Весь этот водоворот событий и приключений, в который попал он за последнее время, кружил ему голову. Эти студентские демонстрации, эти уличные столкновения с войском, это анонимное письмо с извещением о нелепой клевете, Стрешнева, Свитка, Колтышко, контрполиция, опека, жандармы, какое-то таинственное общество и, наконец, эта графиня Цезарина Маржецкая и неожиданный приют в ее доме – что же все это такое? И какими судьбами он-то, почти помимо своей воли, далее помимо своего понимания, пришел в столкновение со всем этим таинственно-загадочным миром? «Графиня Маржецкая… Как? Неужели и она, – думал Хвалынцев; – она, с ее связями, с ее положением, неужели и она тоже принадлежит к „этому обществу“!.. А может, и не одна она… Может, их много тут таких, как она…» Его подавляло ясное почти до ощущения сознание какой-то большой и таинственной силы, в область которой судьба толкнула его и которая теперь всецело тяготеет над ним. Но этот гнет не казался ему тягостным: он не хотел освободиться из-под него; напротив, его манило отдаться течению всех этих странных обстоятельств, проникнуть далее и далее в глубь и сущность дела, увидеть, понять, разгадать, чтó это за мир и чтó за сила, и, быть может, сознательно отдаться ей… И среди всей этой вереницы мыслей мелькал сверкающий такою оригинальною красотою образ графини Цезарины, которая в эту самую минуту здесь, рядом, под одною кровлею, такая спокойная, простая, сильная и вместе с тем загадочная… И этот образ подавлял и затмевал своим блеском тихий облик другой женщины. Хвалынцеву было это даже досадно, он усиленно гнал его из своего воображения; но как-то невольно, независимо от него самого, этот блистательный образ врывался в область его дум и поминутно прерывал собою нить его размышлений…







