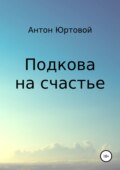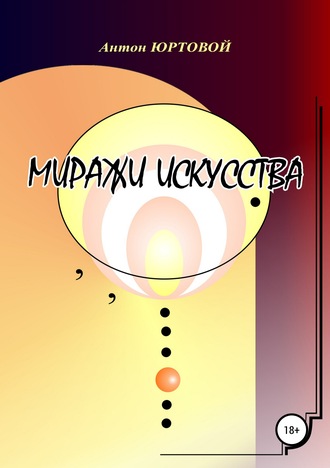
Антон Юртовой
Миражи искусства
Из энциклопедии грибной поры
I. БАБУШКИНА ПОЛЯНА
У каждой грибной поры свои особенности. Бывают такие сезоны, когда съедобные грибы практически не появляются. Нет их и всё. Бывает наоборот – изобилие по всему возможному для местности ассортименту. Мне по душе среднее, когда грибов много, но появляться перед желающими их припасти они особо не спешат. Нередко остаются вообще необнаруженными. Поиск богатства в этом случае по-настоящему увлекателен, радостен, и если ты, как говорится, на коне, знаешь некоторые секреты, твоим удачам не будет конца. И соответственно с каждым приближением к лесу или к посадкам твоя душа уже заранее преисполнена уверенности, что без желанных деликатесных приобретений ты домой ни в коем случае не воротишься, а, значит, сам ты везуч как бесстрастный земной шар и счастлив как рассеянный Гименей.
По части того, как сокровища отыскиваются, приёмов существует великое множество. Нам иные даются из опыта, иные из упорства, из интереса, из амбиций перед кем-либо и т. д. Несколько лет ушло у меня на то, чтобы раз и навсегда определить место, откуда без отменных, самых лучших грибов я бы не мог возвратиться к домашнему порогу, если бы даже хотел. Тут я, конечно, имею в виду грибы, называемые белыми, которые точнее называть боровиками. В мякише-то они, естественно, белые, а шляпками – далеко не всегда.
Истинные красавцы имеют шляпки бордово-оранжевые, смуглистые, с преобладанием насыщенного, тёмного цвета. В этом случае цвет указывает на то, что особи не склонны ни от кого прятаться и что им просто нравится доставлять удовольствие собою кому-то из нас. Растут они на равнинных или пологих местечках, хорошо видны в траве, а если занимают территории под деревьями, то, бывает, присутствуют там на бестравье. Целые обширные поляны под ними!
Вы такое видели?
Это что-то из тех шедевров, какие создаются природой, когда она стремится выразить себя в максимальной концентрации прекрасного.
К одному из таких шедевров мне и пришлось идти долгие годы. Могло ли быть по-другому? Не знаю. Не уверен. Не оттого, что исключаю моментальную, разовую удачу, а потому, что в таком виде удача хоть и приятна, но за нею не водится продолжения, а, значит, и того самого грибного счастья. Побыло и ушло. Тут же наблюдалось и наблюдается до сих пор нечто совершенно иное.
Коротко предыстория такова. Один мой знакомый однажды заманил меня в свою родную деревню, естественно – по грибы. Лес там господствует и подступает близко. Абориген наобещал белых груздей. Очень он переживал, что сорвалось. Попадались подгруздки, белянки да и то – подгнившие. В таком же плачевном состоянии пребывали рыжики, подберёзовики, подосиновики, лисички. И то: погода тянулась жаркая, сухая. Короче, кузова остались пустыми. После ещё бывал я там несколько раз, однако наборы не восхищали. До тех пор, пока я не решил от тех расхваленных лесов не ожидать ничего. Кроме, разумеется, того, чем они могут радовать сами по себе, своим уютом, пышностью, загадочностью, прохладой. Взял как-то своё семейство, включая маленьких внуков – и туда же поехали. Просто поотдыхать. На полянах под старыми соснами всем было прикольно, весело. Не обошлось и без прогулок за грибами. Найдено было так себе. Завожу машину, чтобы уехать. И вижу поверх капота: в густой низкой траве белеет. Стоп. Ищем все. Находим белянок. Много, но червивые. А всех уже одолел азарт (наподобие спортивной злости). Пошли в стороны опять. И не зря. Стас, внук, опередил всех радостным кличем. То были белые с белыми шляпками, а ещё подберёзовики. В отменном возрасте и в отменном же состоянии. Мало, однако.
А что-то необычайное чувствовалось уже совсем близко. Исторические шаги первой сделала супруга. Ей захотелось посмотреть ещё не пройденные сплошные сосновые посадки на лёгком склоне через дорогу, уходящие рядами поперёк от неё, в сторону ближайшей стены девственного леса. И буквально в десятках метрах от машины ей предстало это. Белые с тёмносмуглыми, бронзовеющими шляпками – боровики! Очень много и самой разной величины. Ядрёные, свежие, непорочные в телах. Глянешь, а ими как будто застланы гребни между рядами уже заметно подросших деревьев. А ещё столько же в лощинках, у комелей сосёнок. Тут им уютно, дышится хорошо, ласковое солнце в точной потребности греет их аппетитные башенки. Внучка Наташа, на прямой от меня совсем недалеко, зовёт меня: «Деда, ты где?» «Да вот он я», – говорю. «Не ви-и-жу!» – и смеётся. Это её шутка: мол, увидеть меня ей мешает стена грибов.
Территория массива оказалась обширной, гектара два, если не больше. Набирай, сколько увезёшь. Но даже не это самое любопытное. Место никем не хожено! Одна лесная дорога, та, что вот здесь, проходит параллельно линии электропередачи и чуть поодаль соединяется с другой, пролегающей повдоль напротив, по другому краю посадок. Говоря иначе, массив окольцован проездами. По ним из села изредка наезжает трактор, чтобы утащить из лесной глубины очередной, приготовленный лесорубами хлыст. По этим же направлениям пастухи прогоняют к урочью и обратно стадо местных бурёнок, предоставляя животным для обеденного отдыха отдельную уютную опушку и будто вовсе ничего, как и многие, кто появляется в этой части приселья, не ведая о Бабушкиной поляне, до которой как улицу перейти.
Да, здесь я не оговорился. Так с той поры и зовётся нами тот чудный грибообильный массив. По статусу его открывательницы. Не в обиду всем тамошним жителям. Много раз, проезжая через село за очередной пудовой мерой боровиков, приходилось уже на ранних утренних зорях заставать их занятыми в их непрекращаемых трудах то ли на своих подворьях, то ли на объектах или полях местных работодателей. Поговоришь с иными: тоже любят грибы. Но по-особенному, по-деревенски. Рыжики, например. Их собрал, посыпал солью, и ешь в этот же день. Приоритетны белый груздь, опята. Они – ближе к осени, значит, и к зиме. Можно определить в запас, и обработка совсем проста. Боровик же сам по себе требует исключительного уважения граждан. Как попало к его заготовке не подойдёшь, да ещё приходится и временем дорожить. Он зовёт, когда жатва, овощи созревают, картошка. Получается – не до царского. Только изредка сельчане позволяют себе наведаться в лес как грибники. По дороге, если вижу таких, всегда предлагаю место в машине. Охотно расскажут, где и чего находят. К тому, что кто-то зарится на самое изысканное, почти равнодушны. И, выходя из машины, идут в свои, давно и хорошо знакомые боры и на поляны, по своим тропам.
А наша поляна с увесистыми смуглыми боровиками так и остаётся в нашем исключительном и долгом ведении, из местных никем не тронутая. В негрибные годы, конечно, и на ней похуже. Но чтобы совсем не оказалось желанного, – такое изо всех поездок припоминается как очень большая редкость. Ездим, предварительно заглянув на продовольственный базар. Если на нём покажется хотя бы один белый, то, значит, поляна уже скучает, ждёт…
II. ПО ВОЛЧЬЕЙ ДОРОГЕ
Это было едва ли не самое грибное место, в каких мне довелось бывать. У меня к нему особое чувство. Хвалиться тем, что я там нашёл и привёз домой много отменных белых, то есть – боровиков, не считаю нужным, поскольку этому сопутствовало нечто более важное и любопытное.
С трассы я завернул почти спонтанно, о грибах во время езды вовсе не думая. Возвращался из командировки; позади был нелёгкий день скучной и нудной работы с посещениями каких-то хозяйств, учреждений, встреч с разными людьми. Трасса всегда как-то освежает от прежнего, но уже через полсотни километров замечаешь, как немеют ноги и руки, пропадают всякие мысли, усталая голова, не спросясь, готовится ко сну. В такие минуты лучше тормознуть, проветриться. Что я и сделал. Открыл дверцу, вышел. Передо мной как на ладони – село. Видна вся его единственная улица, уходящая чуть наверх по холму. В разных местах к ней подступают колки, переходящие в обложной смешанный лес.
Хотя уже вечерело, побороть искушение не удалось. Скоро я уже расспрашивал двух сидевших у изгороди перед домом пожилых женщин, в какую сторону мне лучше прогуляться за дарами. «Вон там, за пашней, гляди, посадки. Все туда ходим. Можем и на месте показать». И минут через пятнадцать мы, трое, уже входим под ровные ряды мощных молодых берёз, окружённых непрошеным редким подлеском.
Теперь каждый сам по себе. Женщины отдаляются, переговариваясь между собой. Мне они сказали, что ждать их не нужно, вернутся домой без машины, пешком, дорога им не в тягость. Вот и славно. В лесу, особенно когда стоит пора бабьего лета, когда солнце ещё жаркое и нет затяжных дождей, у любого появляется некий светлый азарт; происходит моментальное очищение чувственности; особенно остро воспринимаешь то, что видишь перед собой. Как раз всё это было в наличии и теперь. Конечно, неплохо бы ещё находить искомое, за чем сюда являешься. Походив неподалёку от края массива, я, однако, вынужден был признать, что здесь не то, на что я мог бы рассчитывать. Не тот плацдарм.
Снова сажусь за руль. Еду повдоль леса, по неровной, почти наполовину запаханной дороге. А вот и проём. Дорога уже с рытвинами, ведёт куда-то вглубь, но приятна тем, что по сторонам от неё много простора – большие и малые поляны с невысокой травой. И лес рядом негустой, какой-то легкий, располагающий, свой. От дороги отходят плавные волны балок. Деревья разбросаны и открывают умеренную ближнюю перспективу. Сердце уже трепещет от предвкушения удачи. Действительно, едва отойдя от машины, нахожу первый белый. Крепыш-молодняк. Свежий, чистый. За ним показываются другие. И только теперь я замечаю, что солнце уже зашло и подступает темень. Обычно в такой момент сбор грибов прекращают, спешат закончить дело. Но я только разохотился; а грибы – вот они, бери, срезай.
Поломаем традицию несмекалистых!
Нахожу в боковине фонарик на батарейках. Светит не очень, но сносно. И пошла работа. Ни ветерка. Тепло. Местность предстаёт какой-то умиротворённой, пахучей, ласковой, щедрой. А в довершение показывается луна! Гриб-одиночку или целую стайку замечаешь как-то совсем просто. Не мешают ни редкие хилые островки подлеска, ни уже по-осеннему подсохшие и легко, податливо шелестящие пучки травяных стеблей. Башенки, будто поддразнивая, слегка просветятся шляпками, и – ничего больше уже не замечаешь; кажется, не нужна и фонарная подсветка. Добычу меряю на ведро, которое постоянно беру в рейсы. Уже пять, шесть… Бог ты мой! А я почти не схожу с места. Машина всего в каких-то двухстах шагах. Касаешься очередного гриба, чувствуешь его тугую покорную плоть и растёшь душой, уверенностью, радостью. За себя. За такую роскошь ранней наступающей ночи. За настоящее, великое везение.
Заполнен багажник. На полу расстилаю рабочий халат и всё, что можно расстелить под добычу. Больше некуда. Баста. В груди бьётся волнение. Блаженный срок. Повторится ли когда-нибудь подобное?
Забрался я довольно далеко. Проезжая на обратном пути селом, вновь увидел моих проводниц. Они уже давно вернулись, собрав свеженьких на раз. Отдыхали на той же скамье. Я поделился с ними своей удачей и своим приёмом. Ответил на вопрос, где собирал. Чуть ли не в один голос женщины ахнули:
– Так ведь то – волчья дорога. Только месяц назад стая там загубила заблудшую корову. Соседей наших, вон – того дома. И здешнего лесника звери однажды встретили, еле отбился. Да там от серых и всегда какие-нибудь неприятности. Ну, парень, тебе, считай, повезло не только с грибами. Нас туда калачом не заманишь. Вот не успели предупредить…
Я распрощался.
На трассе я всё ещё был во власти впечатлений от волшебства, в котором я оставил ночной лес. Находясь там, мог ли я думать о чём-то, кроме огромной к нему благодарности, благоговения перед ним? Думать об опасности? Наверное, должен бы. О том, что, возможно, где-то вблизи пробирается к своей цели злобная стая, не пощадившая бы ничего живого.
Знай я об этом, вряд ли бы коснулось меня очарование незабываемой ранней осенней ночи в лесу. Не коснулись бы такой восторг и такое удовольствие – оттого, что я в одиночку, не ощущая страха и даже вовсе забыв о нём, как бы восходил над убаюкивавшим меня ландшафтом – притихшим, умиротворённым, застывшим под ровным искрящимся небесным сиянием. Светом, пролитым к самой земле. Укреплявшимся не только луной, но ещё и фонариком на батарейках…
Интеллектуальные посмешки
I. РУКОПИСЬ ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ
Изо всех дискуссий, где обсуждаются новые и ещё не опубликованные художественные произведения, наиболее острыми и откровенными, а, значит, и наиболее полезными бывают те, что имеют место в литературных объединениях. Там, где к объекту литературы, к художественной словесности, к слову и языку всегда сохраняется трепетное, искреннее и даже какое-то возвышенное, романтическое отношение. Оно и понятно: в объединениях встречаются не профессионалы, а любители; на очередное заседание можно придти каждому, кто желает, даже с улицы, не будучи известным хоть кому-то из собирающихся. И с возрастным «цензом» тут очень просто: устанавливать его не считается нужным. На равных все – от подростков до глубоких старцев.
В большинстве у таких кружков нет какого-либо официального покровительства. Это сходки свободных и независимых людей. Имеющие наклонности к сочинительству посещают заседания с надеждой войти в литературу, не затрачивая многих лет на её постижение по спецпрограммам и притом максимально честным путём, не прибегая к протекциям, лишь через предметы личного художественного творчества. К моменту первого появления автора на пороге объединения написанных вещей у него может быть не обязательно много, нередко – всего-то одна-единственная. Причём, как правило, далеко не лучшего качества. Но требования при оценке любого текста неизменно высоки для всех, в том числе и новичков.
Духом полнейшей непредвзятости бывают насыщены уже так называемые вводные выступления участников заседаний, когда оглашаются сведения об авторе и о тех произведениях, которые он принёс с собой. Уже в такие минуты ему доводится слышать о своих творениях жёсткое, рубящее и обидное, чего он может совсем не ждать. Дальше всё развивается от этого начала. И не каждый способен выдержать подобный экзамен, не сорваться и не уйти, сердито хлопнув дверью.
Как раз это вполне устраивает остальных!
Они вне сомнений насчёт того, что «избиваемый» или «выпоротый», если он не ушёл сразу и даже если ушёл, уже очень скоро сам признает критику справедливой, и, когда в его присутствии в разбор поставят кого-то другого, будет столь же требовательным и строгим.
Надо ещё сказать, что атмосфера свободности, интеллектуальной раскованности и независимых дискуссионных оценок – особенности, которыми литературные объединения известны не только сегодня; так было и раньше, в те уже заметно отдалившиеся времена, когда ввиду идеологических запретов искренне, прямо и сполна выражать личные мнения людям удавалось, пожалуй, лишь на квартирных кухнях. Справедливость требует отдать должное властям той суровой и дрянной эпохи: они не препятствовали работе любительских литкружков и, хотя хорошо и много знали о них от подсылаемых тайных информаторов, но гонений на неугодных не устраивали. Мне, по крайней мере, о чём-то подобном слышать не приходилось. Хранителям идеологии и их приспешникам хватало неустанной опеки над литераторами настоящими, профессионалами, членами государственного писательского союза, а также недопущенными в него или выставленными из него, – если их замечали в непозволительном инакомыслии.
И какой же человек, обожающий литературу и ощутивший себя свободным в дискуссиях да ещё и в некотором смысле – талантливым, не горазд активно, в меру своих амбиций и темперамента, выразиться не только в художественном слове, но и в юморе или в розыгрыше?
Зуд искушения затрагивает, наверное, каждого, состоящего в кружке. И потому ирония в отношениях между любителями иногда просто плещет через край. Разумеется, больше всего за пределами заседаний, – не в той серьёзной обстановке, когда обсуждаются достоинства и недостатки свежих текстов и где каждому есть чего прибавить в собственный опыт. Однако нередко она проявляется и здесь.
Поскольку наибольший отрезок моей жизни приходился на ту, прошлую эпоху, любопытное по этой части я приведу как раз из того периода.
Как-то в объединении «Океан», которым я руководил, целое заседание ушло на разбор отрывка из стихотворения Каролины Павловой. Его на потеху выдал за своё творчество новичок из портовых грузчиков, филолог по образованию, до устройства в порт работавший преподавателем русской литературы в каком-то из советских вузов и уволенный оттуда как неблагонадёжный. Сколько упрёков и издёвок просыпалось и на отрывок, и в особенности – на отдельные его строки!
Полный разнос.
Выслушав острые замечания и наскоки, лжеавтор не преминул, конечно, прикинуться обиженным и оскорблённым. Замысел же у него состоял в розыгрыше с максимальным эффектом. И это ему удалось. Во второй раз в кружок он заглянул только месяца через три, и за всё время его отсутствия мы все так и не разгадали его уловки.
Не то что услышанных от него строк, но и вообще стихотворений Каролины Павловой на тот момент, как оказалось, никто из нас не читал!
Столь же потрясающе неуклюжим выдался результат обсуждения подборки стихов одного уже довольно маститого в той поре московского поэта. Он явился в наш кружок под вымышленным именем. Стихов принёс десятка с полтора. Неплохие. Находясь в творческой поездке и изрядно промотавшись, поэт нуждался в деньгах и уже изданные свои вещи рассовывал по редакциям, попадавшимся у него на пути. Намеревался поступить так и в тот раз. «Океан», замечу, действовал при редакции серенькой провинциальной газетёнки. Её касса – в ближайшем кабинете по коридору.
Всё проходило гладко, пока обсуждавшие не наткнулись на стихотворение о девочке-малышке, игравшей мячом. «Мячом» было написано на листке.
Один из присутствующих усомнился: разве так – верно? Не лучше ли – «в мяч»? Автора это сразу вывело из равновесия, мол, вы что, друзья, – не того? С оппонентом у него возникла словесная перепалка. Оппонент говорил, что поскольку играют в футбол, волейбол, теннис и бейсбол то, значит, лучше всё-таки – «в мяч». Ну и так далее. То есть пустился в розыгрыш. Ему нашлась поддержка.
Поэт же завёлся настолько, что позволил для данного случая непозволительное. «Да вы хоть знаете, кто я?» – спросил он, колюче оглядывая присутствующих. В голосе у него чувствовалось что-то от угрозы, что особенно умеют изображать люди задиристые и бестактные, в частности, бывшие зэки. «Ну, так скажи, кто же ты», – подступились к нему. Меня, отвечает он, во всех столичных журналах печатают. И называет свои настоящие имя и фамилию. На это кто-то из наседавших так это спокойно говорит: «Вот свои опусы и неси в те журналы».
Мы не успели опомниться, как поэт сгрёб со стола принесённую им подборку и выбежал за дверь.
А ведь зря обидели человека. В стихотворении, которое в журнальном виде мы разыскали вскоре после заседания, значилось: «мячом». Это поскольку девочка была в стихотворении героиней одна и она «играла» или «игралась». Будь там два действующих лица или ещё больше, можно бы предпочесть, кажется, и «в мяч», как предусмотрено словарём, или как-нибудь ещё. Над объединением зависло марево густого стыда, и, наверное, это ещё сказано мягко. Единственное оправдание устроенному судилищу состояло в раскрывшемся неэтичном предложении поэтом уже напечатанных стихов. Но – этика этикой, а мы-то разбирались не с ней, а с качеством стихотворений, с их, так сказать, наличием, формой и содержанием.
Современную столичную поэзию нам бы тогда не мешало знать лучше, быть осведомлённее в ней. Иными словами, следовало разобраться с этикой в отношении самих себя. Ведь розыгрыш уводил от серьёзной части нашей работы.
Безобиднее выглядели случаи с так называемым голым или обнажённым юмором, который заставлял делать выводы сам собой. Они, такие выводы, значили порой больше иных шумных обсуждений. Собственно, о таком повороте дела я и спешу поведать.
С Борисом Витриком, хирургом, я был знаком как сосед: мы в один день поселились в новом, только что выстроенном этажном жилом доме. Быстро подружились. Он был примерно одних лет со мной, как профессионал от медицины резко выделялся тем, что говорил о ней без уклончивостей, прямо и правдиво. Называл десятки случаев, когда операции, которые он делал, помнились ему не только из-за их сложности; там ещё присутствовали яркие элементы комического или нелепого, что привносилось не болезнями пациентов, а их курьезными поступками или же нескладными отношениями, в которых они находились с окружавшими другими людьми.
Такие случаи, как видно, по-настоящему забавляли Бориса, и юмор по этому поводу был у него широким, открытым и чистоплотным. Об отдельных эпизодах из своей практики он мог рассказывать много раз, неизменно варьируя деталировку и вызывая смех у слушателей.
В частности, таким, с его слов, являлся эпизод, когда пациенту пришлось делать операцию по удалению кочерги из нехорошего места его тела. Той самой кочерги, которою до наших дней подправляют огниво и посуду в русских печах по деревням и в пригородах. Взял вот кто-то и в гневе или в отместку за что-то вогнал это кухонное орудие не по назначению.
Смешное состояло не в самой операции, а в том, что пациент, живший где-то в предместье и не имевший возможности вызвать скорую, такси или хотя бы найти попутную, несколько километров до больницы добирался пешком, со злополучной кочергой в самом себе, пройдя по городу как бы усевшись на ней, в том числе и по наиболее людным улицам, когда по ним после работы толпами валил народ, глазевший на странного пострадавшего…
Своей профессией врача в целом Борис дорожил и, будучи в то время специалистом пока лишь начинающим, кроме отвлечённой моральной составляющей, очень высоко ставил в ней навыки, лично приобретённый опыт. По тому, с каким удовлетворением он говорил иногда мне о некоторых проведённых им операциях, я мог судить о его быстром и солидном профессиональном росте на избранной стезе и вместе с ним радоваться этому. Оптимист по натуре, Борис, как и многие в нашем поколении, страстно любил анекдоты. Знал их уйму и рассказывал прямо-таки мастерски. В шутку говорил, что анекдоты он собирает и записывает, есть их у него уже пять тысяч, но все он не помнит, а половину записей потерял.
Такой вот человек. Действительное у него было неотделимо от энтузиазма и от ироничного восприятия.
Редкая в среде врачей-практиков, эта его особенность вплотную приблизила его и к необъятному таинству литературного творчества. Он писал стихи и рассказы, но распознал в себе эту страсть уже с запозданием, будучи взрослым и семейным. Соответственно, результаты были здесь невелики. В литобъединении замечали, как это его нервирует, но на вид он держался твёрдо и смело, даже, как и всегда, приподнято или весело, надеялся, что его неудачам быть недолго. На каком-то этапе настроенность на успех постепенно превращалась у него в подобие самоуверенности. Со своими текстами Борис начал навязываться любому, кого знал, побуждая тех давать о сочинениях положительные или даже похвальные отзывы. А затем уже почти впрямую пытался отстоять полученные предварительные оценки на заседаниях «Океана».
Он, казалось, не обращал тогда внимания на то, что имело место в виде угодливости публики перед его серьёзным эскулаповым статусом. В эту публику, естественно, входили многие его пациенты. Кружковцам пришлось подправить его, и он, не осердясь, принял строгие, но справедливые замечания в свой адрес.
Отмечу при этом своеобразную манеру Борисова творчества: он любил эксперименты, но не писал ничего, что исходило бы от хорошо знакомой для него медицинской темы, в которой по неопытности авторам часто не удаётся избегать употребления сложной врачебной терминологии и где в отличие, скажем, от Чехова или Вересаева, многие даже известные профессиональные литераторы говорят только, собственно, о том, что есть лишь тема сама по себе, а – не о человеке. Трафаретам хирург предпочитал поиск сюжетных линий, пусть и не всегда приемлемых, но выбранных из расчёта, что, по крайней мере, тут можно чем-нибудь удивить, иногда совершенно простым. И стиль у него был простым: короткие фразы, вдумчивый, яркий синтаксис.
Коллеги по увлечению охотно работали с подобными текстами и, помнится, даже иногда восхищались ими и откровенно завидовали автору. Удачи, правда, не приходили к нему часто.
Кому он был обязан одобрением его рассказа о чаятах, никто в любительском кружке понятия не имел, но когда дошла очередь до обсуждения тонкостей этого несообразного этюда, Борис, кажется, готов был считать его уже чуть ли не шедевром. Для своих птенцов чайка устроила гнездо на мачте морского торгового судна, и там они взрослели и попадали во всякие передряги, двигаясь по маршрутам, которыми судно шло в течение некороткого срока, пока птенцы мужали. Мать же чаят моталась над морем, лишь изредка подлетая к деткам, чтобы покормить их пойманными в воде рыбками. Таким было содержание текста.
Любопытного здесь было много, особенно по части передряг – не только с чаятами, а и с их матерью и с членами судового экипажа. Однако сразу же возникли и сомнения. Гнездо на мачте? Не высоковато ли? Да и вправду ли? Слыхано ли о таком? И как птенцам разминаться, пробовать летать и возвращаться на место? А – где чаюн, или как там его, то есть – отец чаят? С ответами на вопросы у Бориса получалось неважно, он почти ничего не знал о гнездовании чаек, об их привычках, предпочтениях.
И сюжет, и рассказ в целом забраковали. Я был в числе поставивших суровую точку.
Обычно после заседаний мы с Борисом добирались домой вместе. На этот раз выходило иначе. Стушёванный автор не дожидался меня, а когда я вышел за ним на автобусную остановку и стал с ним рядом, чтобы войти в одну дверь, он отступил ко второму входу в салон. Ладно. Приехав, молча зашагали в направлении к дому. Моё присутствие рядом попутчик переносил, как я понимал, с огромным трудом.
– А не зайти ли?.. – попробовал я сбить с него зелёную досаду и указал на ближайший продуктовый магазин. Это определённо обозначало: зайти за водкой.
Возражения не последовало. Мы купили поллитровку, набралось ещё на хлеб и на традиционную селёдку. Продавщица взвесила закусь, а во что завернуть, не нашла. В те времена ведь о пакетах можно было только мечтать. И никакой обёртки вообще не предусматривалось, покупатель сам обязывался решать, как ему быть.
Мы осторожно и отстранённо осмотрели друг друга.
– Слушай, может, того…– сказал я обиженному автору и кивком показал на карман его пиджака, где топорщилась рукопись повествования о чаятах.
Тоскливая блажь моментально слетела с Бориса. Он обрёл веселоватое, нескованное настроение, и поскольку теперь над нами витало ещё предвкушение некоего торжества, даже сам поторопился смахнуть обиду с себя. Расплылся сначала в откисавшей ухмылке, а затем и в добрейшей улыбке, обозначавшей, что лучшего выхода из ситуации у селёдочного прилавка ему бы и желать не хотелось.
– Очко в твою пользу, – сказал он и бодро подал рукопись продавщице, а меня пробуравил взглядом, скрывавшим разудалое безразличие перед несвоей хитростью.
Ещё не приняв товар, мы, как придурки, расхохотались в оба горла, и не могли успокоиться даже когда расстались после распития меры.
А вскоре об этом «выходе из положения после порки» узнали все члены литобъединения. Смеялись до слёз, до колик. Одобрительно похлопывали по плечам и меня, и Бориса, уже и невозможно было разобрать – за что конкретно…
В литературе Борис наработал сущую мелочь. Публикации были в газете, отбиравшей из копилки литобъединения «Океан», да по несколько подборок стихов и коротких новелл печаталось в сереньких коллективных сборниках произведений таких же неуёмных энтузиастов, как и он. Не смущаясь их возрастами, наблюдатели даже из профессионального писательского сообщества именовали их в те поры и нередко даже сейчас именуют не иначе как молодыми писателями или поэтами. В какой-то степени это оправданные обозначения. Они указывают на то, что, проходя школу любительских объединений, такие влюблённые в литературу люди если ещё и не научились хорошо писать, то уже подошли к этому вплотную, дело лишь за тем, есть ли у кого из них желание двигаться в своём увлечении настойчивее и дальше.
Также при этом указывается и на то, как и насколько обогащаются их кругозор и знания литературы. Известно ведь немало литераторов, начинавших как любители и своими яркими творениями давших фору перед лавиной скучных и пассивных вещей, созданных писателями из числа выпускников литературных институтов или соответствующих специальных курсов.
Могу к этому добавить, что в литкружке энтузиасты находят ту особенно привлекающую их сферу эффективного живого общения, в какой «варятся» и воспитанники литинститутов. С некоторым, конечно, отличием от последней. Если для будущих дипломированных писателей оно, общение, подогревающее творческий процесс, часто заканчивается с выходом из стен альма-матер и становится крайне эпизодическим, то, наоборот, кружковцы могут пребывать в нём сколько угодно долго. Нет, разумеется, того заряда, который усваивают слушатели на обязательных лекциях нередко у живых классиков. Но нет и того холодного безразличия, каким официальные писательские организации потчуют, бывает, при обращении к ним не только любителей, но даже и известных мастеров слова из разных мест, куда их забрасывает судьба. Постоянное общение способствует росту уверенности любителей в своих творческих усилиях, выработке ориентиров, добротного литературного вкуса. Всё это ценится ими очень высоко.
Не став писателем, Борис Витрик ничего не потерял, но зато существенно обогатился в интересе и понимании литературных миров, их энергетики и эстетики. Будучи постоянно сильно загружен врачебными делами, он и много лет спустя находил время посещать занятия литкружка, чтобы принять участие в обсуждениях новинок, в слушании лекций и текущей информации о литературе.
По уровню подготовки в стихии художественной словесности от прежнего хирург отличался уже в разы. Он много и внимательно читал, выписывал наиболее прогрессивные литературные журналы, хаживал по библиотекам, собирал свою коллекцию книг. Совершенно легко он ориентировался теперь и в современной, и в классической литературе. Из компанейского потешника автор незадачливого рассказа о чаятах превращался в интересного и умного собеседника. Внимательно выслушивал новичков кружка, когда те обращались к нему. Насколько позволял его опыт, брался помогать им советами или грамотным разбором написанного.