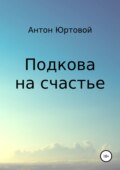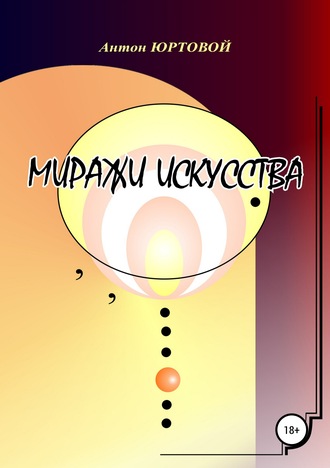
Антон Юртовой
Миражи искусства
Далее: что плохого в копировании?
Эстетике невозможно пребывать в одной, замкнутой форме. Изящное художественное произведение нуждается в том, чтобы его увидели, услышали, прочитали многие, или же – оно должно исполняться во множестве. Никому ведь не приходит в голову затаптывать ногами или жечь репродукции картин и рисунков, выпускаемые из печати иногда миллионами экземпляров. Неосуждаемо тиражирование фильмов, книг, многократное повторение спектаклей, записей концертов.
Почему не пойти также и тиражированию в той сфере, в отношении которой издавна говорят, что по-настоящему восхищает и ценится в ней лишь оригинал, а копия с него, наоборот, воспринимается как что-то постное и дурное? Насколько это оправданно?
Иную копию даже лучшие профессиональные эксперты не способны отличить от оригинала. Что в данном случае за дело приобретателю, ставшему собственником того или другого? Есть ли на самом деле тот критерий, по которому потребитель вынуждался бы предпочесть из них лишь одно и непременно первичное?
Эти вопросы да не покажутся праздными. Люди стремятся украсить свою жизнь, и современная цивилизация открывает для этого широчайшие возможности.
Привычными стали красивые интерьеры, машины, издания, строения, доступные всем художественные поделки, нательные украшения. В то же время что-то удерживает от повторённого. Что?
Мода, устремляясь к собственной выделенности и распахивая свои объятия перед поклонниками, тем не менее изо всех своих сил бунтует, когда её обязывают раствориться в массовом, двигаться к потребителю с обычного унылого конвейера.
Словно в какой-то ловушке оказались оборотистые промышленники, предлагающие на продажу искусственный изумруд. Хотя по виду он совершенно схож с природным да и составом и в акте воспроизведения он по существу лишь повторяет его, следует за ним, любителей украшений и перекупщиков по-прежнему устраивает только природный.
Подобных несоответствий великое множество.
Занимаясь копированием, Керес, безусловно, поступал дурно. Однако по-настоящему дурно только в том смысле, что не он был создателем картины, он не имел прав-юре на чужое творение и выдавал копии без согласия автора, уже как свои оригинальные произведения. Если и можно упрекнуть его в чём-то ином, то такие упрёки можно смело рассматривать и как придирки. Профессионал улучшил образец, в одинаковом виде распродал то, что сумел улучшить. В данном случае уместно, может быть, говорить о Кересе даже как о реставраторе. А что? Я забыл отметить, что Ольга Васильевна, рассказывая мне о судебном процессе, подчёркивала: никто из истцов ни словом не обмолвился о недостаточной, низкой художественной ценности приобретённых копий.
Надо понять, что приобретавшие, если бы им не стали известны моральные угловатости совершённых сделок, то они и во всю их жизнь вряд ли бы возникли со своими претензиями. Подделки их устраивали в существенном и самом главном. Владея ими, они бы довольствовались или даже гордились ими.
Бесспорно: на их месте почти любой вёл бы себя так же. Это вполне естественно проистекает из того, что имеющий некий эквивалент богатства хотя и может коситься на другого, имеющего то же самое, но только не из-за единицы измерения, которая или одинакова для обоих, или с лёгкостью конвертируется.
Когда есть много отменных копий с отменного, достойного образца, – разве плохо от того, что в разы умножалось бы число людей, располагающих возможностью прямого доступа к ним, то есть одновременно и – к самому образцу?
Как традиционно выглядит процесс пользования им, произведением только в одном экземпляре? Его надо уметь уберечь от порчи уже при хранении, а дальше, в ходе перевозок и демонстраций, защитить от грабителей, мошенников; при естественном износе – отреставрировать. С чередой этих манипуляций связаны огромные опасения лишиться вещи, утратить её, и только из-за того, чтобы не допустить потери, нужны колоссальные издержки, часто непредвиденные.
В этом свете даже вопрос о двусмысленности вещного или денежного вознаграждения поддельщику не должен бы, кажется, приобретать особой, осуждающей окраски.
Сколь бы ни была большой полученная им сумма, она будет во много раз перевешена доходами от демонстрации, доходами, которым суждено бесследно раствориться в совокупной востребованности и быть уже фактом восприятия или, если угодно, употребления эстетического – в его эфемерном, неосязаемом, отвлечённом виде. Совокупное восприятие, то есть потреблённая эстетика – это как раз та желанная величина, в которой выражается итог всей работы – и мастера, и копирайтера. Всё, что сюда не относится, только показатель уровня попутного, побочного, дополнительного обслуживания потребителя.
Полагаю, ясно, что я здесь говорю только о добротной подделке.
Есть и другой важный мотив отказа от традиции. Это когда собственник один, и он не желает обременяться никакими демонстрациями. Держит образец при себе, и в этом находит своеобразное удовлетворение. Или забаву. Или умысел. Или тайну – как в случае с Греем17 и с его портретным изображением. В редких случаях, теша своё сермяжное самолюбие, такой затворник покажет приобретённое кому-нибудь из друзей, родственников, начальников корпораций или учреждений. Когда скончается, то же предпочтут наследники. Денежный эквивалент, разумеется, в любой момент готов ожить и куда-то двинуться. Но вовсе не исключение, что образец опять попадёт в руки владельца с замкнутым интересом к искусству и сермяжным самолюбием. То есть – в очередной раз переместится под глухой замок.
А с эстетикой – что? С её эквивалентом?
Какова им цена, и в самом ли деле образец, оригинал чего-нибудь стоит, если он остаётся взаперти? Ведь вовсе не те уже времена: взамен ему в несчётных тиражах гуляют по свету печатные репродукции, по качеству порой просто отменные. Как тут ни повернуть, а единственный образец, когда он хоть по каким причинам отодвинут от широкого потребителя, – это нонсенс. О каком бы шедевре ни шла речь.
При том, что частные коллекционеры всегда начеку и готовы хоть за какие деньги удовлетворять свои интересы лишь как приобретатели, а в затратах на физическую сохранность образцов, как правило, до неприличия скряжничают, удастся ли хотя бы и очень толковой реставрацией поддерживать нужное состояние того, что может после них остаться, скажем, – полотен-оригиналов Рафаэля, Веласкеса, Рубенса, Винчи, – в течение ближайших десяти или хотя бы пяти, трёх тысяч лет? Ответ очевиден. Перед воздействием вечности не устоять даже изображениям на керамике, статуям из камня и сверхпрочных сплавов.
Можно к задаче сохранности привлечь науку, передовые технологии. И всё равно: неизбежно придёт срок – перестанут помогать и они.
Если говорить исключительно о полотнах, о произведениях живописи, то их размещённость даже в открытом космосе – предприятие сомнительное. Там понадобилось бы их оберегать от метеоритов, лучевого ветра. Спуск на землю и первая же перевозка и демонстрация обернулись бы заметным их разрушением. Особенно тревожна участь гигантских, монументальных комплексов. Таких как египетские пирамиды, роскошные современные и древние дворцы, храмы. Уберечь их от естественной гибели невозможно. Построить их точные копии, значит, идти навстречу абсурду. А ведь это объекты всемировой культуры, всеобщее достояние.
И как тут быть?
При всей наружной и внутренней открытости таких объектов и самом широком развитии туризма увидеть и осмотреть их натурально, не экранно или по репродукциям и фотоснимкам, подавляющей части жителей земли никогда не удастся… Можно показывать оригиналы гигантских изображений и композиций, таская их по планете иллюзионом, что, кажется, и сегодня уже под силу такому маэстро как Копперфилд18. Но всякий иллюзион, хотя и есть искусство, но – искусство обмана, эффектного обмана, притом лишённого образности – в её специфичном, художественном значении. И мы бы довольствовались только суррогатами, каковыми, если быть откровенными и смотреть на вещи реально, представляются те же виды с экрана, репродукции и фотоснимки…
Но если к условиям бесчувственной и беспощадной вечности и надёжное сохранение, и удобная отдельным людям и поколениям обозреваемость образцов никак не приложимы, то явно по-другому обстоит дело с их копированием. Не говорю, что здесь уже найден выход. Хотя в том значении, каким его можно представить сейчас, он всё-таки есть; по своей новизне он, правда, ещё какой-то почти диковинный, холодный, обеспокаивающий, и всё же…
Чтобы устранить у потребителей врождённое недоверие к суррогатам, а, коль говорить прямо, – сбить шелуху со скованного нелепым догматом традиционного предложения, спроса и купли-продажи, человеку, работающему над образом, достаточно создать одну или несколько одинаковых копий с него. Одинаковых абсолютно. Такое было бы чудом. Для мастера здесь тупик. Более, может быть, морального свойства: где это видано, чтобы кто-то создавал художественную вещь и сразу умножал её.
А вот путём клонирования создать абсолютно одинаковое или максимально неразличимое, пожалуй, и не чудо, и не аморально. Умные роботы могут сконтролировать похожесть экземпляров на уровне атомов или ещё точнее.
Мастеру, будь он уже в настоящее время согласен втянуть себя в эту чуждую, испепеляющую эмоции промышленную стихию, пока пришлось бы только призадуматься и заглушить досаду в себе: образ он ещё волен сам предлагать и разрабатывать, но, чтобы придать ему изящную форму, был бы вынужден манипулировать аппаратами.
А в дальнейшем оригинальные технологические открытия, наверняка, могли бы освободить его и от самого главного – от работы над образом и даже от инициативы к такой работе…
Перед необходимостью перехода к творчеству при помощи роботов любого, кто создаёт художественные ценности и стремится быть честным перед собой и миром, должна охватывать болезненная, цепенящая дрожь. Но сами люди, творцы прекрасного, неостановимо и очень усердно трудятся над тем, чтобы как можно ближе придвинуться к пугающей их отдалённости.
Им не позавидуешь.
Попадая под изощрённые выплески официальной пропаганды и авторитетных мнений, на странный, подданнический лад понимая задачу приобщения народов к разнообразным искусствам, они уже в большинстве истратились на второстепенное, на то, где образному, а, значит, по-настоящему художественному и изящному, места отводится всё меньше и меньше.
В тысячах, если не в миллионах торговых лавок, сбывающих произведения изобразительного искусства, давно стало тесно от изобилия предметов художественного творчества. С полотнами в рамках соседствуют мелкая пластика, статуэтки, чеканка, да чего только нет. Из-за недостатка места изделия размещают на полу, прямо под ноги покупателям, не заботясь ни о сохранности, ни об уважении к сотворившим это многообразие. И разве речь только об изделиях изобразительного ряда?
Переполненные запасники – обычное явление в музеях, библиотеках, салонах, театрах, студиях. От сообщений о запасных, годами не выставляемых потребителям образцах и коллекциях, а также поступающих в хранилища многочисленных новых произведениях всё больше разбухают интернетские сайты и блоги.
Число поделок быстро увеличивается в связи с развитием и усовершенствованием художественного образования. Не только академического, но и пониже, вплоть до начального. Его всё больше ориентируют на окупаемость, когда труд живописца или мастера графики в целом рассматривается не как творчество, а всего лишь частью поставленного на поток сервиса. Многие специальные учебные заведения уже насплошь перевели свои программы на обучение молодёжи в угоду кем-то запланированного спроса на будущие безликие поточные изделия, по значимости, как вещи художественные, обычно равные тем, каких уже более чем достаточно в действующих торговых и рекламно-выставочных залах.
С горечью приходится указывать здесь на то, что такие залы посещаются потребителями всё более неохотно, очень часто они вовсе безлюдны. Но и это не всё.
Открываются разного рода шарлатанские курсы и семинары, где, как правило, за плату берутся обучать желающих рисованию, художественной графике или даже масляной живописи – всего за несколько дней, а то и в течение одного занятия.
Как тут не будет прибавляться поделок!
Спрос на такую продукцию обречён падать в геометрической прогрессии к её возрастающему объёму. Люди, потребители не хотят иметь дела с аляповатостями, с лубочностью, с толстыми наложениями лака уже поверх изображения и на рамках, с примитивными сюжетными решениями, с бесконечными повторами тематики. Содержание перенасыщено влиянием патриотизма и шовинизма, религиозных легенд и канонов, антиглобализма – в виде искусственных углублений в этногенез. Творческие находки редки и отнюдь не так чтобы очень оригинальны. Когда такое наблюдается под воздействием нарастающего предложения, неизбежен кризис. Учреждениям, и частным лицам приобретённого становится более чем достаточно, и никто не намерен обременять себя лишним, о чём здесь уже сказано выше и необходимо будет коснуться ещё.
Также всё труднее устанавливать и использовать новые творческие направления, освежающую стилистику и технологию исполнения. Уже довольно часто не наступает хорошей отдачи в замыслах, реализуемых с помощью импрессий и экспрессий. Это – в замыслах более-менее талантливых, а, значит, и оригинальных. О других и говорить нечего.
Здесь игра светом и красками хотя и превращена в виртуозное и в некотором смысле таинственное действие, когда, как например, написанная по методике Мельникова картина открывается для рассмотрения не вблизи, когда она невидима и «слепа», а – лишь с некоторого расстояния, с отдалённости, – однако разрешение образа и в этом или подобных случаях остаётся на уровне уже давно и хорошо освоенного мастерами прошлого.
Вещью, произведением в таком виде бывает легко удивить простаков, но ими не дано по-настоящему взволновать нашу недоверчивую, насторожённую чувственность. Её ведь уловками не проведёшь.
Именно уловку иногда выдают за что-то центровое, которое будто бы следует считать важным секретом удачи и достойного качества, а затем и – популярности. Разумеется, ничего при этом не объясняют, имеют уловку в виду, говорят о ней, и всё. Наверное, полагают, что так сильнее щекочет. Наивность, но, бывает, сходит за правду. Так, у романиста Коэльо в одной из его книг19 художник Харт удачлив и востребован чуть ли не с того дня, когда он впервые занялся живописанием, а было ему в то время, как сообщает писатель, что-то в пределах двадцати.
К двадцати девяти он со всех сторон обложен заказами на картины, имеет завидный материальный достаток, вхож на самые верхи, ни от кого не зависим, может себе многое позволить, одна за другой устраиваются выставки его работ.
Харт увлечён проституткой, рисует её и говорит ей, что его в ней заманивает исходящий от неё свет.
Ничего больше не приоткрывая читателям, автор имеет в виду, конечно, не самый обычный свет, а символизирующий нечто возвышенное, располагающее к созданию на полотне не иначе как шедевра. Тот самый свет, который как условный признак в характеристиках некоторых людей или образов «угадывается» многими интеллектуалами и обывателями так часто, что давно затёрт и превращён в понятийный штамп. Коэльо протаскивает его по многим страницам своего произведения, тем самым окрашивая повествование фантасмагорией, и, чувствуется, этим весьма доволен…
В той же книге литератор показывает Харта как знатока истории проституции и как своеобразного наставника полюбившейся ему проститутки новейшего времени, – наставника по части самых свежих изысканий и приобретений в стихии половой страсти и соитийной эквилибристики.
В притоне на рю де Берн в Женеве, куда Харт захаживает, он «особый клиент», поскольку и заплатить может больше, и у него вроде как есть немалый опыт использования потаённого в наслаждении, которое, как надо понимать по ходу развития сюжета, проявляет себя не только в удовольствии, но и в боли, в физическом страдании, в падении. На сей счёт художник устраивает возлюбленной урок чего-то напоминающего неомазохизм, а затем читает ей целую лекцию, в частности, о существовавшей ещё в Шумере, а после и в дохристианском средиземноморье так называемой священной проституции – это когда женщина, подчиняясь традиции, должна была сама предложить себя мужчине и отдаться ему, причём нередко – первому встречному.
Словами Харта писатель рассказывает о том, что традиция плотно входила в религиозные каноны и что она исчезла, не просуществовав и двух тысячелетий. Почему? Этого, якобы, никто не знает. Скорее всего, не знает сам Коэльо. И вследствие этого он умалчивает также о причинах возникновения странной сексуальной традиции из далёкого прошлого.
Сконструирована загадка. Но она не таит ничего неизвестного.
Рухнула, как не оправдавшая себя, одна из первых постродовых, ещё близкая к матриархату, модель устройства семьи. Этой моделью предусматривалось вводить в семью в качестве жены только одну женщину – для старшего из сыновей. Другие могли по старшинству претендовать на неё, как на жену себе, только ввиду смерти женатого. И по-иному жениться не имели права. Поскольку же в древних обществах весьма низкой была продолжительность жизни, не более тридцати – тридцати пяти лет, то многие бедолаги холостяки просто умирали, не дождавшись желаемой очереди. К этому надо ещё добавить, что успешное возвышение государственности, то есть упорядочение архаичных укладов происходило тогда преимущественно через завоевания, через войны, в которых то ли на полях сражений, то ли в плену гибло всё больше мужчин.
Масса женщин оказывалась незамужней. Новое, чем мы живём сейчас, только ещё должно было придти на смену. И как раз в тот период страшно упала рождаемость.
Со стороны религий, где, кстати, божествам-женщинам, как и земным женщинам часто отводились главенствующие роли, зазвучала тревога, и возник обычай, соответствующий тогдашним примитивным верованиям: женщину стали осуждать и стыдить, а кое-где и преследовать и карать – за незачатие.
Явление отдачи первому встречному было массовым и, с нашей, сегодняшней точки зрения, походило на всеобщую анархобордель. Но это не было проституцией! Женщина не претендовала ни на какую мзду, наоборот, когда её предложение себя оказывалось принятым, ей самой позволялось осыпать избранника благодарностями и благами…
На что только не приходится идти ради приличной литературной завязи!
Сама героиня романа, проститутка Мария, выслушав речи Харта, записала в своём дневнике: «Мне плевать, считалось ли когда-нибудь моё ремесло священным или нет, но я его ненавижу». Этим она ясно показала, в какой мере её наставник и как современный человек, и как мужчина, и как художественный образ выдуман писателем. Поскольку проституция в её новейшем виде штука не из тех, которые можно преподносить то ли как безобидные, то ли как достойные всё более широкого распространения. Несмотря на глубокомысленные отсылки к древностям.
Здесь нелучшее сводится к тому, что в романе Харт – одна из центральных фигур. Ему явно недостаёт свежайших знаний. В частности, о том, откуда и при каких условиях берётся и копится противоречивое и многоликое в женщине, в женской природе. Читатель вправе не доверять и ему, и, значит, всей концепции книги…
Далеко уже завели человечество несоразмерные с существующей мировой духовностью многочисленные творческие амбиции, которые плещутся под черепными коробками современных подвижников, претендующих называться гениями.
Эти представители новой генерации поисковиков, распираемые неуёмной смелостью в изобразительных интерпретациях, уже, бывает, легко перешагивают через хорошо всем известные условности в оценках существующих идей и теорий, исторических событий и исторических лиц, традиций, религиозных догматов и проч. Им часто всё нипочём.
Объяснение этому не столь уж и сложное: современная цивилизация всё дальше отодвигается от запретов того, где могут попираться наши потребности и наши представления, особенно же потребности и представления в эстетическом – сфере, которая и всегда раньше стремилась заявлять о своём естественном праве быть максимально свободной в изображениях реального. Это её назначение настолько величественно и заманчиво, что люди, будто заворожённые, не сумели пока придать ему упорядоченную значимость; до сих пор оно остаётся зыбким и не уложено в хорошо осознаваемую человеком зависимость. Слово «максимально» вполне безвинно и как бы по-детски меняют на слово «абсолютно». После чего манипуляции в творчестве лишаются не только ориентиров, но и основ; им остаётся одно – постоянно ронять себя, заваливаться, рушиться…
Теперь своим творениям их творцы часто придают настолько обобщённый, засимволический, малопонятный абрис, что непосвящённых ценителей это просто сбивает с толку. Вовсе, как правило, не новизной. Она только провозглашается, как рекламный трюк. Чтобы с нею не попасть впросак, используют в качестве уловки притворное невежество. Например, это те, кто склонен изображать человеческое тело и окружающие предметы в несуразных пропорциях и в изломах. Невежество им на руку, поскольку подобный стиль не однажды был в ходу в прошлом, и о нём лучше не помнить, а потребителям – не напоминать. Только ведь прошлое, историю ханжеством не прикроешь.
Стиль перекорёживания пропорций и линий теперь хорошо известен, в частности, по образцам изобразительного искусства времён первого египетского фараона-богоборца Эсхатона. Это – более трёх тысяч лет от наших дней.
Изыски и предложения иногда удивляют ещё и огромностью внешнего вида. Тут усердствовать вроде бы явно излишне: давно уже огромные размеры не способны выражать или подчёркивать некую, нередко мистическую задачу поразить чьё-то воображение, указать на всесилие властителя или принизить личность подданного. Эти важные основания большеформатного искусства растоптаны под причитания о свободе художественного творчества. Примеров сколько угодно. Скажем, какой такой необычный смысл выражали бы гигантские монументы «Рождение Нового Света» и «Рождение Нового Человека»?
С проектом возведения этих величественных композиций в своё время, с конца восьмидесятых – начала девяностых годов ХХ века, поносились много. Установить монументы предполагалось напротив друг друга на противоположных берегах Атлантики, в Европе и в США, в ознаменование 500-летия открытия Америки. Уже начиналась и массированная подготовка к работам. Почему-то так получилось, что основной подряд на эту затею выпал правительству нищей и взбаламученной перестройками России.
По его распоряжению к местам работ уже было отправлено более семисот полновесных железнодорожных вагонов меди, стальной арматуры, цемента, стекла и других необходимых материалов. Задействованными оказались структуры МИДа, крупные фирмы, производившие стройматериалы, банки, таможни, морские порты, железные дороги, автотранспортные предприятия, даже ФСБ, минобороны и прокуратура. Последнюю более всего интересовала возраставшая в объёмах пропажа значительной части груза в пути. Следователи тогда заявили, что им не удалось выявить ни мест, откуда происходило умыкание, ни воров, ни стоимости украденного. Под влиянием скандалов, подобных этому, проект зашатался. О нём замолчали. Будто ничего такого никогда и не было.
А ведь как витиевато объясняли необходимость возведения композиций! Приплетали сюда и международное сотрудничество, и дружбу народов, и всеобщее благоденствие с высокой мировой культурой. Выходило же, что позабавились и только. Руководству страны просто, наверное, хотелось, как всегда, хоть из кожи вылезть, хоть без штанов, а о себе заявить.
Охотников подсовывать миру такие, с позволения сказать, плоды художественного творчества это нисколько не обескуражило. Церетелевский монумент Петру I в Москве тому подтверждение. Москвичи, да и не только они, его возненавидели ещё, кажется, до открытия. И что же? Возненавидевшим то и дело втолковывают, что памятник символизирует великую эпоху, начатую Петром, что в композиции выражена стабильность отечественной российской государственности, державность и проч.
Не из того же ли ряда архитектурные абстракции Гауди, оглушающие ритмы рок-музыки, игра на сцене преимущественно валянием по низам, то есть с опусканием на пол и ползанием, барахтанием по нему в театральных и балетных спектаклях, загаженные матом прозаические поделки Пелевина, бесконечные криминальные кинофантазии Голливуда? Свыкнется – слюбится? Так ли! Тут хотя бы иногда кто-нибудь нас одёргивал, задавался вопросами, пробовал искать ответы.
Что, скажем, в той самой государственности и державности, коими удивляет Церетели? Это ведь категории вовсе не эстетические. Как быть с московским Петром I нашим потомкам, которым когда-нибудь, может быть, даже совсем скоро, придётся жить на территориях сегодняшней России, но уже без России, что совершенно не исключено?
А оглушение музыкой!
Громче-то уже ведь нельзя. Громкостью что ли, барабанным ли стуком хочется превзойти образцы, оставленные Бахом и Моцартом? Или неймётся просто двигаться, разводить шум, бросаться куда ни попало? Влезать со своим новейшим шлягерным громыханием в нутро симфоний, лирических музыкальных этюдов, неспешных рапсодий? Даже в обычной устной речи тянет к рекордам, к опустошающим изворотам. К примеру, на «настоящем» радио, радио России, особенно в последних известиях и в передачах о спорте такую порой сотворят скороговорку, что уплотнённые слова и фразы будто раскаляются, вот-вот из них дым и пламя пойдут.
Дальше и здесь-то уже некуда!..
…Терпят крах попытки приспособить к живому искусству и к художественному творчеству так называемое «ничто». Как правило дело тут заканчивается изобретением какой-нибудь рисованной белиберды, которую, кстати, совершенно просто отмоделировать на компьютере. В поисках выхода на другие просторы бросаются в сомнительные заимствования, туда, где стилистика изучена и объяснена пока слабо. Вожделенные взоры обращены, в частности, к китайской традиции, где правили бал глубокая и тонкая сосредоточенность и созерцание. Однако найти в ней искомое вряд ли удастся: будучи великолепной в композициях и в смысле эстетики, она даёт образец такой степени догматизации, которая в новое время, очевидно, полностью исключала бы развитие творческого начала…
Почти такая же отдача от углублений в традицию иконописи. То, что в своё время этой части изобразительного искусства было суждено проявиться ярко и оригинально, вовсе не значит, что арсенал его достижений вполне пригоден для дальнейшего развития в такой противоречивой и обречённой эпохе, как наша. Несмотря на это пишущих иконы великое множество. Идут здесь от неких рассуждений о новом значении церкви и религии. Дескать, обе переживают возрождение – почему не быть возрождению и в близком к ним занятии иконописью?
Вопрос отдаёт схоластикой. Тем не менее работа не прекращается, своим размахом согревая сердца преимущественно попов. Это должно настораживать. Молиться можно и на самую захудалую икону. Только при чём тут будет настоящее искусство, рождаемое в муках творчества и в потребности?
Перемешивание стилей и опыта привело к тому, что нет больше устойчивых социальных критериев оценок. Прекрасным считается любое изделие, выполненное даже ребёнком, едва отбившимся от соски. Восхищаться в равной степени предпочитают красивым и безобразным, но – не изящным. Тому же научивают молодых… У любителей пожонглировать наукой накапливается опыт приобщения к исполнительской работе в изобразительных искусствах диких или одомашенных обезьян, кошек, слонов и других животных. Оригинальное, талантливое, из-за того, что не умеют и не успевают условиться насчёт его ценности или даже его порой просто некуда деть, размещают в одном ряду с образцами прикладного и оформительского искусства, в самых заурядных, часто мало кому доступных интерьерах.
И уже никто не берётся утверждать, как это плохо и неприлично. Наоборот, подчёркивается, что здесь прогресс. «У современных скульпторов, – говорилось в комментарии о содержательности одной из ежегодных российских выставок ваяния, – невозможно выделить какую-то общую тенденцию. Царит свобода формы и темы, художник творит что хочет».
Все эти признаки упадка заставляют говорить по крайней мере о двух важных особенностях, которые пришли в мир духовности и искусства от их перенасыщения образцами или, как ещё говорится, – от передозировки ими.
Первая особенность в том, что всё ближе подходит момент, когда едва ли не в полной мере должно изойти и избыть себя всё воплощаемое в искусствах. Его творцы и исследователи недостаточно оценили реальность, которая так велика, разнообразна и всеобъемлюща, содержит в себе такую могучую внутреннюю эстетику и чувственность, что искусство, слишком часто анархически управляемое людскими амбициями, начинает уступать ей и стремительно теряет свои позиции. Оно размывается и поглощается реальностью, в том числе, бесспорно, под влиянием развития техники, новейших открытий и технологий.
Можно искренне восхищаться древнейшими красочными рисунками на стенах пещер, натуральными и очень часто весьма талантливыми в чётком интуитивном уложении главных примет и интересов тогдашних людских общин и каждого отдельного человека. Эти образцы искусства хорошо помогали возвышать воображение и усиливали восприятие окружающего, добавляя людям как знаний, так и возможностей усовершенствования чувственности, ощущений, в русле чего как бы почти с нуля набирала мощи зарождавшаяся эстетика. И – совсем иное дело то, что творцы искусства пытаются отыскивать в наше время, время сплошной информатизации, когда об эстетике, имеющей свои законы и свои отличия или рамки, известно уже, кажется, всё. Достигнутое есть, видимо, уже некий предел, развитие в нём исчерпало себя, и, как в случае с любым идеалом, оно теперь способно устремляться, пожалуй, только в сторону от жизни, где как раз место несуразностям и извращениям; туда сейчас и спроваживают его современники, подкрепляя свою неуёмную старательность всяческими благими расчётами и ожиданиями и не желая осознавать, что заходят всё дальше в тупик…
Вторая особенность упадка неразделима с первой – с тем же фактом перенасыщения.
Как потребитель искусства, человек не в состоянии воспринять всё, что предлагают творцы. И если он потребляет лишнее, если окружён красотой сверх меры, утоплен или задавлен ею, то дают себя знать явления «порчи» от художественного. Одно из них получило название синдрома Стендаля – это когда у людей не только обычных, обывателей, но и у тех, кто отличается устойчивым интеллектуальным складом характера и ума, начинаются тревожные и даже пагубные отклонения в аппарате индивидуальной психики.